Книга вторая
Белая тишина
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
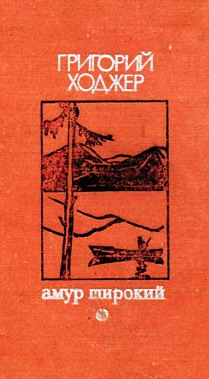
 |
| Г. Ходжер |
|
|
прибрежных кустов, стрекот кузнечиков, тихая воркотня уток, ожидавших
потомства.
Амур устало несет свои воды к океану, он весь изрезан, испещрен
водоворотами и походит на старое морщинистое лицо нанай.
Пиапон стоял на корме большой двенадцативесельной лодки — халико,
глядел вокруг и радовался звонкому утру, песням птиц, которых перестал
замечать с ранних лет, как только встал на тропу охотников. И только в
минуты счастья к нему возвращалось полное обаяние детского восприятия
природы, когда амурская вода приобретала вкус меда, когда напоенный ароматом
цветов и трав, воздух кружил голову; только в такие минуты будто
раскрывались глаза, обострялся слух и он видел узкие речушки с купающимися в
них тальниками, свисавшие к воде цветы, купавшиеся в озерах лилии и белые,
как лебеди, облака над головой. Красота!
Пиапон смотрел на отсвечивающую воду Амура, на обманчивый горизонт, где
река сливалась с небом, закрывая от взора дальние голубые сопки, горы с
белыми шапками.
«Велик ты, Амур, велик, — думал Пиапон. — Ты ровня только небу да
солнцу».
А солнце медленно и величественно поднималось из-за сопок, теплые лучи
ощупывали землю, тянулись к каждой травке, к каждому набиравшему силы
листочку, к птицам и зверям, спешившим спрятаться в это время в гнездах,
норах и рощах.
«Вот и сплелись солнечные волосы с землей», — подумал Пиапон.
Гребцы халико тоже любовались пробуждением земли, и весла их вяло
буравили тихую, сонную воду Амура.
— Куда подъезжаем? — спросил Американ, высовывая голову из-под одеяла.
Он спал на середине лодки.
— Это тебе что? Думаешь, русская железная лодка, чтобы так быстро ехать
из стойбища в стойбище? — ответил сидевший на первом весле Холгитон. —
Говорили тебе, езжай на железной лодке — сам отказался.
— Хватит тебе сохатиную жилу жевать. Тошнит, — сонно огрызнулся
Американ.
— Меньше бы пил вчера, а то больше всех выпил, да со всеми женщинами
переспал.
— Скоро приедешь к гейшам, там хватит и тебе.
— Мне не надо их, я уже не пригоден к такому делу.
— Врешь, — оживился Американ, — а дети-то чьи?
Все засмеялись, оживились, и сразу со всех спала сонливость, гребцы
заговорили, подхватили шутку Американа.
Пиапон слушал шутки гребцов и вспоминал, как они спорили перед выездом,
на чем удобнее ехать — на русской железной лодке или на своем халико. Одни
говорили, что железная лодка очень удобна, не надо грести, мол, доедем до
Хабаровска, купим или выпросим халико у тамошних нанай. «Лентяи, —
возражали им сторонники халико, — хотите по-русски ездить, сложа руки».
«Нанай вы или кто? — кричал Холгитон. — Мой отец халада был, много раз
ездил на маньчжурскую землю и всегда ездил на халико». «Полоумный был твой
отец, — отвечали ему, — он не знал, что есть железная лодка, иначе бы
захотел на ней прокатиться».
Наиболее спокойные охотники рассуждали так: «Свое все же есть свое, что
хочу, то и делаю. Захотел я заехать к родственникам, скажем в Найхин, — и
заехал; захотел день погостить в Сакачи-Аляне — погостил. Попробуй-ка на
русской лодке заехать в Найхин, ан нет, не заедешь: она останавливается
только в больших русских селах. Свое все же есть свое».
Охотники ехали по своему желанию без хозяина-торговца. Поэтому они могли
заезжать в любые стойбища, гостить по нескольку дней; по решению
большинства, могли останавливаться в удобных охотничьих местах, чтобы
попытать счастья и, если подвалит удача, запастись свежим мясом. Приволье —
ездить без хозяина! Хозяин не даст своевольничать, он спешит в Маньчжурию,
ему надо скорее сдать всю пушнину.
Солнце поднималось все выше и выше.
— Вон впереди Гион! Нажимайте, дети нанай, не осрамим наше лицо! —
воскликнул Американ.
«Отоспался, засоня, — подумал Пиапон. — Ох и любишь ты, друг, поспать!
Будто он не охотник».
Халико приближалось к большому русскому селу Славянке, которое нанай
называют Гион — медь. Приземистые рубленые дома тянулись вдоль берега,
возле каждой избы хозяйственные пристройки, на берегу лежат коровы, лениво
прожевывая жвачку, лошади сонно обмахивают бока хвостами. Бесшабашная
ребятня вышла на берег Амура, и самые нетерпеливые уже залезли в воду и
бултыхаются в холодной воде. Молодухи, подоткнув широкие юбки, оголив белью
ноги, полоскали белье.
Гребцы поднажали, по бокам халико вспенилась вода, как у русских
железных лодок, бронзовые лица охотников потемнели от натуги.
— Гольдяцкий паровик! Гольдяцкий пароход! Гольдяцкий потовик! —
кричали ребятишки.
— Поехали в свою Маньчжурию, — говорили старики, греясь на
завалинках. — Зачем они туда ездят, бог их разберет. Той же муки, крупы
здесь вдоволь можно приобрести на их пушнину, а они едут, силы тратят,
детей, жен оставляют на все лето.
— Манжуры-то их родня вроде бы по крови, язык один, все понимают.
Родственная кровь, видно, зовет.
— Эх, нам бы с тобой перед смертью съездить к себе, а?
— Да, съездить бы... Как там Расея-то родная...
— Расея-то и здесь она Расея, а Славянка...
Славянка осталась позади, гребцы шумно дышали, вытирали пот с лица. Все
были довольны, не осрамились, показали свою силу, ребятишки восторгались
ими, молодухи с белыми, как мука, ногами заглядывались на них, позабыв о
стирке, и каждому молодому гребцу казалось, что молодухи смотрели только на
него, любовались только им.
— В полдень будем в Долине, но полдничать будем в Джари, — объявил
Американ.
Долин по-нанайски — половина — большое русское село Троицкое, но
почему село названо «половиной», никто сейчас не может вспомнить.
Вышло, как сказал Американ: в полдень приехали в Троицкое, полдничали в
нанайском стойбище Джари, на ночлег приехали в Найхин.
— Кобели, в каждое стойбище хотите заезжать, чтобы с женщинами
спать, — ворчал вечно недовольный Холгитон. — Перерубят где-нибудь вам
головы хунхузы, будете помнить мои слова.
В спорах последнее слово обычно оставалось за Американом, так как ему
принадлежало халико. Где он достал или купил халико, никто не знал и не
интересовался, его халико — и все, он, выхолит, хозяин. Американ, как
владелец лодки, был вторым кормчим вместе с Пиапоном.
— В Сакачи-Аляне сделаем отдых, мне надо кое-какие дела там сделать, —
заявил Американ. — Может быть, задержимся на день, на два.
Молодые гребцы, их было большинство, впервые выехавшие из своих стойбищ
в столь дальнее странствие, с восторгом принимали предложения владельца
халико, каждая остановка в незнакомых стойбищах сулила новые знакомства,
новые впечатления.
Пиапон тоже был не против, он впервые в жизни поднимался так высоко по
родному Амуру и чем дальше удалялся от своего Нярги, тем больше
заинтересовывался окружающей природой, людьми, стойбищами. Он впервые так
близко познакомился с земляками, говорящими на верхнем наречии, которых
низовские нанай называли «акани». Удивляли его темперамент акани, обилие
незнакомых слов в их речи, их знание китайского языка. Пиапон слышал, что в
Сакачи-Аляне проживает много акани, и потому даже обрадовался, услышав
заявление Американа.
Сакачи-Алян, как и Джоанко, Джари, был расположен на возвышенности.
Пиапона удивило разнообразие типов жилищ в стойбище: рядом с фанзами стояли
рубленые русские избы, низкие землянки, на берегу белели хомараны и конусные
шалаши. Пиапон не знал, что в этих хомаранах и временных шалашах обитали
островные жители, фанзы которых были затоплены большой водой.
— У кого есть родственники, идите к ним, молодые можете на день-два
пожениться и устраивайтесь в фанзах жен, — засмеялся Американ. — У кого
нет родственников и кто не может пожениться, спите в халико, — закончил он
и хитро взглянул на Холгитона.
Пиапон решил остаться в халико, но Американ пригласил его остановиться у
своего друга.
— Сторожей здесь хватит, — сказал он.
В Сакачи-Аляне было пять рубленых изб, одна из них принадлежала другу
Американа Валчану Перменка. На пороге избы гостей встретила русская женщина,
вежливо ответила на приветствие и на чистом нанайском языке рассказала, что
муж на лодке уехал сопровождать трех незнакомых русских, которые
интересовались изображениями на камнях и на скалах возле стойбища.
— Он вот-вот вернется, тут совсем близко, — сказала она и ни за что не
отпустила гостей, пока не накормила и не напоила чаем.
«Какая она гостеприимная, будто нанайка», — восхищался Пиапон,
прислушиваясь к приятному голосу женщины.
— Видел, какая красавица жена у моего друга? — сказал Американ, когда
женщина зачем-то вышла из дома.
Пиапон, сидя за высоким столом на табуретке, огляделся вокруг. Все было
как в русском жилье, вместо нар стояли кровати, высокий стол, табуретки и
самое привлекательное — сиденья со спинками были сплетены из каких-то белых
крепких прутьев. Таких сидений Пиапон не встречал даже в русских домах в
Малмыже.
«Жена русская, потому все русское», — подумал он.
После чая гости попрощались с хозяйкой и зашли в соседний рубленый дом.
Здесь была такая же обстановка, как у Валчана.
«Сами делают или где покупают», — гадал Пиапон, глядя на мебель.
— Это тоже мой знакомый, Пора Оненко, богач, — шепнул Американ.
Пора, пожилой человек с реденькой бородкой, с хитрыми смеющимися
глазками, вышел из-за перегородки, где шумно галдели пьяные голоса.
— А-а, Американ, а-я-я! Какой водоворот тебя затащил в такой радостный
день? — обнимал Пора Американа. — Дочка моя родила сына, мучилась,
мучилась, да вот шаман Корфа помог ей. Спасибо ему. Садись, садись к столу,
и Пиапон тоже садись.
Пора пил водку с друзьями и с шаманом Корфой за перегородкой на
обыкновенных нанайских нарах за низеньким привычным столиком. Здесь было все
обычное, как во всякой нанайской фанзе, если не считать стоявшего в углу
шкафчика с посудой.
Выпив три чашечки водки, Американ стал прощаться, ссылаясь на занятость,
обещал вернуться вечером и вышел из дома.
— Не люблю этого хорька вонючего, — сказал он на улице. — Всегда
хвалится своим богатством. «Я самый богатый на Амуре нанай! Я самый, я
самый...» Где его богатство? Дурак, не знает он, что на Амуре есть нанай
богаче его, да только они не хвастаются. Видел у него стулья какие, шкафчик,
стол, кровать? Кровать для виду поставил, или, может, молодые на ней спят, а
сам на нарах спит. Обожди, хорек вонючий, мы тоже не последние, увидишь.
— Ты тоже о богатстве любишь говорить, — улыбнулся Пиапон, — хочешь
разбогатеть, а богатые почему-то тебе не нравятся.
— Много ты понимаешь! Будь богачом, но не хвались.
— Он и не хвалился.
— «Не хвалился», а видел, как важно сидит, как... Одним словом, сволочь
он, хорек вонючий.
«Чего-то не поделили, что ли?» — подумал Пиапон.
— А-а, Американ, друг мой самый большой!
У дверей дома Валчана стоял высокий, широкоплечий, с черно-коричневым
лицом рыбака, человек. Это был хозяин дома Валчан Перменка. Американ подошел
к нему, они обнялись, похлопали друг друга по спине. Потом Валчан по-русски,
за руку поздоровался с Пиапоном и пригласил их в дом.
— Катя, талу нарежь, есть приготовь скоренько, — распорядился он и,
повернувшись к гостям, продолжал: — Приехали к нам вчера трое русских, двое
молодые, а третий, видно, старший, с бородкой остренькой, усами, какой-то
обросший, худенький и в очках. Ученые, говорит, мы, а сам интересуется
такими безделушками — смешно! Здесь рядом со стойбищем есть большие камни,
на них лоси, лица страшные начерчены. На некоторых завитушки точь-в-точь
такие, какие наши женщины пальцами рисуют на черемуховых лепешках — дутун.
— Так в легенде же об этом рассказывается, — сказал Американ. — Как
раньше на небе три солнца было, было так жарко, что камни были мягкие, как
черемуховые лепешки. Вот тогда и сделали эти лица, узоры и зверей. А
помнишь, в легенде, два лишних солнца убил ведь первый шаман из рода
Заксоров, вот мой друг Пиапон — Заксор. Может, эти завитушки сделали
Заксоры?
— Кто знает, — сказал Пиапон. — Легенда говорит, это нанай сделали.
— Теперь никто не помнит, — сказал Валчан, поднялся и принес маленькие
фарфоровые чашечки, склянку водки. — Эти русские не нашли валунов, они под
водой. Я им показываю, что изображено на скалах, а бородатый сомневается,
говорит, это не человеческая рука сделала, это ветры, дожди сделали. В
очках, четыре глаза, потому не видит, что это рука человека сделала. Старики
рассказывают, что этими лицами, зверями интересовался какой-то приезжий
ученый человек, несколько дней, говорят, что-то делал с ними. Умные люди, а
безделицей занимаются.
— Если люди издалека приезжают, видно, эти камни цену имеют, — вставил
слово Американ.
Валчан усмехнулся, странно посмотрел на друга и ответил:
— Продай их, деньги заработаешь.
— Тяжело везти в Сан-Син, лодка мала.
— А я все же немного денег получил. За то, что возил сегодня на
лодке — заплатили.
Хозяин дома и гости пожелали всем родственникам, детям здоровья и выпили
водку. Жена Валчана принесла тарелку мелко нарезанной талы из осетрины и
опять вышла в летнюю кухонку.
«Будто нанайка», — снова восхитился Пиапон.
— Хватит говорить про камни, пусть ими бездельники занимаются, —
сказал Валчан. — Ты, Пиапон, молчальник, наверно, слова от тебя не
услышишь.
— Я не видел этих камней, изображений не видел, потому и молчу. Легенды
говорят, что птиц и зверей на камнях выбивали нанай.
— Опять о камнях, — поморщился Валчан. — Рассказал бы, где охотишься.
— О, это удачливый охотник, лучший в наших местах, — вставил слово
Американ.
— Охочусь, где придется, теперь ведь нет своих охотничьих мест.
— Это верно. Помню, лет десять назад на своем ключе я встретил двух
молодых русских, они самострелы расставляли, помню, один был рыжий, другой
большой, широкий.
— Где это было?
— По Анюю, в верховьях.
«Неужели это Митрофан с Ванькой были? В тот первый год они поднимались в
верховья Анюя».
— По-нанайски говорил широкий?
— Да, он еще спросил, зачем я их гоню, мол, тайга большая, мест много.
А ты что, знаешь их?
— Точно не скажу, может другие были, ведь теперь много русских,
говорящих по-нанайски.
«Да, это были Митрофан с Ванькой», — подумал Пиапон.
— Русских все больше и больше становится, весь Амур уже заселили,
теперь китайцы еще полезли, как муравьи, за ними ползут корейцы, скоро нам,
нанай, места не останется на родной реке.
— Хватит места, земля наша большая.
— Хватит, говоришь? Ты что, за то стоишь, чтобы наш Амур другими
народами был заполнен, как вода заполняет его осенью?
Пиапон взглянул на Валчана, увидел в глазах злые огоньки и подумал:
«Чего человек злится?»
— А что, плохо это разве? Тебе плохо? Ты женился на русской, русский
дом построил, на кровати спишь, за столом на стульях сидишь, у тебя в доме
чисто, как в домах богатых русских. Это тебе плохо?
— Я не об этом говорил.
— Нет, ты об этом говорил. Если бы не было русских, ты бы и не знал,
что можно построить такой дом и так чисто жить. Китайцы и Маньчжурии к нам
давным-давно приезжают, наши деды и отцы к ним наведываются, но разве мы где
построили дома, похожие на китайские? Разве жили, как живут мандарины? А ты
у русских сразу все перенял.
— Хватит лаяться, не забывай, что пришел в чужой дом, — сказал
Американ.
— Пусть говорит.
— Не я начал, Валчан сам захотел этого разговора.
— Русские тебе нравятся, потому что ты с ними дружишь, они тебе
рубленый дом построили, — проговорил Американ.
— Да, верно ты говоришь, Американ. Я с ними дружу и буду дружить не
потому, что дом построили, а потому, что они мне нравятся.
— Женишься на русской? — спросил насмешливо Валчан.
— У меня есть своя жена...
— Вторую заимей.
Пиапон уже не видел в глазах Валчана злых огоньков и решил весь разговор
повернуть на шутку.
— Двух жен кормить, что десять упряжек собак кормить. Не ты их
прокормишь, а они тебя съедят.
Все засмеялись, громче всех захохотал Валчан.
— А ты, как шиповник с иглами, такого даже три жены не съедят, —
сказал он хохоча.
Выпили еще несколько чашечек водки. Хозяин дома и не думал разогревать
ее в кувшинчике, как делали это старики в низовьях Амура, он разливал ее
прямо из склянки. Пиапон почувствовал опьянение, голова стала тяжелей, в
глазах помутилось, будто он смотрел на собеседников сквозь грязное стекло.
— Я к тебе по делу заехал, — слышал он голос Американа.
— О деле сейчас не говорят, — отвечал Валчан.
— Мне некогда, я к тебе по пути в Сан-Син заехал.
— Зачем я тогда тебе нужен, там все и решишь.
— За мной едут две лодки богатые, болонский и хунгаринский торговцы.
— Когда выезжают?
— Завтра — послезавтра.
Собеседники заговорили по-китайски, и Пиапон больше ничего не понимал.
Американ все время горячился, а Валчан, напротив, оставался спокойным,
невозмутимым. Разговор длился долго. Жена Валчана нажарила картошки, осетра,
все поставила на стол и опять исчезла.
— Хватит говорить, питье протухнет, — заявил Валчан и спросил
Пиапона: — Ты по-китайски понимаешь?
— Нет, — сознался Пиапон.
— Как же ты с гейшами в Сан-Сине будешь разговаривать?
— А ты русский выучил только затем, чтобы с женой говорить?
— Ну, шиповник! Настоящий шиповник, люблю таких людей. Давай, Пиапон,
будем дружить с тобой.
— От дружбы с хорошим человеком отказывается только сумасшедший.
Валчан засмеялся, хлопнул Пиапона по плечу.
— Будем всегда друзьями, может, на охоту когда вместе пойдем, а?
— На охоту я всегда готов идти.
— На о-хо-т-у, — многозначительно повторил Валчан и взглянул в глаза
Пиапона. — Не побоишься?
— А чего бояться, не на тигра ведь пойдем.
— Э-э, тигр что, чепуха, на нашей охоте страшнее. Ладно, пустой
разговор, выпьем и пойдем продавать мою охотничью одежду. Эти трое
бездельников, кроме чертовых рисунков на камне, интересуются всякими
женскими и мужскими одеждами. Пойдем все трое, продадим мою одежду, потом
еще будем пить.
Жена Валчана достала из обитого жестью сундука охотничий костюм: обувь,
шуршащие наколенники из рыбьей кожи, красочный передник, куртку из меха
косули, нарядную шапочку с соболиным хвостом на макушке и накидку. Весь
костюм был богато орнаментирован опытной рукой вышивальщицы.
«Неужели это русская женщина так вышивает», — подумал Пиапон и, как бы
отвечая ему, Валчан сказал:
— Мать вышивала, раза два на охоту брал. Деньги нужны, продам.
— Жалко, мать вышивала, — сказала Катя.
— Тебе все жалко, — со злостью выкрикнул Валчан. — Зачем мне нужен
этот наряд? Перед тобой красоваться?
— Мать вышивала.
— Что мать? Ну вышивала, что из этого?
— Память это, — по-русски ответила Катя.
— По-нанайски говори, здесь все нанай. Не возьму в гроб такую одежду,
да и умирать не собираюсь.
Валчан свернул охотничий костюм, сунул под мышку и вышел из дома. Гости
последовали за ним. «Крутой этот охотник, как наш отец в молодости», —
подумал Пиапон.
Трех бездельников, как их называл Валчан, встретили на крыльце дома Поры
Оненко. Щуплый старик с бородкой клинышком, с усами и бакенбардами, в
маленьких с тонкой золотой оправой очках, оживленно беседовал с окружавшими
его охотниками. Двое других русских находились тут же, разглядывали
вырезанных из дерева бурханчиков и о чем-то тихо переговаривались.
Перед стариком в очках лежали всевозможные поделки: домашние дюли,
полосатые собаки, разные звери, идолы, отслужившие свою службу, а то и
просто в «наказание за свою нерадивость» выброшенные из дома.
— Этот исцеляет от кашля? А этот от боли в животе? — спрашивал старик
в очках.
Ему охотно отвечали, обстоятельно разъясняли, что к чему. Некоторые
идолы, видимо, нравились старику, он долго рассматривал их, будто
принюхивался.
Валчан подошел, растолкал односельчан.
— Охотничий наряд, говорил, нужен, зачем тогда бурханчиков
покупаешь? — спросил он своим громовым голосом. — Бурханчики тебе помогать
не будут. Понимаешь? Они уже сделали свое дело, излечили больных, они не
нужны. Понимаешь? Вот моя одежда, на охоту ходил, в тайге молился.
С этими словами Валчан развернул охотничий обрядовый костюм и положил
перед русским. Старик сразу же взял нарядную шапочку с соболиным хвостом и
начал ее вертеть перед носом.
— Вы сказали, что на охоте носите эту одежду? — спросил он.
— Зачем на охоте? Из дома уходишь — оденешь, потом в тайге молиться
надо эндури (Эндури — главное нанайское языческое божество.), тогда тоже
оденешь.
— А еще когда вы носите эту одежду?
— Больше никогда.
— А как молятся в тайге?
Валчан охотно начал рассказывать, как он молится в первый день прихода
на место охоты солнцу, гэндури, хозяину тайги, хозяину речки и ключей.
Старик в очках много раз останавливал его, переспрашивал и торопливо
записывал.
После беседы он купил костюм. Тогда к нему подошел Пиапон.
— Если будешь ехать вниз, заезжай в наше стойбище Нярги, там тоже много
хороших вещей, — сказал он.
— Если по пути, то заеду. Как говорите, стойбище Нярги?
— Да, да, Нярги, возле русского села Малмыж.
Когда отошли в сторону, Валчан спросил Американа:
— Как ты думаешь, хорошо он заплатил?
— Денежный человек, видать. А хорошо или плохо, как разберешь? —
ответил Американ. — Зачем ему никому не нужные сэвэны?
— Кто его знает. Говорил, когда ездили на лодке, что приехал из самого
большого города, где царь сидит.
Ни сейчас, ни позже и никогда не узнают Валчан с Американом, что они
беседовали с выдающимся этнографом Львом Яковлевичем Штернбергом и никогда
не прочтут его труд «Гольды», который он начинает так: «15 мая (ст.ст.) 1910
г. я выехал из Петербурга...»
То ли Американ был неопытным хозяином и рулевым-дого, то ли он нарочно
делал длительные остановки в стойбищах и ночлеги на пустынных островах, —
этого не мог понять Пиапон. Сам он никогда не бывал в Сан-Сине, но не
однажды слышал, что охотники едут и днем и ночью в любую погоду и делают
остановки только в крайних случаях. Удивляла Пиапона и беспечность хозяина
халико: рулевой-дого должен постоянно находиться у кормового весла, заменять
Пиапона, когда тот уставал, но Американ будто позабыл, что он дого и почти
не подходил к веслу.
Когда проплывали мимо пологого берега, все гребцы выходили из лодки,
впрягались в веревку, как собаки в упряжку, и тянули ее на бечеве. Американ
же оставался в халико и лишь покрикивал на охотников.
«На глазах меняется человек, — думал Пиапон. — Какие-то несколько лет
назад, когда охотились вместе, был совсем другим, а теперь — не узнаешь.
Отчего он стал таким? Оттого ли, что деревянный дом построил? Или, может,
потому, что стал хозяином халико и на время хозяином гребцов? Совсем
разленился. На охотника не похож, спит долго, покрикивает на людей, как на
собак. Нехорошо. Другой стал Американ, совсем другой».
Потом мысли Пиапона перенеслись домой, в Нярги, от которого он все
дальше и дальше удалялся. Вспомнил жену, дочерей, одна из которых уже была
замужем, другая на выданье, вспомнил присмиревшего постаревшего отца,
братьев и сестер. И у него опять защемило в груди, как тогда, когда покидал
родной дом. Он опять и опять спрашивал себя, какая неуемная сила поволокла
его в эту неведомую таинственную Маньчжурию? Любопытство? Стремление познать
неведомое? Да. Все это верно. После того как Пиапон десять лет назад поездил
по Амуру в поисках сбежавших из дому Идари с Потой, он постоянно мечтал о
новой поездке, у него появилась необъяснимая жажда познания окружающего.
Жаждущий пьет воду, а Пиапон не мог утолить своей жажды, потому что не мог
выехать из дома, не обеспечив семью продовольствием. Только нынче зимой ему
удалось добыть столько пушнины, что он вдосталь оставил дома крупы, муки,
взял с собой другую часть пушнины, на которую надеялся накупить продуктов на
зиму.
Он даже не смел думать о поездке в Маньчжурию. Он хотел, как Калпе,
который уже раз ездил на русской железной лодке до Хабаровска — Бури,
съездить вниз по Амуру до Николаевска, который нанай называют — Мио. Но во
всем виноват Холгитон.
Как-то зимой на охоте, когда Пиапон пришел в его аонгу слушать сказки,
он начал рассказывать о Маньчжурии. Холгитон рассказывал о Сан-Сине так,
будто родился в этом городе и прожил половину жизни, а на самом деле он
никогда не бывал в нем. Пиапон почувствовал, как начала жечь его давнишняя
жажда, и он решил во что бы то ни стало, при первой возможности, съездить в
эту страну, посмотреть на нее своими глазами, пощупать своими руками.
И такая возможность вдруг представилась: прошел слух, что хозяин халико
Американ собирается ехать в Сан-Син. Пиапон сперва договорился с зятем, с
братьями Калпе и Дяпой, чтобы они заготовили ему летом рыбий жир, осенью
кету и юколу, и, лишь когда те дали согласие, поехал к Американу в Мэнгэн.
Узнав о предстоящей поездке Американа и Пиапона, засобирался и Холгитон.
«Перед смертью хочу, чтобы моя нога походила там, где ходила нога моего
отца-халады», — торжественно заявил он.
Халико все выше и выше поднимался по Амуру, и Пиапон уже много узнал
такого, чего никогда не увидел бы, сидя в Нярги, познакомился с интересными
людьми, которых никогда бы не встретил.
Но чем дальше удалялся он от родного дома, тем больше ощущал, как
раздваивается он сам: один Пиапон рвался в Хабаровск — Бури, в Сан-Син,
другой тянул обратно в родное Нярги.
«В Хабаровске — Бури продай пушнину, закупи что надо, садись в русскую
железную лодку и вернись в Малмыж, а там до дома — раз плюнуть», — твердил
второй Пиапон.
«Плешина твоего отца (Плешина твоего отца — нанайское оскорбительное
выражение.). Посмотрим Сан-Син!» — протестовал первый.
— Дорогу осиливают только сильные, — неожиданно для самого себя вдруг
сказал вслух Пиапон.
Американ приподнял голову, удивленно посмотрел на кормчего.
— Чего разглядываешь? — спросил Пиапон.
— Ты что-то сказал?
— Вон впереди, что за мыс?
— Это уже Хабаровск, или по-нашему — Бури.
В город прибыли глубокой ночью. Гребцы устали смертельно, многие
засыпали за веслом и просыпались только тогда, когда их весла ударялись друг
о друга. Когда подъезжали к городу, Американ стал на корму, покрикивал на
гребцов, ободрял. Кое-как обогнули Хабаровский утес, возле которого сильное
течение отбрасывало назад большую почти пустую лодку. За утесом, проехав
немного, свернули в заливчик, забитый джонками, лодками, кунгасами.
Втиснувшись между двумя джонками, закрепили лодку и гут же уснули мертвецким
сном.
Утром Пиапон проснулся от людского гомона, от стука весел, топота ног.
Солнце только успело выкрасить небо в кроваво-красный цвет, а люди уже
заполняли берег, спешили куда-то по своим делам, Пиапон сам всегда вставал в
такую же рань и любил людей, которые на ногах встречали солнце, но сейчас не
мог заставить себя поднять голову и выйти на берег: все тело ныло, усталость
камнем давила на грудь. Пиапон вновь задремал и проснулся, когда солнце
поднялось над низкими домами, стоявшими на берегах вокруг заливчика.
— Ну-ка, наберите щепы, дров, доски, где можно стащите, — командовал
Американ.
— Как это стащить? Чужое? — спросил кто-то из молодых.
— Здесь тебе не в тайге, а город, если не стащишь чужое — другого не
достанешь. Живо шевелитесь, костер разожгите, котлы ставьте, уху будем
варить.
— А ты рыбу наловил? — усмехнулся Холгитон.
— Эх, Холгитон! Здесь город, здесь все можно купить, лишь бы деньги
были.
— Рыбу собираешься покупать?
— А что? Куплю.
«Рыбу покупать? — удивился Пиапон. — Это ту самую рыбу, которую мы
ловим своими руками?»
Пиапон знал, что русские торговцы охотно покупают у нанай рыбу, но он
впервые слышал, чтобы нанай для котла, для своего желудка покупал рыбу.
«Да, Американ уже везде побывал, он все знает», — подумал Пиапон,
надевая верхний халат.
Недалеко от заливчика на берегу Амура, будто муравьи, копошились сотни
людей. Китайцы, корейцы в больших корзинах на коромыслах носили молодую
зелень; краснощекие русские бабы предлагали молоко, творог, сметану, сливки;
бронзоволицые рыбаки молча подавали покупателям живых, разевавших пасти,
словно зевая, сомов, трепыхавшихся желтых, с лопату, карасей, подпрыгивавших
на земле толстых сазанов.
Американ, взяв с собой Пиапона и молодого охотника, направился в эту
человеческую круговерть. Он шел через толпу прямой походкой независимого,
бывалого человека, бесцеремонно расталкивал людей, заглядывал в лица
торговцев.
Пиапона опять удивило это новое перевоплощение Американа, его важный,
независимый вид. «Да, Американ другой человек стал, совсем другой», —
подумал он.
Подошли к рыбному ряду. Пиапон еще издали, через головы людей, заметил
толстенького коротыша, бойко торговавшего рыбой. Он был в русской одежде, но
короткие косички болтались на затылке, как хвост поросенка.
— Риба, риба, сазан, сом! Сазан, сом! — вопил коротыш.
Американ подошел к нему, хлопнул по плечу. Коротыш обернулся. Пиапон
заметил его замешательство, растерянность в глазах, но торговец тут же
справился с собой, широко улыбнулся, обнял Американа.
— Приехал? Когда приехал? Почему не заходишь? — затараторил
коротыш. — Едешь, выходит, в Сан-Син? Слово выполняешь? Ты человек слова,
ты что сказал — всегда исполнишь. Заходи ко мне. Где остановился?
— Вот что, друг, — перебил его Американ. — Мои люди хотят ухи из
твоей рыбы. Голодные мы, понимаешь?
— Так ты же знаешь, это не моя рыба...
— Деньги будут. Давай рыбу, вода скоро закипит в котлах.
«Что же это такое? Нанай у нанай покупает рыбу? Как же так? Если он
городской нанай, то приезжему земляку продает рыбу, а не отдает так, как мы
отдаем любому, кто бы он ни был — русский, китаец, кореец? Это так говорит
закон города — своему земляку продавай рыбу?» — думал Пиапон, возвращаясь
к лодке.
Два костра с котлами вовсю полыхали.
— Плохо с дровами, — сказал Холгитон, — долго здесь не будем
оставаться.
— Посмотрим, — опять неопределенно ответил Американ.
После завтрака охотники оставили караульщиков и разбрелись по городу.
Пиапон шел с Холгитоном. Они поднялись наверх по пологой сопке и оказались в
городе. Прямо перед ними возвышались высокая церковь, правее красивое
трехэтажное кирпичное здание, дальше еще одно, другое, третье, дома стояли
один за другим, а между ними пролегла улица. Пиапон впервые видел такие
большие каменные дома, большие стеклянные окна, впервые встретил такое
множество людей. Он шел медленно, неуверенно, каждому старался уступить
дорогу, идя по самой обочине тротуара.
— Хорошо сделал, что поехал с вами, — говорил Холгитон, — а то умер
бы и не увидел этих домов да широких дорог между ними. Как ты думаешь,
Пиапон, наше стойбище все вместилось бы в одном таком доме?
— Я думаю, не только няргинцы, а и болонцы, хулусэнские, мэнгэнские —
все вместились бы. Дома-то эти вверх выросли.
— Если бы я в молодости видел все это, то мои рассказы были бы
интереснее, в сказках мои герои проходили бы через такие красивые города,
жили бы в трехэтажных домах. Ох, Пиапон, сейчас только я начинаю понимать,
как мы малы... нет не то, как мы мало знаем, мало видели и от этого,
наверно, глупее других. Пиапон, надо много ездить, много повидать, тогда
станешь умнее.
— Говорят русские, что люди умнеют от чтения книг.
— Может, это тоже верно, но я не знаю, я не умею читать.
Холгитон с Пиапоном опасливо и неловко заходили во все встречные
магазины, ларьки и подолгу рассматривали каждую вещь, в мыслях прикидывали,
как та или иная вещь подошла бы их женам, детям.
После полудня они вышли на утес. Отсюда, как на ладони был виден крутой
изгиб Амура, острова и редки.
— Смотри, Пиапон, как наш Амур здесь поворачивает, — восхищенный
увиденным, проговорил Холгитон. — Он как туго натянутый лук, вот почему
нанай свое стойбище на месте этого города раньше называли Бури! (Бури-Лук.
Так называлось стойбище, стоявшее на месте нынешнего Хабаровска.) Понял
теперь? И это я мог бы рассказать людям, и в сказках Мэргэн-Батор проехал бы
по реке, похожей на натянутый лук. Эх, Пиапон, почему я в молодости не
увидел всего этого!
«Не зря я поехал, еще много нового увижу», — подумал Пиапон.
Вечером Американ потащил Пиапона в дом торговца рыбой Кирилла Пассара,
который жил вправо от базара на гребне сопки. Дом рубленый, пятистенный,
обставлен кроватями, столами и стульями.
«Сакачи-Алянцы у него берут пример, — подумал Пиапон. — Может, это он
подыскал жену Валчану».
Пиапон с опаской опустился на плетеный стул, стул заскрипел под ним,
ножки заскользили по полу.
— Ничего, не сломается, — подбодрил хозяин. — С непривычки кажется,
что сломается, а так удобно, мягко.
— Богато живешь, — сказал Американ.
— Город — не стойбище...
— Если привыкнешь жить в нем, то забудешь, как ловят рыбу, которой
торгуешь.
Хозяин строго взглянул на Американа, нахмурился.
— Тебя паук укусил? — спросил он.
Американ промолчал.
— Завистливый ты, Американ. Ничего, ты скоро найдешь богатство, после
поездки в Сан-Син. Наверно найдешь.
«Везде у Американа знакомые и все богатые люди, — думал Пиапон,
прислушиваясь к беседе, — Смотри ты, хозяин-то дома по-хозяйски держится, а
утром был похож на снулую рыбу».
— На что намекаешь? — хмуро спросил Американ.
— Поумнеешь, — усмехнулся Кирилл. — Ладно, не хмурься. Я хоть и живу
в городе, но нанайские обычаи знаю.
Жена Кирилла, пожилая, раньше времени состарившаяся женщина, подала на
стол мясной суп, жареную рыбу и отварную картошку. Еда была приготовлена
по-русски, суп ели ложками, рыбу и картошку двумя палочками, водку пили не
подогревая, медными чарочками.
— В городе тяжело было жить года три-четыре назад, — начал
рассказывать Кирилл после нескольких чарочек. — Вы, наверно, тоже слышали,
что русский царь из-за чего-то поссорился с японским, подрались. Как они
дрались — не знаю, то ли боролись, то ли на кулаках, но из-за этого
началась война. Где-то далеко шла война, в Маньчжурии, но мы тоже вдруг
оказались вроде как на войне. В городе сразу стало много солдат, всякое
случалось с ними. Потом, говорят, русских побороли японцы, и тут уж совсем
плохо стало у нас в городе, народ с ума посходил.
Кирилл сделал паузу, с удовольствием разглядывая вытянувшиеся от
удивления лица Американа и Пиапона.
«Вот что значит жить в городе, все тут знаешь, не то что вы там где-то в
стойбищах», — как бы говорило его самодовольное лицо.
— В городе ведь всякие люди живут, одни торговцы, другие рабочие,
чиновники, всякие люди. И вот каждый из них захотел жить по-своему, как
хочу — так и живу. До чего дошло, губернатора и то не стали слушаться. Уж
кто-кто, о рабочих не говорю, они бедный народ и всем недовольны, а вот
солдаты, слышите, солдаты пошли против власти! Года три или четыре назад
летом солдаты выступили против власти. Говорят, многих убили и арестовали.
Чего им не хватает — не пойму. Их кормят, одевают, живут они в хороших
домах, казармами эти дома называют. На всем готовом живут — против
губернатора, своего начальника, выступают. Что за люди — не поймешь.
Хозяин чокнулся со всеми по-русски и выпил.
— Сколько живу в городе, но сам ничего не понимаю, — сознался он. —
Живется хорошо. Мне родственники, друзья привозят рыбу, я продаю; часть
денег отдаю им, часть себе забираю. Так живу. Хватает.
— Сами они продавать не могут? — спросил Американ.
— Они денег считать даже не умеют, их всякий покупатель обманет. А
меня, попробуй, обмани! Нет, меня никто не обманет. Если кто попытается, я
сам его обману. Вот когда война шла, а потом когда рабочие, солдаты против
власти пошли, тогда еды не стало в городе, все вдруг дорого. стало. Я сразу
смекнул, что это выгодно мне, говорю родственникам: везите больше рыбы.
Хорошо я тогда продавал рыбку, дорогая рыбка была. Теперь не то, теперь она
дешевая, теперь мне только ждать надо, когда народ еще против власти пойдет.
— А как ты узнаешь про это? — спросил Пиапон.
— Про это и глухой услышит, — усмехнулся Кирилл. — Народ выходит на
улицу, улица заполняется людьми, как Амур водой во время половодья. Вот как
бывает. Кричат, шумят, поют и красные флаги несут. Я теперь уже точно знаю,
как народ в городе зашумит, так и жизнь станет тяжелой, так и рыба станет
дороже. Здесь в городе ко всему, Пиапон, надо приглядываться.
— Сам ты рыбу ловишь, на охоту ходишь?
— Зачем мне ловить рыбу, зачем на охоту ходить? У меня деньги есть, еды
хватает, выпить тоже хватает.
Пиапон потер пальцами висок, напрягая мозги, чтобы понять мудрость
Кирилла, но так и не разобрался в услышанном.
«Умный этот Кирилл, — решил он. — Надо же так — рыбу не ловит, на
охоту не ходит, а сытно живет. Он чем-то походит на торговца Салова из
Малмыжа. Но Салов русский, с детства приучен к торговле, а Кирилл как
научился? Нанай ни писать, ни читать не умеет, а во всех городских делах
осведомлен, даже знает, что русский царь подрался с японским. А мы только
краем уха слышали о войне, да никто и не запомнил ничего о ней. Умный
человек!»
Только хотел Пиапон спросить Кирилла, умеет ли он читать и писать, как
услышал, что его собеседники перешли на китайский язык.
— Почему вы по-китайски говорите? — удивленно спросил он.
Американ никогда не задумывался перед тем, как что-нибудь соврать. И он
сказал Пиапону:
— Не обижайся. Мне надо проверить, насколько я понимаю китайский язык.
А с кем говорить, если не с друзьями? Они мне растолковывают непонятные
слова. Приедем в Сан-Син, я буду твоим толмачом. Хорошо?
— Говорите, мне это не щекочет уши! — ответил Пиапон и подумал: «Если
понимаешь язык, то зачем еще надо проверять?»
ГЛАВА ВТОРАЯ
В фанзе было прохладно. Травяная крыша надежно защищала от дождя и
снега, от огненных лучей летнего солнца и жгучего зимнего мороза. Правда,
зимой по ночам в фанзе сильно остывало — в ведрах вода покрывалась льдом, и
дети искали тепло у родителей. Но зато летом тут всегда было прохладно; сидя
на парах с трубкой во рту, приятно было наслаждаться этой прохладой.
Баоса выглянул в окно — ползавшие по сыпучему песку ребятишки
попрятались в тени под амбаром. Жарко сегодня на улице, так жарко, что
сквозь кожаные олочи песок жжет ноги. Из-под амбара выбежала восьмилетняя
дочь Агоаки Гудюкэн, видно, сильно жжет ее пятки раскаленный песок, иначе
она не стала бы прыгать, как зайчик на лесной полянке. Девочка подобрала на
песке ракушки, осколки разноцветных стекол, камешки и вприпрыжку вернулась
под амбар, где играли две младшие дочери — Дяпы и Калпе.
«Сами только на ноги встали, а уже щенков пеленают», — подумал Баоса и
усмехнулся.
В пояснице Баосы закололо, он выпрямил спину, погладил ладонью: старость
пришла. Год назад Баоса ни за что не признался бы в этом, но теперь не может
обманывать самого себя. Много всяких лекарств принял он, прибегал к помощи
шамана, наказывал хранителя фанзы - каменного дюли (Дюли — идол.), закапывал
его в песок, хлестал прутьями, а то и палкой избивал, но ничего уже не
помогало. За все лето не мог выехать на дальние озера порыбачить, не мог
попытать счастья на берегах горных речек, где бродили осторожные
изюбры-пантачи. Все лето сидит Баоса дома, вяжет сеть да любуется в окно
внучками и внуками. Хорошо, что окно из стекла, будь оно как раньше из
сомьего пузыря, он лишен был бы и этой последней радости. Спасибо Митрофану,
что не забыл старика и, когда стеклил окна в новом деревянном доме Пиапона,
принес кусок стекла и вставил в окно большого дома. Баоса хорошо помнит тот
день, тогда тоже было жарко. Пришел Митрофан, положил стекло на столик и
говорит: «Дед, я тебе свет принес, в большом доме с этого дня станет светло,
как на улице». Баоса посмотрел на большой стеклянный лист, мысленно
соразмерил с проемом окна, — стекло никак не подходило.
— Ты что, Митрофан, хочешь раму выбросить? — спросил Баоса. — Твое
стекло не влезет в окно.
— А мы заставим его влезть. Видишь эту штуку, алмаз называется, стекло
режет, будто твой нож бумагу.
Митрофан передал Баосе алмаз и, усмехаясь, наблюдал за ним. Баоса с
сомнением повертел алмаз в руке.
Тем временем Митрофан извлек раму, вымерил и начал, к удивлению Баоса,
алмазом резать стекло; провел — зирк — и белый след остался на стекло, но
стекло не распалось.
— Э-э, Митропан, твой алмаз только след оставляет, а мой нож кабанью
кожу надвое режет, — усмехнулся Баоса.
А Митрофан тоже хитро усмехнулся, слегка нажал на стекло, и оно
распалось на две половины.
— Вот так, — сказал он, — а твой нож на стекле даже следа не оставит.
Так в большом доме появилось стеклянное окно. Теперь ему достаточно
приподняться с постели, и он все видит, что делается на улице. Далеко видит.
Баоса прилег поудобнее и закурил трубку. На улице заплакала одна из
девочек, и тут же раздался голос Агоаки:
— Хорхой! Ты опять сестренку обижаешь? Исоака, Исоака! Погляди только,
что делает твой сын, опять обижает сестренку. Ах ты, негодный! Ну, погоди,
далеко не убежишь.
«Опять Хорхой, ох неугомонный ты, Хорхой, — усмехнулся про себя
Баоса. — Не Хорхой (Хорхой — квохта.), прямо ястреб».
— Мы из тебя суп сварим! — звонко закричала дочь Агоаки Гудюкэн.
В фанзу вошла Агоака, за ней по пятам плелись четверо детей, три девочки
и Кирка, сын Калпе. Старшая, Гудюкэн, подсадила младших девчушек на нары
рядом с Баосой, потом сама залезла, достала берестяную коробочку с
нанайскими куклами — акоан — и расставила их перед младшими.
Чем-то недовольная Агоака бренчала посудой возле очага и ворчала:
— Если эта Далда чего возьмет, потом не разыщешь. Уберет посуду, а ты
ищи здесь полдня. Гудюкэн, ты не видела большую чашку?
— Нет, — ответила девочка, не оборачиваясь.
— Тоже мне помощница растет, никогда она ничего не видит. Ты почему
Дяйбу не защитила? Ах, этот Хорхой, куда только отец смотрит! Ну, погоди, я
сама за него возьмусь, если отец с матерью не хотят его утихомирить...
— Ты одна шумишь на весь дом, — не выдержал Баоса. — Рано
состарилась, дочь, как старушка ворчишь. Чего мальчика ругаешь?
— Ты, ама (Ама — отец.), не защищай его, он такой негодный, всегда
сестренку обижает. Ему не нравится, что мать с отцом ласкают больше
девочку...
— Аих! Наговоришь ты...
— А ты не защищай! Какой жалостливый стал! Я что-то не припомню, чтобы
ты нас маленьких так жалел.
Баоса вытащил изо рта трубку, взял за мундштук:
— Я еще на ногах стою, руки еще палку держать могут.
— Вот, вот, ты только нас трубкой и бил по затылку да по лбу.
Агоака нашла наконец нужную ей чашку и, опасливо оглядываясь, вышла на
улицу. Баоса поморщился от боли в пояснице, заелозил в постели, устраиваясь
поудобнее. Рядом девчушки расставили куклы — акоаны.
— В гости не будем играть, — командовала Гудюкэн, — в гости мы уже
ездили, будем играть в мам, я буду вашей мамой.
Баоса невольно слушал эту детскую болтовню и вспоминал такую же игру в
акоан здесь, на этих же нарах, тогда дети изображали тоже своих матерей, жен
старших сыновей Баосы — Полокто и Пиапона. Долгих десять лет прошло с тех
времен. Десять лет не живут старшие сыновья с Баосой. Внучки, игравшие в
куклы, повыходили замуж и сейчас пеленают, качают в люльках своих младенцев.
Жизнь проходит, неумолимо проходит, незаметно подкралась старость,
мучают всякие болезни, заломит поясницу, да заноют кости ног, что-то
придавит грудь, так что трудно вздохнуть. Старости не избежать. Баоса уже
прадед, теперь ему надо считать уходящие года по своим болезням, а ведь еще
два-три года назад он вел счет по появлявшимся на свет внукам и правнукам.
Он радовался каждому новорожденному и особенно тому, который появлялся в его
доме: Баоса тогда еще лелеял мечту восстановить большой дом. Он не
рассчитывал вернуть старших сыновей, те обзавелись при помощи русских друзей
добротными рублеными домами, но с Баосой жили младшие сыновья да муж Агоаки,
«вошедший» в большой дом Улуска; появились внуки и внучки, заполнили дом
плачем, криком и звонким смехом. Появление младенцев в доме означало
восстановление большого дома, и Баоса не замедлил собрать совет мужчин, где
старшего удачливого Дяпу мужчины признали де могдани, а распорядительницей
домашнего хозяйства, продовольствия — громкоголосую старшую Агоаку. С этого
дня все законы большого дома вновь вошли в силу.
Но не прошло и месяца, как самый младший Калпе заявил, что тоже
собирается, по примеру старших братьев, обзавестись своим рубленым домом:
это означало, что он выходит из большого дома.
Баоса знал привязанность Калпе к Пиапону, помнил, как десять лет назад
младший заступился за брата, собрался вместе с ним выходить из большого
дома. Братья дружили все годы, бывали зимы, когда Калпе уходил из зимника
отца к брату и охотился с ним.
Баоса ничего не ответил младшему, он знал, что его слова уже десять лет
ничего не значат, что сыновья только вежливо выслушивают его, но поступают
по своему усмотрению. А стоит ему, как в прежние годы, накричать и поднять
руку, и они в тот же час уходят в дома старших братьев. В большом доме его
пока еще слушались лишь «вошедший» безответный Улуска да женщины. А с ними
разве восстановишь большой дом? Так старому Баосе пришлось отказаться от
этой мысли. Единственное, что он сделал, — это попросил Дяпу и Калпе не
покидать дом до его смерти. Сыновья промолчали, но, кажется, согласились с
ним, потому что до сих пор еще не готовят бревна для дома.
— Дедушка, разве палкой можно бить? — спросил Кирка.
Баоса устало закрыл глаза. Бил он палкой своих детей? Совсем еще
маленьких? Нет, как бы зол он не был, он никогда палкой не ударил ребенка;
другое дело, когда они повзрослели...
— Нельзя бить палкой, он обидится и совсем уйдет от нас, — сказал
Баоса. — Нельзя бить маленьких.
— Вот я говорил, я говорил, — торжествовал Кирка.
— А тебе не стыдно с девочками в акоан играть? Тебе уже пять лет, ты
совсем взрослый мужчина. Где твой лук и стрелы?
— Лук здесь, а стрел нет, Хорхой отобрал.
— Ах, этот Хорхой, я ему больше не буду делать стрел.
— Он все стрелы теряет, — Кирка на четвереньках приполз к деду. —
Дедушка, ты мне сделаешь новые стрелы? Такие, с набалдашником на конце. Если
такие стрелы будут, я в птичку попаду. Вчера я чуть-чуть не попал в птичку,
вот столечко промазал, — мальчик показал двумя пальцами промежуток не
больше толщины его мизинца.
— У тебя еще руки слабые, лук не можешь натянуть.
Мальчик согнул правую руку в локте, потрогал бицепс и гордо сказал:
— Потрогай, дедушка, на, потрогай, видишь, какие твердые, тверже, чем в
прошлый раз.
Баоса усмехнулся, потрогал тощие ручонки внука.
— Да ты прав, ты сильнее стал. Ты каждый день камешки бросай, стой
всегда в одном месте и бросай, чем дальше будет лететь камешек, тем,
выходит, больше у тебя силы. Потом в цель бросай, попадешь — хорошо,
выходит, у тебя глаза меткие, охотничьи.
— Я метко бросаю, я метче Хорхой бросаю...
— Э-э, это уже нехорошо, ты хвастаешь.
Мальчик покраснел, опустил черную головку.
— Больше я не буду, — еле слышно пробормотал он.
— Вот и хорошо: хвастуны, лгуны — самые нехорошие люди. Их никто не
любит. А честных людей все любят, и все им верят. Хорошо, я сделаю тебе
стрелы с набалдашниками. Только вот поясница болит, не могу...
— Я сам схожу, дедушка, я знаю, где стрелы растут.
«Шустрый мальчишка, добрый охотник выйдет, — думал Баоса. — Честный
должен получиться человек, отец его всегда мне в глаза все честно говорит.
Пойдет в Калпе — будет человеком. Только бы живы и здоровы выросли. Хоть и
нет большого дома, а все равно род наш увеличится».
В дом вошли Агоака с вкусно дымящимся котлом и жена Калпе, Далда. Агоака
забренчала посудой, начала раскладывать в миски горячие куски сазанов и
толстолобов. Далда подошла со столиком к Баосе и спросила, какие куски и
какой рыбы хочет свекор. Это правило, сохраненное Агоакой еще со времен
большого дома, пожалуй, было единственным преимуществом Баосы перед другими
мужчинами, приятным напоминанием прошлого, когда он был хозяином. Баосе
всегда приносили удовлетворение эти приятные вопросы невесток, и, чтобы не
выдавать своих чувств, он просил подавать то, что попадет в его миску. Но
Агоака всегда находила ему лучшие куски мяса или рыбы, а если наливала суп,
то густой и жирный.
Агоака выбирала лучшие куски сазана, когда в дом вихрем ворвался Хорхой.
— Дедушка, тетя! — закричал мальчик и запнулся под тяжелым взглядом
Агоаки. — Дедушка! Тетя Идари в гости приехала! Вон на берегу.
— Что? Что ты говоришь, Хорхой! — закричала Агоака, побросала все на
столик и стремглав выбежала на улицу. За ней выскочили Далда, Хорхой, как
лягушата попрыгали с нар девчушки и заковыляли на берег. Баоса приподнялся,
но в окно невозможно было увидеть берег, и он сполз с нар, подошел к настежь
раскрытой двери, постоял и вернулся на свое место.
— Приехали. Наконец-то, — прошептал он.
Агоака бежала что было мочи, легкий летний халат будто прилип к ее
раздобревшему животу и грудям. Она увидела возле вытянутой на берег лодки
любимую сестру Идари, старшего ее десятилетнего Богдана, мужа Поту; двое
младших еще не вылезли из лодки. Агоака подбежала к Идари, обняла ее,
прижала к груди, и слезы радости брызнули из глаз. Идари тоже всхлипнула,
обнимая сестру.
— Хватит, хватит, а то соленой станет вода в Амуре, — улыбнулся Пота,
помогая маленькой дочурке вылезть из лодки. Агоака перецеловала всех детей
сестры и тогда только обернулась к Поте. При виде его у нее всегда
появлялось смешанное чувство: она уважала и любила его как мужа сестры, как
родного брата своего мужа, но в то же время ее отталкивало изрытое оспой
лицо. Пота, видимо, понимал, что творилось с Агоакой, и всегда приходил ей
на помощь.
— Ну что, целоваться будем или как? Ты старшая, тебе целовать, —
пошутил он несколько неуклюже.
Агоака чмокнула его в щеку. А Идари обнимала и целовала всех встречавших
ее племянников и племянниц, слезы обильно текли по ее щекам, когда она
обнималась с женой Калпе Далдой и подругой детства и юности, а теперь женой
брата Дяпы Исоакой.
Пота вытаскивал из лодки вещи и тревожно поглядывал на фанзы. Вдруг его
лицо посветлело, он увидел торопившегося на берег отца. Ганга босиком, не
чувствуя обжигавшего полуденного солнца, спешил к сыну. Он сильно постарел,
волосы его побелели, ростом стал еще ниже. Ганга подбежал к сыну, уткнулся
лицом в его грудь — он был на голову ниже сына.
— Мой сын, сын мой, — бормотал старик. — Приехали. Долго будешь
гостить? Хорошо, что приехал, увидел тебя, дождался. Побаливаю я.
— Ничего, ама, ты еще нас переживешь, — улыбнулся Пота.
— Мать ведь тоже хотела, да вот...
Мать Поты, тихая безмолвная старушка, так же тихо и спокойно, как и
жила, ушла к своим предкам девять лет назад, Ганга остался один в пустой
фанзе, он не хотел переезжать к Поте на горную реку Харпи, не мог перейти
жить и в большой дом к Улуске — не позволяла гордость. Год он прожил один,
потом вдруг привез себе жену из Хунгари и зажил опять тихо и бедно.
— Внуками даже не полюбовалась...
— Зачем ты расстраиваешь себя?
Женщины подхватили вещи гостей и зашагали к фанзе. Пота с отцом шли
позади, отец рассказывал ему няргинские новости.
Когда Пота вошел в большой дом, Баоса сидел, подогнув ноги, на краю нар.
Пота и Идари подошли к нему и встали на колени. Баоса довольно проворно
соскочил с нар, поднял Поту и Идари с пола и поцеловал обоих в щеки.
— Как доехали, в Болони, наверно, переночевали? — спрашивал он. — А
где же мой помощник? А-а, вот он какой, охотник уже, — говорил он, увидев
подходившего к нему Богдана. — Научился острогой бить рыбу? А как
стреляешь? Что убил? Лося свалил? Без помощи отца лося свалил? Ах, какой
охотник! Я тебе все свое отдам. Раз ты такой охотник, я тебе все отдам, ты
моим кормильцем будешь.
Пота с Идари переглянулись.
— А где остальные мои кормильцы, почему они ко мне не подходят?
Баоса необычайно радостно встретил Поту с Идари, был разговорчив, как
никогда. Пота слушал болтовню старика и все больше хмурился. Он сел на нары
между отцом и Баосой, им подали трубки; Баоса начал расспрашивать о
харпинских, болонских новостях. Пота рассеянно отвечал на вопросы, у него не
выходили из головы слова Баосы.
«Кормилец, кормилец, — стучала кровь в висках. — Неужели он не забыл?
Все годы не напоминал, а теперь напомнил. Что же это такое, что будет с
Идари?»
А Идари, веселая, смеющаяся, носила на руках племянниц, угощала
леденцами, купленными в Малмыже в лавке торговца Салова. Потом, вспомнив,
подбегала к женщинам, рассказывала что-то смешное, и все хозяйки
закатывались звонким смехом. Идари была большая насмешница и, когда
оказывалась среди родственниц, могла про самый обыденный случай рассказать
так, что женщины валились на землю от смеха.
Пота любил жену по-прежнему, для него Идари была самой красивой, самой
нежной из всех живущих на земле женщин. Он ласкал ее, прощал мелкие
промашки, каковыми всегда обильна жизнь; позабыв о детях, о посторонних, он
мог в порыве нежности взять ее на руки и носить, пока руки не устанут, и,
только встретив осуждающие взгляды охотников и их жен, он густо,
по-юношески, краснел.
Пота знал таежные законы, запрещавшие это делать, но долгая дружба с
названным братом Токто, его бесстрашие перед могуществом хозяев тайги, рек и
гор поколебали прежнюю его веру в таежные законы.
Никто из охотников никогда не поднимал жен на руки. Какой уважающий себя
мужчина поднимет над собой женщину, ведь всякий знает, что они раз в месяц
бывают грязными, прикоснется охотник к грязной женщине, и навсегда покинет
его удача.
Старые охотники не раз вели с ним разговор о бренности человеческого
существа, о могуществе алых духов, которым не всегда нравится поведение того
или иного человека и что в отместку они могут наслать на людей страшные
болезни; они повторяли слова старого Чонгиаки, умершего в стойбище Полокан в
год великого мора. Намеки стариков на то, что Пота выжил во время этого мора
только потому, что за него заступились добрые духи, ему всегда не нравились.
Он знал — не добрые духи спасли его, а русский доктор Харапай. Часто перед
его глазами появлялось озабоченное лицо доктора, смешная его остренькая
бородка, голубые глаза Харапая внимательно смотрели в глаза Поты. Пота знал,
что именно русский доктор Харапай спас тогда всех жителей Болони от страшной
болезни, сделал всем болонцам надрезы на руках. Но если бы спросили Поту,
какая сила заключается в острие докторского ножа, он не смог бы ничего
ответить.
Так что пусть старики не говорят, что Поту спасли добрые духи, пусть не
намекают, что его сильная любовь к Идари вновь принесет людям несчастье!
Три года назад Пота вернулся с охоты и нашел жену больной, исхудавшей,
Идари ждала третьего ребенка. Пота, не задумываясь, сварил лучшие куски
кабарги и накормил нежным мясом любимую. В тот же вечер все стойбище узнало
о неблагоразумном поступке Поты.
«Кто же кормит беременную женщину мясом кабарги? — возмущались
охотники. — Все же знают, что после этого никогда кабарга не попадется в
петлю, за тысячи саженей будет обходить ловца. Ох, какое легкомыслие! Теперь
все, он больше кабарожьих копыт не увидит, не то что струи».
Один Токто помалкивал и посмеивался, слушая эти разговоры. А Пота
продолжал кормить Идари кабарожьим мясом, поить сладким подкрепляющим
отваром. Когда кончилось мясо, он вновь ушел в тайгу и через три дня привез
три кабарожьих тушки.
Старые охотники прикусили языки и растерянно разводили руками. А Токто
опять посмеивался, глядя на них.
...Идари продолжала смешить женщин и угощать детей леденцами. Пота
смотрел на нее и сам не замечал, как лицо его расплывалось в широкой улыбке.
«И чего это взбрело мне в голову? — подумал он, приходя в хорошее
настроение. — Ну, сказал старик «кормилец», так что из этого, другого
малыша тоже назвал «кормильцем». Просто он всех внуков называет
кормильцами».
— Как ты, ама, нынче охотился? — спросил он отца, ответив на очередной
вопрос Баосы.
— Какой я охотник? Глаза слезятся на морозе, а когда ветер в лицо,
ничего не вижу, — ответил Ганга. — Плохо охотился. Если бы хорошо добыл,
то поехал бы вместе с Холгитоном и Пиапоном в Сан-Син. Нет, больше мне не
увидеть ни русского города Хабаровска, ни маньчжурского Сан-Сина.
Ганга глубоко вздохнул, потягивая горький дым из трубки. Пота помнил
рассказы отца о поездке в Маньчжурию.
— Состарились мы, куда нам теперь ехать? — сказал Баоса. — Ушел от
нас друг мой Гадогангаса (Покойников запрещается называть по имени, к имени
прибавляется суффикс «нгаса».), теперь кто-то другой уйдет, может, я, может,
кто другой.
— Позовут предки из буни (Буни — загробный мир.), пойдем, —
согласился Ганга и опять глубоко вздохнул.
— Ты что-то часто вздыхаешь.
Ганга промолчал, он ни за что в жизни никому не расскажет, какая боль
гложет его сердце. Когда один находится в тайге или на рыбалке, слезы сами
начинают струиться из его слепнущих глаз. Может, он и слепнет от слез? Может
быть. Но не плакать Ганга не мог! Он растил двух сыновей, худо-бедно, но они
встали на ноги. Ганга гордился ими, не мог налюбоваться. Как и всякий отец,
он собирался женить их, построить большую фанзу и зажить вместе большой
семьей. Ганга в душе был мечтателем, особенно когда находился в состоянии
опьянения. В его голове тогда возникала удивительная мысль: женить сыновей
на дочерях маньчжурских мандаринов или торговцев, чтобы эти сердечные богачи
отвалили дочерям приданое, а потом снабжали дом Ганги мукой, крупой,
сахаром. Эх, и зажил бы тогда Ганга, но зная ни нужды, ни горя! Пил бы
каждый день, конечно, не так, чтобы валиться с ног, а так — понемножку для
подкрепления тела. Дом его был бы полон детьми, его внуками и внучками, они
ползали бы по нарам, залезали бы на его спину и при этом смеялись звонко,
как серебряные колокольчики. И Ганге казалось, что он на самом деле слышит
детские голоса.
Но стоило ему прийти в себя и вернуться к действительности, и Ганга
должен был признаться, что добытой пушнины не хватает на тори (Тори —
выкуп.) не то что за дочерей торговцев, а за самую среднюю девушку из
охотничьей семьи. Не мог Ганга накопить пушнины на тори за невест своим
сыновьям, все пропивал и за это теперь несет наказание: старший сын Улуска
«вошел» в большой дом, второй сын, Пота, приезжает в гости и останавливается
в большом доме. Ганга вынужден приходить к Баосе, чтобы повидаться с
сыновьями, с внуками и внучками. И по-прежнему пуста маленькая
разваливающаяся фанза Ганги, и, видимо, никогда ее стены не услышат детского
смеха.
Как не плакать Ганге? Он лишился двух сыновей-кормильцев и всех внуков и
внучек. Кого ему теперь в этом винить?
— Чего ты вздыхаешь, ама? — спросил Пота, не ведая, какие тяжелые
мысли заставляют вздыхать Гангу. — Переезжай на Харпи, вместе будем жить,
на охоту будем вместе ходить. Ты же знаешь те места, хорошая охота там,
звери всегда есть.
Ганга вытащил изо рта трубку и тихо сказал:
— Я здесь на Амуре родился, зачем мои кости хоронить на Харпи?
Пота внимательно оглядел отца, увидел его тощее тело, и сердце его
сжалось от жалости: «Постарел ама, может, на самом деле скоро помрет. Как
тяжело ему сейчас, а крепится, виду не подает. Может, мне надо было на своем
настоять и остановиться у него? Нет, Идари не убедишь».
— А я на твоем месте переехал бы, — сказал Баоса.
— Кто тебя держит, переезжай, — огрызнулся Ганга.
— У меня все дети здесь.
— А у меня кормилец Мангбу-ама (Мангбу-ама — Амур-отец.).
Баоса молча положил на край нар потухшую трубку.
— Вы будете сегодня нас кормить? — негромко спросил он женщин.
То сразу же засуетились, забренчали чашками и ложками. Уха остыла, но
Агоака рассудила, что в жару лучше есть остывшую уху, и начала раскладывать
куски рыбы по чашкам. Рыбы всем не хватало, сварили только для домашних, но
Агоака и вида не подала. Первыми она накормит мужчин и детей, если что-то
останется после них, то разделит между женщинами, а не останется, тоже не
беда — женщинам не впервые оставаться голодными, когда не хватает еды
мужчинам и детям. Женщины привычны ко всяким невзгодам, они двужильные.
Насмешит их Идари, посмеются они вдоволь и забудут, что в полдень им не
хватило рыбы.
Сыновья и дочери не узнавали Баосу: после приезда Идари с мужем и детьми
старик совершенно преобразился, каждый вечер стал выезжать ставить сети,
утром рано снимал их и возвращался с уловом.
— Ты, Идари, большая шаманка, как приехала, так и отец выздоровел, —
шутил Калпе. — Все время на поясницу жаловался, а теперь кто слышал его
жалобу?
— Постель его всегда пустует, — поддерживала брата Агоака.
— Не я тут виновата, его чем-то лечит Богдан, — отвечала Идари, и
глаза ее затуманились.
Больше десяти дней гостят Пота и Идари в родном стойбище, где они
родились, провели детство, где зародилась их любовь. По вечерам они, как в
юношеские годы, встречались у древнего мудрого валуна, и вновь их
захватывала, пьянила страстная любовь.
— Ты теперь не хочешь вновь повторить побег? — кокетливо спрашивала
Идари, прижавшись к мужу. — А я бы хотела.
— Если ты хочешь повторить побег, я сейчас же все быстро устрою, — в
тон Идари отвечал Пота. — Соберу вещи, детишек под мышки — и наш след
исчез.
— Богдан как?
— Богдан? Да...
Пота замолк и вдруг почувствовал под собой холод остывшего камня. Возле
мужа затихла Идари, тоже охваченная тревогой.
За все время, что они здесь гостят, считанные разы обращался к ним
сынишка с какой-нибудь просьбой. Все время от проводит с дедом, не отходит
от него ни на шаг. В первые дни Пота не тревожился, потому что Богдан и в
своем стойбище Хурэчэн больше бил привязан к Токто, чем к нему. Он понимал,
что не может так увлечь сына, как это умеет делать Токто, и потому мирился с
таким положением. Но здесь в Нярги эта внезапно возникшая привязанность сына
к деду не на шутку встревожила родителей.
— Что же тебе дед рассказывает? Учит охотничьим премудростям? — начала
раз допытываться Идари.
— О, эне (Эне — мама.), дедушка такой интересный, он столько знает! Мы
сегодня на ночь уезжаем на дальние озера.
— А о чем он рассказывает?
— Обо всем и так интересно это, так интересно! Я пошел помогать
дедушке.
Богдан, щупленький мальчишка с тонкими заячьими ногами, тонкой шеей,
вихрем сорвался с моста, и большая его черная голова резко качнулась назад.
За мальчиком устремились его новые друзья, собаки большого дома.
Баоса снимал с высоких вешалов сети, связывал их и клал возле себя на
горячий песок. Мальчик подбежал к нему, взял связанные сети, чтобы нести на
берег к оморочке.
— Постой, куда ты спешишь все время, — остановил его Баоса. — Ходить
по-человечески не можешь, все бегом да бегом. Звери в тайге, ты думаешь, все
время бегают? Нет, они не бегают. Вон собаки, видишь, тихо ходят, по
сторонам смотрят. А тебе все надо знать, потому приглядывайся. Вот посмотри
на эту суку, чем она отличается от того щенка?
Мальчик с серьезным видом начал разглядывать обеих собак, снял с их
боков клочки свалявшейся шерсти.
— Сука остроносая, а щенок тупоносый, — неуверенно ответил Богдан.
— А еще что видишь?
— Шерсть у суки короче, а у щенка длиннее и гуще.
— Хорошо заметил, правильно. А еще что?
Богдан еще тщательнее начал рассматривать и сличать обеих собак, но
никаких других примет, отличавших их, не находил.
— Сука ездовая, а щенок вырастет и будет хорошим помощником
охотника, — сказал Баоса. — Это просто понять, но только тебе еще не по
разуму. Я тебя потом научу, и тебе никто не подсунет дрянного щенка. —
Баоса улыбнулся, погладил шершавой ладонью теплую голову внука и спросил: —
Стрижи у вас на Харпи есть?
— Нет, стрижей нет, ласточки есть.
— Ласточки у нас тоже есть, в каждом доме их гнезда. Выходит, ты
стрижей не держал у себя?
— Нет.
— А какие птицы у тебя были?
— Большие коршуны. Цапля была, но мама сказала, что она нехорошая, глаз
может выклевать.
— А зверюшки какие-нибудь были?
— О, у меня был такой бурундук, он все понимал, глаза такие умные,
черные! Он долго жил у меня, все-все ел, я его даже в клетку не сажал, он
бегал где хотел, потом сам приходил.
— Хорошо. А хочешь стрижа поймать? Здесь недалеко они живут. Берег
высокий, и в нем сотни дыр — это их гнезда. Только опасно руки засовывать в
их гнезда, там иногда змеи отдыхают, съедят птенцов и отдыхают.
Баоса погладил голову внука.
— Но можно и не ехать, стрижи сами прилетят сюда. Сядут на вешала, а мы
тонким гибким шестом — раз! — и они посыпятся, как листья осенью, на
песок. Только быстро надо их хватать, иначе сразу придут в себя и улетят. Я
всегда так ловил стрижей. Вот и подумай, если бы стрижи не были глупой
птицей, разве можно было их так легко ловить?
— Если они глупые, тогда зачем их ловить?
— Просто так ловят, надо же всякие птичьи и звериные мысли знать с
малых лет. Какая из них умная, какая безмозглая, а какая хитрая. Все надо
знать. Птицы и звери тоже ведь как люди, думают, голову, мозги имеют.
После полудня Баоса с внуком отправились на дальние озера; они
прихватили с собой сети, большую острогу и малую для Богдана, ружье,
накомарник. Старик, неестественно выпрямившись, сидел на своем месте, сзади
него, где положено лежать грузу или охотничьей собаке, сидел Богдан: и
наравне с дедом работал двухлопастным легким веслом.
Берестяная, загнутая с обоих концов, оморочка быстро скользила по воде.
Переплыли протоку, на берегу которой стояло стойбище Нярги, потом по тихим
заводям вышли на широкое озеро Ойта. Озеро разлилось, затопило низкий
прибрежный тальник. Ровным рядом тянувшиеся телеграфные столбы глядели в
волу на свои отражения.
— Посмотри, Богдан, на эти столбы, — указал Баоса на телеграфную
пинию. — Зачем русские поставили их, да еще натянули между ними железные
толстые нитки?
Мальчик осмотрел ближайший столб, полюбовался белыми чашечками и помотал
головой.
— Я здесь много раз проезжал, эти нитки у этого столба уходили под
землю, потом переплывали озеро под водой, понял? На том берегу выплывали, и
их опять навесили на столбах, а столбы тянутся прямо, для них широкой
полосой тайгу вырубили.
— Зачем рубили? А на деревьях нельзя было навесить?
— Не знаю, Богдан, я сам ничего не знаю. Это все русские, они понимают.
Спроси у отца Кирки, он расскажет.
Богдан долго смотрел на столбы, на белые, как головки сахара, чашечки и
на проволоку, туго натянутую между ними, пытаясь разгадать, для чего все это
предназначено.
— А у вас на Харпи есть такое? — спросил Баоса.
Богдан сознался, что на Харпи этого нет.
Дед хитрый — в этом уже убедился Богдан — начнет рассказывать про
что-нибудь и прервет на самом интересном месте или скажет, что «это тебе
сейчас незачем знать, немного подрастешь, и я тебе все объясню».
— Видел, что у нас на Амуре есть? — продолжал Баоса. — У нас, как ни
говори, лучше, чем у вас на Харпи. Ты видел железные лодки? Они без весел
ходят, быстро ходят, на ста веслах, на тысяче веслах не догонишь.
Богдан давно слышал о русских железных лодках и давно мечтал увидеть их.
— Их просто увидеть. Как-нибудь съездим к нашим друзьям в Малмыж, день
проживем, два и увидим железную лодку.
Солнце скатилось к небосклону, нависло над белыми гольцами и смотрело
красным оком на деда с внуком, ставивших сети на тихой задумчивой воде среди
затонувшего тальника. Потом она будто ударилось о сверкавшие гольцы,
брызнуло ослепительным разноцветьем искр и торжественно, медленно скрылось
за сразу потемневшими дальними горами. И только гольцы еще долго полыхали
красно-огненным заревом.
Баоса закончил ставить сети, отъехал подальше. По сторонам всплескивали
воду сильными хвостами испуганные сазаны и щуки.
Старик уступил свое место внуку, сам пересел на его место.
— Ну, кормилец мой, хочу пойманную тобой рыбу есть, — сказал он
торжественно.
Богдан взял свою острогу, встал да ноги и, отталкиваясь древком остроги,
медленно поплыл по затопленному лугу. Справа метнулась какая-то крупная
рыба, ударила хвостом по тугой воде, и этот удар прозвучал оружейным
выстрелом в сумеречной тишине. Мальчик вздрогнул от неожиданности,
выпрямился и бросил острогу вслед удалявшейся рыбе.
— Ты в уток стрелял влет? — спросил Баоса.
— Стрелял, — ответил мальчик.
— Вот ты сейчас метнул острогу, и если сравнить с выстрелом по уткам,
то выходит так: ты спишь в оморочке, над тобой с шумом пролетела стая уток,
ты поднялся и выстрелил им вслед. Ты видел этих уток?
— Откуда я знаю? Я не стрелял.
— Рыбу ты видел?
— Видел.
— Какая была рыба?
— Не знаю.
— Зачем тогда говоришь — видел?
— Я видел волну.
— Волна отстает от рыбы. По волне узнал какая рыба?
— Нет.
— Это был амур. Большой был. Такую рыбину твоя острога не удержит. Ты
не видел, как он притаился, когда мы подъезжали?
— Нет.
— Как же так? Я сижу — вижу, а ты стоишь — и не видишь. Ты раньше
острогой бил рыбу?
— Да. Во время нереста карасей бил, сомов, сазаны попадались.
— Хорошо. С оморочки бил?
— Не-ет.
— А-а, как цапля, вышагивал по воде, за собой тащил бечевку, туда
нанизывал пойманную рыбу. Ладно, садись на свое место и смотри.
Баоса встал на место Богдана, огляделся по сторонам, держа свою острогу
на весу. Оморочка бесшумно заскользила по почерневшей в сумерках воде. Не
отъехали и сто саженей, как Баоса протянул руку вперед, показывая внуку на
трепещущую верхушку травы.
Богдан увидел, как верхушка травы вдруг на глазах исчезла под водой.
Оморочка медленно, по инерции, подходила к таинственному месту.
Баоса застыл с поднятой острогой. Богдан смотрел, как зашевелилась трава
рядом, и не заметил, когда дед метнул трехпалую острогу. Вспенилась вода,
измятая трава исчезла в белом буруне.
— Есть, дедушка, есть! — обрадованно закричал мальчик.
Баоса схватил маховик и сильными гребками стал догонять убегавшее древко
остроги. Догнал, взял и легонько стал подтягивать шнур, на конце которого
притихла добыча. Это был большой белый амур.
— Ты видел рыбу? — спросил Баоса, расправившись с помощью колотушки с
бьющейся в оморочке рыбой.
— Нет, — сознался Богдан.
— Как шевелилась трава, видел?
— Да.
— А как?
— Не знаю.
— Надо знать, а то не сможешь установить, где голова рыбы, где хвост и
на какой глубине она находится. Это все надо знать, иначе никогда не
попадешь в рыбу. Надо даже знать, в какую сторону она отпрянет, все это
расскажет тебе травка. Понял?
Богдан ничего не понял и честно в этом признался.
— Ничего, потом все поймешь, я тебя научу всему. А теперь поедем место
для ночлега искать, тут неподалеку должна быть высокая релка.
Релка чернела впереди по носу оморочки. Сумерки сгустились, когда рыбаки
набрали хворосту и разожгли костер. Баоса разделал рыбу, снял с обоих боков
тонкие пласты на талу (Тала — блюдо из сырой рыбы.), а костяк бросил в
котел, висевший над огнем. Потом дед с внуком ели талу. Богдан насытился,
после талы выпил чаю и прилег на прохладный песок.
Совсем рядом с вытянутой на песок оморочкой всплеснула рыба. Испугавшись
этого шума, там и тут ушли в глубину другие рыбы. На противоположной стороне
реки запищали утята, и недовольная детьми утка крякнула негромко, успокаивая
малышей. Все эти звуки слышал Богдан; по всплеску он мог определить размер
рыбы, но не знал, какая она. По писку утят он мог догадаться, почему они
встревожены, мог определить, где они прячутся, но не знал, что им сказала
утка-мать. Многого еще не знает Богдан, а хочется ему все знать, столько же,
сколько дедушка Баоса, а может, и больше. Богдан вспоминает, как промахнулся
острогой в рыбу, и чувствует, как огнем загораются щеки и уши. Не надо было
ему хвастаться, не надо было рассказывать, как не один раз без отца свалил
лося. А раз он убил лося, то все теперь считают его охотником. Охотник —
это больше, чем рыбак. Если он даже в жизни острогу не держал, все равно
должен владеть ею не хуже, чем ружьем. Богдан научится бить острогой, завтра
же начнет учиться!
— Уха готова, будем есть, — сказал Баоса.
— Дедушка, я наелся, — ответил Богдан.
— Охотники так не делают. Откуда возьмется у тебя сила, если не будешь
есть горячую пищу? Так не годится. Как бы ни устал, но ты хоть ползком, а
собери хворосту и перед сном подкрепись горячей едой. Понял?
— Понял.
— Если понял, то вставай, ешь. Ленивые люди в тайге силы быстро теряют
от того, что горячую пищу мало едят.
Богдан сел, взял чашку с ухой и нехотя принялся за еду.
Богдан не мог доесть уху и вернул чашку деду. Передавая чашку, мальчик
уперся о песок левой рукой и нащупал какой-то твердый предмет. Это был
отполированный черный камень, очень похожий на клин.
— Дедушка, смотри, что я нашел.
Баоса взял камень, повертел перед глазами и сказал:
— Это агди сиварни (Агди сиварни — клин грозы.), храни его, это редкая
вещь, небесная. Давай постели, ляжем, и я тебе расскажу про него.
Богдан принес из оморочки две кабаньи шкуры, тонкое стеженое одеяло,
постелил шкуры здесь же, возле костра. Он первым залез под одеяло и притих,
ожидая рассказа. Баоса лег рядом с внуком и долго возился с трубкой,
раскуривая ее.
— Ты по звездам дорогу найдешь? — спросил он неожиданно.
— На небе?
— Нет, на земле. Ты же по земле ходишь.
— А как по звездам? Они на небе, а я по земле хожу.
— Ты идешь по земле, а твоя дорога на небе по звездам отмечается.
Понял?
Опять Богдан ничего не понял.
— Когда ты пройдешь свой путь, отмечай его по звездам, потом дальнейшую
дорогу по ним же намечай. Но только не забывай, все звезды движутся в одну
сторону, только вон та звездочка, что севернее «сушильни юколы», никогда не
сдвинется с места. На нее и смотри. Эту звездочку называют «колесом неба».
Запомни ее. Вот я воткну шест, конец его придется против той звезды, и когда
бы ты ни проснулся, звезда эта не стронется с места. А все другие звезды
вокруг твоего шеста будут вертеться. Понял?
Баоса не поленился, вылез из-под одеяла, принес шест и воткнул у
изголовья внука; точно так же много-много лет назад отец учил Баосу. С тех
пор в представлении Баосы звезда «колесо неба» навсегда неотделима от земли.
Так пусть же неотделима будет эта звезда от земли и в представлении всех
мужчин рода Заксор! По «колесу неба» они будут сверять свой путь.
— А не потеряется звезда, если я далеко-далеко уеду из наших мест? —
спросил Богдан.
— Не может она потеряться, она вечно на одном месте находится и
отовсюду видна. Я далеко ездил, в маньчжурский город Сан-Син ездил, и оттуда
видна была эта звезда.
Баоса залез под одеяло и засопел своей трубкой. Внук прислушивался к
сопению трубки, и когда в трубке захлюпало, он приподнялся и взглянул в лицо
деда. Глаза старика были открыты, Баоса смотрел в звездное небо.
— Не сплю, — усмехнулся он. — Думаешь, забыл дед рассказать об агди
сиварни. Нет, я никогда не забываю, что пообещаю. Слушай. Тот камень, что ты
в руке все еще держишь, — небесный камень, клин грозы. Мой отец, твой,
выходит, прадед, носил всю жизнь такой клин и все охотники считали его
счастливым человеком. Давным-давно люди знали, что если прогневишь небо, оно
тебя не пощадит, оно бросит в тебя клин грозы. Однажды небо прогневилось на
одного храброго охотника, напустило на него ливень. Охотник подумал — это
просто ливень, надо спрятаться под дерево, переждать. Только охотник
спрятался под дерево, и тут ка-ак ударит гром — большое дерево как щепку
раздвоило! Когда мы делаем лодки, мы валим толстое дерево, потом клиньями
раскалываем на три части и получаем три доски. Долгая, трудная эта работа. А
тут гром одним ударом расколол стоящее дерево. Какая сила в этом каменном
клине! — Баоса сделал паузу, посопел трубкой и продолжал: — Охотника того
нашли мертвым под деревом, у него никакой раны не было, клин в него не
попал. Думаешь, клин нашли? Нет, его никогда не найдешь. Он улетает обратно
в небо. А вот если сломается, хотя бы отколется маленький кусочек, то все,
он уже не может взлететь и навсегда остается на земле. А с твоим прадедом
было так же, как с тем охотником, он тоже разгневал небо, и небесный гром
метнул в него клин, и клин попал в дерево и расколол его. Прадед твой
потерял сознание, а когда пришел в себя, то рядом нашел такой клин. Клин был
черный, обугленный, от него отлетел небольшой кусочек, потому он и не улетел
на небо. Потом прадед твой много раз просил небо простить его, молился,
чушку резал...
Богдан осторожно водил пальцем по гладкой поверхности камня, ощупывал
притупившееся острие, и сердце его замирало от мысли, что этот кусок камня
некогда имел такую силу, что одним ударом раздваивал вековое дерево, на
расстоянии убивал людей. Какая же сила заключалась в нем! А теперь вот лежит
на ладони, прохладный, смирный, меньше ладони Богдана. Был когда-то живой,
сильный, а теперь он мертв, потому что потерял небольшую часть тела. Значит,
камни тоже умирают!
— Эти камни ничего не боятся, — продолжал Баоса. — Ничего, кроме
железа. Но ты от грозы никогда не обороняйся острогой или копьем. Острогой
или копьем можно обороняться от злых духов, от зверей, но от грозы не
оборонишься. Чтобы злой дух избегал твою семью, ты дома под подушкой кладешь
острогу или копье, а от зверей как защищаться, ты сам знаешь. Но если ты
храбрый человек, поссоришься с небом и захочешь оборониться от него острогой
или копьем, то оно тебя сожжет. В старое время один охотник хотел так от
грозы обороняться, выставил против грозы острогу и кричал, что он до конца
будет за себя стоять. Тут небо разгневалось, ударил гром, и все люди видели,
как на конце остроги зажглась молния. Охотник упал на мокрую землю, а фанза
вспыхнула большим огнем и вся сгорела. Так люди узнали, что, когда человек
защищается острогой или копьем, разгневанное небо не мечет камни, потому что
железо может сломать любой камень, оно бросает молнию. Это запомни, Богдан,
и не надо храбриться: только безумные люди могут ссориться с небом и
солнцем. А теперь подумай о том, что я тебе рассказал, да на конец шеста
смотри, не сдвинулось ли «колесо неба».
Мальчик поежился, натянул до самого подбородка одеяло и притих. Баоса
приподнялся, пошуровал в потухшем костре палочкой, нашел тлеющий уголек,
взял двумя пальцами, поднес к трубке и прикурил.
— Дедушка, ты научишь меня острогу бросать? — спросил Богдан. — Так,
чтобы я никогда не промахивался.
Баоса усмехнулся:
— Научу, и ты никогда не будешь приезжать с пустыми руками.
Мальчик повернулся на правый бок, обнял деда и уснул крепким сном. Баоса
боялся пошевельнуться: «Кто же его так обнимал во сне? Полокто? Пиапон?
Дяпа? Калпе? Да, да, дети его обнимали, искали у него тепла, когда ночью в
зимнике хозяйничал лютый холод. Но это было давно. Очень давно. А недавно,
лет десять назад, такой же худенький мальчишка тоже спрашивал его: «Дедушка,
научишь меня без промаха бить острогой?» А потом обнимал во сне, бормотал
что-то прямо в ухо.
И Баоса учил его всем премудростям таежного охотника и рыболова, учил,
потому что он был его внук, отданный ему на воспитание.
Звали мальчика Ойта. Но недолго прожил Ойта с дедом, через год отец Ойты
Полокто забрал сына. Обманул Полокто старого отца, не сдержал слова, отобрал
единственную отраду Баосы.
Звезды тихо, бесшумной, густой толпой, как странники, брели по черному
небу, по своему извечному пути вокруг одинокого «колеса неба».
Уже несколько дней подряд стояла пасмурная, дождливая погода.
Только утром и вечером разъезжаются мужчины стойбища ставить и проверять
сети: какая бы ни стояла погода, всегда желудки женщин и детей требуют еды.
В доме Баосы всегда находилась работа для мужчин и женщин, хозяин дома
сам не любил сидеть сложа руки и другим этого не позволял. Если мужчина в
доме не пошевелит пальцем, ничто в доме не изменится и не будет достатка в
семье. У Баосы всегда все хозяйственные дела распределены на все лето,
учтены и те работы, которые выполняются дома в непогоду. Вот и сейчас, когда
в большинстве фанз охотники, лежа на нарах, рассказывают друг другу разные
байки, в доме Баосы мужчины заняты работой. Улуска сидит на краю длинных нар
возле дверей сосредоточенный, серьезный, вертит в обеих руках вертушки — он
вьет конопляные поводки. Серьезный Улуска и его вертушки не привлекают
детей, они скопились возле Дяпы, который с шутками, вызывавшими шум и смех,
разгонял, прижав ладонями, похожий на юлу предмет с длинной осью.
Подвешенная на нитке юла крутилась так стремительно, что рябило в глазах. Но
Дяпа считал:
— Двадцать девять, тридцать... сорок... пятьдесят...
Детвора повторяла за ним:
— Пятьдесят... пятьдесят пять...
Юла замедляла свой бег, но считальщики продолжали считать в прежнем
темпе, а маленький Кирка, опережая дядю, выкрикивал:
— Четыре, два, семь, три...
Он был уверен, что считает правильно.
Юла делала последний оборот, останавливалась и начинала медленно
раскручиваться. Дяпа брал ее в руки.
— Хорхой самый сильный, — говорил он. — Он так сильно разогнался, что
мы досчитали до ста. Калпе — до семидесяти. Гудюкэн — до пятидесяти, а я
только до тридцати.
Дяпа мог перевирать как хотел, потому что остальные судьи состязания
считали до трех или до десяти-двадцати, а когда Дяпа быстро считал, то они
сразу же запутывались.
— Все! Игра закончилась, я начинаю работать! — объявил Дяпа.
— Еще немножко, — взмолились дети.
— Нет, вон видите, у деда совсем мало осталось ниток. Все. Играйте в
свои игры.
Дяпа вил нити для сети. Рядом Баоса вязал сеть. Около деда сидел Богдан
и наблюдал за его работой. Богдан видел много вязальщиков, каждый взрослый
нанай вязал сеть, сам Богдан тоже вязал, но он никогда не встречал такого
искусного вязальщика, как его дед. Руки деда мелькали быстро, словно крылья
утки.
— Почаще будешь вязать, научишься, — улыбаясь, говорил Баоса.
Но как бы ловко ни вязал дед, долго наблюдать за его работой скучно. То
ли дело у кузнеца, где сейчас отец с младшим дядей находятся! Там все
необычно и интересно.
— Я пошел, дедушка, — сказал Богдан, слезая с нар, — к кузнецу пошел.
На улице кропит мелкий дождь. Богдан вбегает в маленькую фанзу, где
маньчжур Годо организовал кузню.
— Осторожно. Не наступи на это синее железо, — остановил его Калпе.
— А, моя помощника, — широко улыбнулся черный от загара и копоти
кузнец, которого все в стойбище звали Годо, — маленько-маленько огонь надо.
Э, Нипо, давай Богдану, он мало-мало работает.
Черненький остроносенький мальчик лет семи, очень похожий на Годо,
нехотя уступил Богдану кузнечный мех.
— Я маленько покачаю и тебе отдам, — сказал Богдан. — Ты покачаешь и
мне потом уступишь. Хороши?
— Ладно, — кивнул Нипо.
Тем временем Годо ловко захватил лежавший на земле остывший кусок
железа, подбросил в огонь, выхватил оттуда другой ярко-красный кусок,
положил на наковальню и начал бить молотком. Кузница заполнилась веселым
перезвоном металла.
— Калпе, твоя тоже скоро делать будет, — скалил в улыбке белые зубы
маньчжур. — Все делать будет.
— Научусь, — ответил Калпе. — Захотеть только надо, сильно захотеть,
и всему можно научиться.
— Самоуверенный стал, хвастливый, — сказал стоявший рядом Пота.
Калпе не успел ответить, его опередил кузнец:
— Не-ет, хвастай нет, его хорошо все делай, скоро все-все будет делай.
Ружье даже делай сможет.
Пота шутил, ему просто хотелось раззадорить Калпе. Калпе много раз
рассказывал ему о своей поездке на пароходе в Хабаровск, как он не мог
отойти от машины и как наблюдал в окошко за ее работой днем и ночью, потом
машинист пожалел его, привел в машинное отделение, и Калпе видел, как
большие блестящие железяки со звоном и грохотом падали, исчезали в брюхе
лодки, поднимались вновь и опять опускались. Русский машинист рассказывал
ему, как работают машины, как их подкармливают дровами; показывал, как
останавливаются двигатели. Калпе был ошеломлен и с тех пор и во сне и наяву
видел грохочущую машину. Когда, вернувшись домой, он рассказал кузнецу о
машине, тот нисколько не удивился и заявил, что он, Годо, сам умеет работать
на этой машине, умеет работать и на других машинах, которые поменьше
лодочных. Все это Пота слышал из уст Калпе.
— Нет, Годо, он ничего не сделает, — сказал Пота. — Он думает, если
раз ездил на русской лодке, то уже и лодку умеет водить.
Веселый Годо понял, что Пота нарочно разыгрывает Калпе, и засмеялся.
— Железную лодку называют па-ро-ход, — сказал Калпе.
— А по-нанайски как скажешь?
— Не знаю.
— Вот, вот, ты ничего не знаешь и ничего не умеешь делать. Ты даже
острогу на мелких рыб не сделаешь.
Калпе взглянул на друга, потом на улыбавшегося кузнеца и сказал:
— Я знаю, у тебя нет маленькой остроги, я тебе ее сделаю в подарок.
Калпе сдержал слово. После полудня Пота имел новенькую острогу,
выкованную Калпе на его глазах.
— Папа, у тебя же есть острога, отдай мне, — попросил Богдан.
— Правда, Богдан мне помогал, огонь раздувал, острога его, — поддержал
племянника Калпе. — А дедушка его научит без промаха бить рыб.
Пота отдал острогу сыну, и тот побежал домой показывать деду свое
приобретение.
К вечеру тяжелые черные тучи отошли на север, западный краешек неба
заполыхал алым полотнищем. В тальниках защебетали, запели птицы, в небе
замелькали острокрылые стрижи и ласточки.
Пота и Калпе поехали ставить сети. Их оморочки шли рядом.
— Калпе, я никак не могу попять, кем Годо приходится Холгитону? —
спросил по дороге Пота.
— Как кем? — удивился Калпе. — Работник он. Холгитон все еще считает
себя халадой (Халада — глава нескольких стойбищ.), поэтому он должен иметь
работника. Вот он разыскал Годо и привез домой. Сперва он заставил Годо
огород вскопать, посадить фасоль, табак и синие цветочки для крашения
халатов. Потом видит, работник-то умеет с железом работать. Тут понял
Холгитон, какого он мастера нашел. Обрадовался старик. Еще бы не радоваться,
когда свой мастер в доме появился, который из железа может сделать все что
угодно. Годо и ружье чинит и котел дырявый залатает, он все может делать. А
огород не бросил, каждое лето сажает фасоль, табак, теперь уже все няргинцы
выращивают свой табак.
— Калпе, я не то спрашиваю. Смотрю я на Супчуки, она совсем изменилась,
другие женщины стареют, а она молодеет. Совсем другая стала. Потом, дети ее
очень похожи на Годо.
Калпе ничего не ответил. Друзья молча выставили сети, и когда вновь
сошлись, Пота сказал:
— Калпе, поедем за мясом. Я отвык жить без свежего мяса.
— Поехали, я сам тоже не против мяса, — обрадовался Калпе.
На следующий день с рассветом поднялись жильцы большого дома, женщины
начали готовить еду, мужчины собирали охотничьи принадлежности. Солнце
поднялось над сопками, когда взрослые и дети вышли на берег. Идари несла
свернутую кабанью шкуру, накомарник, одеяло, корзину с продовольствием. Она
шла рядом с сыном, который гордо шагал с берданкой за плечами, приклад бил
его по икрам ног и чуть не доставал до земли.
— Ох и охотник ты, сынок, кормилец мой, — смеялась Идари. — Опять
будешь сидеть за спиной деда на месте собаки?
Охотники укладывали вещи в оморочки. Все предметы первой необходимости
должны находиться под руками: табак, кресало, кружка. Винтовки, ружья пока в
чехлах и кабаньей шкуры лежат впереди под агборой (Агбора — передняя часть
оморочки, покрытая берестой.), спальные принадлежности сзади.
— Ох, сколько охотников, мясом нас завалят, — продолжала смеяться
Идари. — Смотрите, всех лосей не перебейте, оставьте самку и самца на
развод!
Идари встретилась с жесткими сердитыми глазами отца и осеклась. Смех
заглох в ее горле.
— Ты родила двух охотников, а язык все еще не научилась держать за
зубами! — закричал Баоса. — Вырвать надо твой язык да собакам бросить.
Мужчины, женщины и дети притихли, потупили взоры. Только Пота,
выпрямившись, стоял возле своей оморочки и в упор смотрел на Баосу.
— Дедушка, а на мою маму никогда никто не кричал, — раздался в тишине
голос Богдана.
Баоса просверлил внука злыми глазами, но вдруг обмяк, опустил голову и
начал перекладывать вещи на место Богдана.
— Дедушка, а где я сяду?
— Ты деда поучаешь, потому на его место сядешь, — ответил Баоса.
— Там я не смогу маховиком махать, оморочка широкая на этом месте.
— Ты будешь сидеть и смотреть по сторонам.
— Нет, я не согласен, я тогда не поеду с тобой.
Баоса не ответил, его руки все еще перебирали одеяло, накомарник.
— Сядешь на одеяла, мягче будет сидеть, — ответил он наконец.
Дяпа и Улуска столкнули оморочки.
— Слушай, мать Богдана, к моему приезду в большом котле воду держи
наготове, мясо будешь варить, — громко, во всеуслышание сказал Пота,
обнимая жену.
Это был вызов Баосе, но старик, сделал вид, что не услышал кощунственных
слов зятя.
Одна за другой закачались на воде оморочки и, провожаемые теплыми
взглядами женщин и детей, двинулись вверх по протоке. В полдень охотники
приехали на озеро Шарго, где стояло небольшое русское поселение. Здесь жил
рыжий Ванька Зайцев — страстный охотник и золотоискатель. Но золото редко
попадалось Зайцеву, поэтому в последние годы он занимался промыслом только
пушного зверя.
После полудня охотники добрались до устья горной речки, по которой они
должны будут подниматься вверх. Это было то место, где Пота десять лет назад
обнимал свою любимую, где ему пришла в голову отчаянная мысль украсть ее и
убежать куда глаза глядят. Охотники разожгли костер, начали варить еду. А
Пота ходил и вспоминал прошлое. Наконец он разыскал место, где стоял летник
Идари. Пота до мельчайших подробностей припоминал ту счастливую ночь.
— Дедушка, ты мне разрешишь из берданки выстрелить? — раздался рядом
голос Богдана.
— Обязательно. Обязательно выстрелишь, я тебя научу метко стрелять, без
промаха.
Баоса с Богданом прошли мимо Поты, не заметив его. Пота проводил их
глазами, мысли его тут же переключились от Идари к ее отцу и Богдану. Пота
вспомнил, первую встречу с Баосой после побега, как он с Идари на коленях
просили прощения. До сих пор холодеет нутро Поты, когда он вспоминает полные
злобы и ненависти глаза Баосы, его слова: «Не будете вы счастливы! Дети,
которые обижают своих родителей, которые заставляют своих родителей
проливать слезы, никогда не увидят счастья! Не будет вам прощания! Идари, ты
убила свою мать! Она жива была бы, если бы не ты... Живите уж... Вырастет
наш сын, заберу к себе, тогда, может, прощу».
Пота смотрел вслед Баосе и сыну, и острая тревога охватывала его душу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Выехали из Хабаровска рано утром, как только солнце успело кровяно
забагрянить висевшие над головой перистые облака. Пиапон стоял на месте
кормчего и вспоминал встреченных им людей: храброго Валчана, самого богатого
нанай Пору Оненко, нанайского торговца Кирилла Пассара... Это были
совершенно другие люди, совсем непохожие на тех нанай, которые добывали себе
пропитание своими руками.
«Они, пожалуй, поумнее нас, — размышлял Пиапон. — Это от того, что
живут рядом с большим городом, что рядом много русских, у них набираются
разума. Только хорошо ли так жить? Позабыв, как ловить рыбу, как выслеживать
соболя? Это ведь то же, что позабыть, кто тебя родил, кто тебя вскормил.
Нехорошо!»
— Низовик поднимается, парус надо готовить, — прервал размышления
Пиапона Холгитон.
Прошло немного времени, и крутые волны заходили по широкой груди Амура.
Халико, управляемое двумя рулевыми, запрыгало с одного белопенного гребня на
другой. Ветер все усиливался, рвал квадратный парус, гнул мачту, точно
пытаясь переломить ее.
До самых сумерек неистовствовал, низовик, гнал громоздкое халико, и все
это время Пиапон с напарником не выпускали из рук кормовое весло: такова
обязанность рулевых-дого. Только тогда, когда стал стихать ветер, Пиапона
сменил Американ. Пиапон повалился на связки мягких мехов и блаженно
расслабил мышцы. Ему хотелось поесть чего-нибудь горяченького, но как
разведешь в лодке огонь, как вскипятишь чай?
Пиапон задремал.
На следующий день вошли в устье Сунгари.
— Приглядывайтесь к каждому кусту на берегу, к каждой плывущей ветке:
здесь хунхузов, что червей в земле, — предупредил Американ.
По пути встречалось много рыбацких плоскодонок, похожих на нанайские.
Одни хозяева лодок с интересом разглядывали проезжавших на халико охотников,
другие не обращали на них никакого внимания, третьи предлагали желтых
крупных сазанов. Разговаривал с ними Американ, он один говорил по-китайски.
Выбрав песчаный пологий бережок, охотники пристали почаевничать. Чай
вскипел, и охотники принялись со свистом отхлебывать горячую ароматную
жидкость,
В это время мимо проплывала небольшая плоскодонка, на веслах сидел
юноша, совсем еще мальчик, на корме — седой старец с реденькой белой
бородкой, в черной круглой истрепанной шляпе.
— Амурские? — спросил старик по-нанайски.
— Амурские, амурские, — хором ответили обрадованные молодые гребцы,
услышав нанайскую речь.
— Хотите, чтобы вас хунхузы под самым городом перебили? — Старик
говорил на сунгаринском наречии, и молодым трудно было понять его, но
старшие, часто встречавшие на охотничьей тропе тунгусов, орочей, удэгейцев,
хорошо разбирались в различных говорах нанайского языка.
— Приставай, друг, чайку попьем, — пригласил Холгитон.
Рыбак не стал ждать второго приглашения, пристал возле халико, вышел на
берег, поздоровался и подсел к Холгитону.
— Когда еду готовите и едите, выставляйте двух, трех молодых, чтобы они
вокруг смотрели, охраняли вас, — начал седобородый старик. — Здесь
хунхузов несчетно, несколько дней назад убили чиновников и деньги забрали.
Осторожнее будьте.
— Спасибо, друг, спасибо, — кивал головой Холгитон, подливая старику
чай.
— Ты рыбачишь? — спросил Американ.
— Рыбачу, сын вот помогает.
— А еще что делаешь? — спросил Пиапон.
— Больше ничего. Поймаю рыбу, продам, так и живем.
— А на охоту ходишь?
Старик внимательно оглядел Холгитона, отпил глоток чая, и горькая
усмешка скривила его рот.
— Был молод, ходил на охоту, бывал на Амуре, неплохо соболь шел на мои
самострелы. Но однажды, годов двадцать назад, меня в тайге встретили
китайцы-хунхузы, отобрали всю пушнину, избили так, что я еле дополз до дома
и целый год не вставал с постели... Людей шибко много, всем хочется жить,
есть, детей кормить, каждый как может пищу добывает.
Молодые охотники переглянулись, они не поверили седому старику.
— Людей убивать... так пищу добывать? — спросил один из них.
— Да, так. Если человек не умеет или не хочет рыбу ловить, пушнину в
тайге добывать, что ему делать? Ему легче человека убить и обобрать его.
Старик был совершенно невозмутим. Он говорил все это спокойно, будто
рассуждая о самом обыденном деле, как о завтрашнем рыбном лове. Это его
каменное спокойствие и приводило молодых в недоумение.
— Врет старик, — шепнул Пиапону один из молодых охотников.
Пиапон слушал старика и тоже верил и не верил ему.
«Старик прожил долго, жил среди всяких людей, и с ним на самом деле
могли быть всякие случаи, — рассуждал он. — Могли у него отобрать пушнину.
Но вот чтобы люди специально убивали других людей только из-за добычи,
денег... Ведь они же люди!.. Как можно убить человека всего лишь из-за трех
соболей?»
— У нас здесь много людей, которые хотят без труда пожить, — продолжал
старик, — хотя ворам руки, головы отрубают, а все равно воруют. Всякие
торговцы и другие бездельники нечего не делают, а всегда сыты.
— Торговцы много работают, много ездят, — сказал Американ.
Старик ничего не сказал в ответ, допил чай, ополоснул пиалу горячей
водой и отдал Холгитону.
— Будьте осторожны, — сказал старик поднимаясь и заковылял к своей
лодке.
— Наврал старик, все наврал, — сказал один из молодых охотников, когда
лодка скрылась за тальниками.
— Молод еще, поживи с его, — проговорил Холгитон.
С Холгитоном, самым старшим в халико, никто из молодых не вступал в
пререкания: старший есть старший. Охотники собрали пожитки и столкнули
халико.
Подъезжали к городу Сан-Сину вечером. Солнце еще высоко висело над
дальними сопками, и его косые лучи ласкали лица гребцов.
Пиапон с замирающим сердцем приглядывался к незнакомому городу, низким
лачужкам на окраине, к высоким пагодам с затейливыми крышами в центре. Перед
ним лежал город, куда он стремился, о чудесах которого слышал из уст десятка
рассказчиков. Что же он найдет в нем? Увидит ли сказочные чудеса хитрых и
ловких фокусников, изумительные звезды, которые расцвечивают, как
рассказывали, черное ночное небо в яркие цвета и ночь превращают в красочный
день? А еще хвалили китайскую еду: пампушки со сладкой фасолью,
лапшу-пантуси.
— Приехали, Пиапон! — выдохнул Американ. — Эх, погуляем!
Гребцы тоже были в ударе, вода под их веслами кипела, как в котле с
рыбацкой ухой. Холгитон не отставал от молодых гребцов, он, казалось, тоже
помолодел, разгладились морщины на лице, глаза горели задорным огоньком.
Набережная города, заполненная плоскодонками, джонками и различного рода
крупными посудинами, казалось, тянулась бесконечно. Но берегу толпился,
шумел народ. Ни Пиапон, ни Американ не знали, где им остановиться.
— Эй, храбрые охотники, приставайте здесь! — раздался голос из толпы.
— Здесь! Здесь! — закричали другие.
Пиапон смотрел на них, и ему вдруг показалось, что он попал в шайку
споривших торговцев, которые не могли между собой сговориться о цене на мех.
Американ прислушался к голосам споривших и усмехнулся одними губами.
— Приставай, — сказал он.
Когда лодка уткнулась тупым носом в песок, ее тут же окружили
встречавшие, ухватились за борта и вытянули на мягкий песок.
— Откуда вы, не найхинские? — спрашивали одни на ломаном нанайском
языке.
— Лондонских нет? А Ойтанские Бельды есть? — теребили за рукав другие.
Высокий худощавый китаец побрел по воде на корму, улыбнулся, обнажив
желтые лошадиные зубы, и обратился к Пиапону, принимая его за старшего.
— Озерские храбрые, добрые охотники есть среди вас? О, я там бывал у
них, в Гогда Мунгали был, в Полокане был. Там все мои друзья, все друзья. Я
бы узнал их, но только много времени прошло, лет десять прошло, как я у них
побывал, глаза состарились.
Пиапон с удивлением слушал торговца и не знал, что ему ответить. Ему
было приятно, что торговец, посетивший десять лет назад амурских нанай,
говоривший на его родном языке, обратился именно к нему. Но он не знал ни
одного озерского охотника, кроме Поты, мужа своей сестры Идари и его
названого брата Токто.
— Озерских среди нас нет, — ответил Пиапон. — Может, они приехали с
болонским торговцем У.
Торговец криво усмехнулся.
— С этим У дел не имею. Если кто приехал, то у него остановился. А я
хотел встретить храбреца, который сам приехал, без хозяина-торговца, я хотел
его встретить так, как он меня встречал в стойбище. Угощал бы, поил, спал бы
он у меня, как спит мандарин. Эх, угостить хотел, все приготовил, —
торговец снизу вверх взглянул на стоявшего на корме Пиапона. — Может, ты,
храбрый охотник, пойдешь ко мне? Я все...
— У нас есть свои знакомые, — оборвал его на полуслове Американ. —
Сейчас они сюда придут.
Торговец опять усмехнулся, меж бескровных старческих губ зажелтели зубы.
Он ничего но ответил и медленно побрел на берег, придерживаясь за борт
халико. Пиапон смотрел ему в спину.
К лодке подходили все новые и новые торговцы, и вдруг, к своему
удивлению, Пиапон увидел в толпе знакомых болонских охотников, которые
собирались ехать с У.
— Эй, Пиапон! Сходи на берег, чего в лодке стоишь, — закричали они.
Мэнгэнцы, туссерские, хунгаринские тоже узнали болонцев и начали смело
выходить на берег, небрежно отвечая наседавшим торговцам.
— Где вы задержались? Как амурские ракушки ползли, что ли? —
спрашивали болонцы и, не дожидаясь ответа, хвастались: — А мы как ветер
плыли, день и ночь, день и ночь, за всю дорогу только два раза горячую пищу
ели, потому что не приставали к берегу. Вот как!
От болонцев попахивало китайской водкой ханшином. Они, как и все молодые
нанай, впервые в жизни попали в город и были возбуждены первыми
впечатлениями от увиденного, эти впечатления усиливал крепкий вонючий
ханшин.
— Веселитесь уже? — спросил Американ.
— Приехали веселиться, что же еще делать? Где вы остановитесь?
— Найдем место, — уклончиво ответил Американ. — Город большой, домов
много.
— А к вам не подходили местные дянгианы?
— Нет.
— Так они же всегда встречают охотников, потом только торговцам
разрешают к себе забирать.
Пиапон стоял позади всех, прислушивался к разговору. В отдалении от всех
торговцев, согнувшись, стоял старец. Он был в мокрых штанах, истоптанных
башмаках и не походил на разнаряженных торговцев. Он, скорее, напоминал
сновавших тут же, предлагавших услуги, носильщиков.
«По-нанайски говорит, значит, был торговцем, — подумал Пиапон. —
Тадиалахан ходанай» (Тадиалахан ходанай — обанкротившийся торговец.).
Болонских, няргинских, мэнгэнских, хунгаринских охотников встречали
немногие торговцы, которые в свое время украдкой от торговцев У и Чжан
Му-Саня приобрели дорогие меха. Им нельзя было в открытую совершать сделки:
могло попасть от торгового союза, их лишили бы права торговли. Поэтому они,
встретив знакомого охотника, осторожно выпытывали, в каких он отношениях с
болонским и хунгаринским торговцами, и в зависимости от их ответов решались
на следующий шаг. Обыкновенно большинство приезжих охотников были крупными
должниками У и Чжуан Му-Саня, и потому никто из торговцев не осмеливался
громогласно заявить о своем знакомстве с охотниками.
Пиапон все присматривался к обнищавшему торговцу, и тот наконец поймал
его взгляд, униженно улыбнулся и, по-стариковски волоча ноги, подошел.
— Храбрый охотник, не смотри так свысока на меня, — проговорил он.
— Как свысока? Я... — растерянно пробормотал Пиапон.
— Отойдем в сторонку, ты приехал на своей лодке, ты сам себе хозяин, и
тебе некого бояться. Мне тоже теперь некого бояться. Эх, был бы я моложе,
все сначала мог бы начать, а теперь что? Я был у озерских нанай, подружился
с Чонгиаки Ходжером. Хороший старик, добрый человек. Ты не знаешь, здоров
он?
— Не знаю.
— Добрейший человек... Я у него останавливался, пушнину хорошо обменял.
А охотники были должники болонского У... Эх, был бы моложе!
Невыносимая горечь и обида звучали в голосе обнищавшего торговца, и
Пиапон от души пожалел его. Он нутром своим догадывался, что в молодости и в
зрелые удачливые годы этот старец навряд ли отставал в хитрости и обмане от
других алчных торговцев, его выразительные острые глаза выдавали его
характер.
«Был бы моложе, в хунхузы пошел бы», — подумал Пиапон.
— Не знаю я озерских, — сказал он вслух и отошел к своим.
В это время на берег вышел в сопровождении нескольких слуг чернобородый
толстяк с расплывшимся жирным лицом. Богатый халат его был расшит нанайским
орнаментом.
— Это дянгиан, — прошептали всезнающие болонцы.
Тучный дянгиан раскланялся с торговцами, с охотниками и сказал
по-маньчжурски:
— Храбрые удачливые охотники, я рад приветить вас в нашем городе, вы
наши гости, мы ваши слуги. Сегодня вечером вас всех приглашаю к нам в гости.
Пиапон напряженно прислушивался к речи дянгиана и, к своему
удовольствию, заметил, что понимает маньчжурскую речь, большинство слов
совпадали с нанайскими.
Дянгиан откланялся и величественно удалился.
Торговцы опять окружили охотников, каждый приглашал остановиться в своем
доме, сулил мягкую мандаринскую постель, сытную еду и неограниченную
выпивку.
Американ шнырял между ними, выискивал кого-то и наконец разыскал нужного
ему торговца. Средних лет китаец, ровесник Американа, с азиатской
вежливостью пригласил охотников к себе.
Поместил он своих гостей в отдельном просторном доме, видимо,
построенном специально для приезжих.
— Живите, храбрые люди, ни о чем не беспокойтесь, еда у вас готовая,
ешьте сколько влезет, пейте сколько сможете, — говорил китаец сиплым, будто
простуженным голосом. — Вы мои гости, а я ваш слуга. Да, не забудьте,
сегодня вас пригласил городской дянгиан. Знаете, наверно, что надо ему
нести?
— Знаем, — за всех ответил Американ.
До приема оставалось немного времени, и охотники начали переодеваться в
свои новые нарядные халаты. Американ переодевался рядом с Пиапоном.
— Ты взял с собой того соболя? — спросил он.
Пиапон хмуро взглянул на Американа, и его взгляд сказал: «Да, я взял
того соболя, взял, потому что ты настоял». Речь шла о соболе, которого
десять лет назад Пиапон поймал в капкане и которого Американ умело подчернил
сажей. Десять лет шкурка пролежала в кожаном пушном мешке, и десять лет,
даже в тяжелые годы, Пиапон не предлагал ее торговцам. В каждую весну, когда
отвозил пушнину торговцу Салову, он подолгу разглядывал эту подделку и
всегда удивлялся ловкости и умению Американа: за десять лет шкурка
совершенно не изменилась, мех по-прежнему чернел и искрился, любой торговец
принял бы этого соболя по высокой цене.
— Ты Заксор и в подарок должен нести двух соболей. Прихвати того,
подари дянгиану, они все равно ничего не поймут.
— Как-то нехорошо, люди нас так хорошо встречают, а мы их обманывать
станем.
— Дурак ты, даром ведь отдаешь.
— Все равно нехорошо...
— Десять лет в сундуке держал, еще сто лет хочешь хранить! Прихвати с
собой и подари, — еще раз повторил Американ. — Хорошие соболи самому
пригодятся.
Охотники переоделись в новые, разукрашенные разноцветными узорами
халаты, обувь, туго переплели косички и пошла гурьбой на прием. Каждый из
них нес за пазухой подарок городским властям. С давних времен приезжие
охотники приносили властям эти подарки, которые ими принимались как дань. Из
всех нанайских родов только Бельды считались самыми близкими к маньчжурам, и
потому они платили дань одним соболем, другие дальние роды — двумя.
Пиапон прихватил раскрашенного соболя, и ему казалось, что этот соболь
жжет его грудь.
— Не выдай себя, будешь волноваться, узнают, — поучал его Американ. —
Стой на коленях и отбивай поклоны, пока не примут. Понял? Старики
рассказывают, что они часто в таких случаях принимают плохих соболей. Не
робей только, — Американ толкнул кулаком в бок Пиапона и рассмеялся. —
Смотри, Холгитон надел шляпу халады.
Высокий Холгитон, ссутулившись, шагал сзади них, на голове его
красовалась плоская шляпа с узкими полями, с прицепленным круглым
красно-коричневым знаком старшины нескольких стойбищ.
Американ замедлил шаг и, когда Холгитон поравнялся с ним, спросил:
— Зачем ты надел знак халады?
— Отец носил и я надел, — недружелюбно ответил старик.
— Чего на грудь не прицепил знак русского старшинки?
— Сам знаю, что делаю.
— Халада! — засмеялся Американ. — Знаешь, халада, сколько тебе
придется соболей в подарок принести?
— Не твои соболи, мои.
— Ну и неси, даром отдавай!
Американ махнул рукой, зашагал шире, догоняя передних.
Прием проходил в большом здании с причудливой крышей. Охотников ввели в
просторный мрачный зал. Кругом горели свечи. В конце зала на высоком кресле
сидел градоначальник в богатой китайской одежде, расшитой золотом и всякими
блестками. Его окружали помощники, высокопоставленные чиновники, все они
были разодеты пышно и торжественно. Пиапон видел только худое длинное лицо
градоначальника и верхнюю часть халата.
С правой стороны градоначальника неподвижно, словно каменные изваяния,
стояли китайцы. Над ними было развернуто широкое полотно знамени. С левой
стороны градоначальника сгрудились чернобровые, с жесткими непроницаемыми
лицами солоны (Солоны — одна из народностей тунгусо-маньчжурской ветви
языка.). Знаменем им служила густая ветвь кедрача. Солоны одеты в простые
дабовые халаты, расшитые бледными, невыразительными узорами.
Пиапон во все глаза разглядывал высоких представителей власти, пытался
запомнить их наряд, расцветки знамени, выражение лиц и не слушал наставлений
маньчжура, которому было поручено пронести весь церемониал приема.
Из свиты градоначальника вышел знакомый охотникам толстяк и повторил то
же слова, что говорил на берегу. Потом началось преподношение подарков. По
старому установившемуся порядку первыми подносили подарки старшины родов,
нескольких стойбищ и отдельных стойбищ — халада, гасианда, сидихэ.
Из столпившейся кучи охотников рода Бельды вышел распрямившийся,
помолодевший на нисколько лет Холгитон. Из груди халата он вытащил бумагу,
много лет назад выданную маньчжурами его отцу и бережно хранимую им всю свою
жизнь.
— Что, халада? — изумленно спросил по-маньчжурски градоначальник. —
Ты халада? Сейчас, при русских, халада?
— Отец его был халада, — ответил за Холгитона толстяк.
Градоначальник сам прочитал документ и торжественно сказал:
— Закон древних гласит: сын халады остается после смерти отца халадой.
Ты халада, храбрый человек.
Холгитон вытащил из-за пазухи четыре соболиные шкурки и бережно положил
на стол, стоявший перед градоначальником. Четыре соболя — таков подарок
нанайского старшины нескольких стойбищ маньчжурскому дянгиану.
— Микора! (Микора — стань на колени.) — приказал толстяк.
Холгитон опустился на колени.
— Кэнкэй! (Кэнкэй — бей поклоны.) — Холгитон несколько раз коснулся
лбом холодного пыльного пола.
Пока он отбивал поклоны, другой чиновник, соболиный дянгиан, тщательно
разглядывал шкурки соболей, принюхивал, дул, потом дал знак толстяку.
— Илио! (Илио — встань.) — крикнул толстяк.
Холгитон встал и полусогнутый, пятясь, отступил к дверям, где стояли
охотники. Кроме Холгитона, не нашлось других старшин, и один за другим к
длинному столу стали подходить охотники из рода Бельды. Шестым или
седьмым — Пиапон не запомнил, которым — к столу подошел Американ.
— Бельды Американ из Диппы! — представился он.
Пиапон так и раскрыл рот от удивления. Он впервые в жизни не поверил
своим глазам и ушам. Обернулся назад — видят ли другие охотники Американа,
слышат ли его слова? Но охотники с каменными лицами смотрели на грозных
начальников, и, казалось, глаза их заслонили позолота одежд, уши оглохли от
громкого окрика толстого чиновника.
— Что же это такое? Что же это такое? — шептал Пиапон, глядя, как
кланяется Американ. Ему хотелось крикнуть: «Что ты делаешь, Американ?! Ты
ведь Ходжер, а не Бельды, ты из Мэнгэна, а не из Диппы! Дянгиан, он не
Бельды, он Ходжер! Не веришь, спроси у всех, тебе ответят».
Но у Американа никто не потребовал подтверждения, что он на самом деле
Бельды, что он из Диппы, а но из какого-нибудь другого стойбища.
«Неужели он из-за одного соболя пошел на такой обман? — в который раз
спрашивал Пиапон и не находил ответа. — Сам обманщик и меня заставил
обманывать». И он опять почувствовал мучительное жжение в груди, соболь
казался тяжелым раскаленным куском железа.
Но вскоре он забыл о своем соболе, его отвлек грозный окрик толстого
глашатая.
— Калао! (Калао — меняй, обменяй.) — вскричал толстяк худенькому,
маленькому, словно подросток, охотнику из стойбища Толгон.
В руке соболиного начальника желтел самый захудалый соболь, точь-в-точь
похожий на колонка.
— Калао! — еще грознее повторил толстяк.
Но толгонский охотник все усерднее и усерднее продолжал бить лбом об
пол, он будто оглох или сошел с ума. Соболиный начальник переглянулся с
градоначальником, выразительно встряхнул короткошерстной шкуркой и после еле
заметного кивка старшего бросил шкурку отбивавшему поклоны охотнику.
— Илио! — приказал толстяк, и охотник, словно на пружинах, вскочил на
ноги, прихватил соболя и, пятясь, отошел к дверям. Он был весь красный то ли
от прилива крови в лицо во время поклонов, то ли от стыда.
Пиапон почувствовал, как начали слабеть ноги.
«Соболь, ах, проклятый соболь! И ты, Американ!»
Перед ним стояли всего два человека, он был весь на виду у дянгианов, не
мог спрягаться за спинами других и незаметно исчезнуть со своим позором —
крашеным соболем. Его уже подталкивали вперед.
— Иди, иди, смелее.
Пиапон подошел к столу, положил две шкурки соболя и опустился на колени.
Он не слышал окриков глашатая, машинально бил поклоны, чтобы только не
поднять головы, чтобы только не видели его горящее от стыда лицо. Когда
приказали встать, он прежде всего пошарил руками перед собой, так как глаза
ничего не видели, их застилал пот, стекавший со лба. Соболя не было на полу.
И тут только понял Пиапон, что соболиный начальник принял крашеного соболя.
«Выходит, Американ хитрее китайского соболиного начальника», — подумал
он позже.
Закончился прием, градоначальник поднялся с кресла и направился к правым
дверям, за ним шли чиновники, заключал шествие знаменосец. В левую дверь
вышли китайцы, а солоны прошли мимо охотников. От них приятно пахло хвоей,
родной тайгой.
Как только удалились солоны, слуги стали заносить низкие китайские
столики, вокруг столиков стелили камышовые циновки, за слугами с подносами в
руках появились те же китайцы и солоны, которые стояли с правой и с левой
стороны градоначальника.
— Ешьте, пейте, дорогие гости! Вы наши гости, а мы ваши слуги. Ешьте,
пейте, — повторяли они на все голоса.
Пиапон чувствовал себя усталым, разбитым, как после погони на лыжах за
лосем. Он слишком переволновался. К нему подсел Американ.
— Сплавил? Я же говорил тебе, здесь многие так делают. Мы находимся в
большой лисьей и росомашьей норе. Так живи, как они сами живут. Понял?
— Ты по-ихнему живешь, теперь я понял, — устало проговорил Пиапон.
— А ты думал как? Они меня обманывают, я их тоже обманываю, как умею.
Так только и можно жить с ними. Ты не можешь так жить, не умеешь и не
хочешь, ты слишком честный человек. Я видел, что ты чуть в штаны не наложил
перед столом дянгиана.
Пиапон молча опрокинул в рот чашечку горького хамшина, закусил вареной
фасолью.
— Вон видишь толгонского охотника, у него не приняли соболя, а он и не
стыдится, сидит и пьет со всеми. Думаешь, завтра он другого соболя принесет?
Не тут-то было! Завтра он вымажет сажей этого же соболя и принесет
соболиному начальнику. Это вы, няргинские, все дураки честные. Холгитон один
чего стоит! Четыре соболя отдал задарма из-за какой-то шляпы со знаком
старшины рода! Это разве от полноты ума? Да кто такой сейчас халада? Тьфу!
Вот он кто. Ты заметил, сам маньчжурский дянгиан удивился, он-то знает, что
теперь на Амуре халада не имеет никакой власти, теперь там русские законы. А
он четыре соболя отдал! Эх, Холгитон, Холгитон, честолюбивый дурак!
Пиапон выпил еще одну чашечку и почувствовал, как крепнет его тело,
мускулы наполняются силой. Он огляделся кругом — все охотники делали вид,
что едят китайскую пищу, пьют водку, но сами стыдливо оглядывались на
стоявших вокруг китайцев и солонов.
— Я здесь обделаю такие дела — богатым буду! — продолжал
разглагольствовать Американ. — У меня тут будет столько друзей, сами будут
привозить мне всякие товары. Какие товары захочу, такие привезут.
— Ты умный, ты все можешь, — сказал Пиапон и поднялся из-за столика.
— Ты кончил есть? Насытился? — спросил подошедший солон.
— Что-то не хочется есть, — ответил Пиапон.
— Тогда весь остаток водки забирай с собой, дома будешь допивать. Еду
тоже захвати, вкусная еда.
Это была высшая любезность, какую только можно было ожидать от городских
властей. Пиапон, а за ним все охотники прихватили с собой медные хо с водкой
и отправились домой допивать. Здесь они пили сколько могли, ели сколько
влезало в желудок: здесь были они одни и некого было стесняться.
Наутро Пиапон проснулся с головной болью. Рядом с ним Холгитон с
друзьями допивал вчерашнюю водку, друзья подтрунивали над бедным халадой, а
тот хорохорился, тут же придумывая всякие небылицы. Рассказывал, что вечером
он был приглашен к городскому голове, который принял его с большими
почестями, угощал водкой, обещал даже дочь в жены. Старики же помнили, что
Холгитон весь вечер не отходил от них.
— Приснилось это тебе, приснилось, — твердили они.
Пиапон лежал с закрытыми глазами, не шелохнувшись: он знал, стоит ему
пошевелиться, его тут же поднимут и насильно заставят выпить. А пить ему не
хотелось, он думал, как ему смыть свой вчерашний позор. Он должен смыть! При
одном воспоминании, как весь вспотевший от стыда стоял он перед городским
дянгианом, Пиапон вновь обливался потом, к спине неприятно прилипал нижний
халат.
«Думать, Пиапон, надо, думать», — подстегивал он самого себя. Вспомнил
он, и как вел себя Американ вчера на приеме у градоначальника. Кто же все же
этот Американ? Охотник? Нет, он теперь не походит на охотника, он выше
ставит себя над всеми, всех поучает. Может, он, познав все хитрости и
уловки торговцев, мстит им? За обман их отвечает обманом?
Нет, Пиапон не согласен с этим, он не будет никого обманывать, пусть
торговцы обманывают, пусть все ложится на их совести, но Пиапон не станет
никого обманывать. Как это вчера сказал Американ? Богатым здесь буду, друзей
заведу, они будут мне привозить, что я захочу. Кто же эти его друзья?
Торговцы? Неужели Американ хочет стать торговцем? А что, на самом деле,
почему бы ему не стать торговцем? Его друг, коротыш Кирилл, в Хабаровске
торгует рыбой. Американу тоже будут привозить муку, крупу, сахар, материи на
одежду, и он может стать торговцем. Интересные времена пришли. Вчерашний
охотник Американ бросит охоту и станет торговцем.
— Эй, Пиапон, глаза твои вороны пометом облепили! Вставай! — Холгитон
дотянулся до Пиапона и сдернул лоскутное одеяло. — Ишь, как разоспался на
мандаринской постели. Вставай, я расскажу, как за столиком сидел с городским
дянгианом. Все не верят, а я сидел. Сидел, и все! Вставай, я тебе расскажу.
— Пиапон, не слушай его, он всем надоел, он все во сне видел, —
кричали друзья Холгитона.
— Ты же ложился со мной вместе, — засмеялся Пиапон.
— Что с того, что ложился? Может, со всеми вместе ложился, а потом меня
посыльный дянгиана разбудил, понял? Разбудил, потом повел меня к дянгиану.
— А дорогу помнишь? — спросил кто-то.
— Меня вели, понял? Не веришь? Я же халада, я один здесь халада, потому
меня позвал дянгиан.
Пиапон медленно одевался, краем уха слушая пьяную болтовню Холгитона.
Ему преподнесли чарочку хамшина, он сделал вид, что пригубил водку, и вернул
чарочку. Когда он, умывшись, вернулся на свое место, его насильно посадили
за столик Холгитона.
Пиапон оглядел просторное помещение, всюду на нарах выпивали охотники.
Пьяные охотники все же заставили Пиапона хлебнуть глоток водки. В это
время в гости в охотникам пришел торговец вместе с Американом.
— Храбрые охотника, веселитесь, веселитесь, вы гости мои, — прохрипел
торговец. — Я ваш слуга. Просите все, что хотите, все найду. Сегодня я
зарежу свинью, будете есть свежую свинину. Я для вас все сделаю. Если бы не
вы, с кем бы я торговал? Не с кем было бы торговать! Вы сами золото, вы сами
серебро!
— Выпей с нами, хозяин! — кричали со всех сторон.
Торговец подходил к столику, садился, поджав под себя ноги, и делал вид,
что выпивает вонючий хамшин.
— Свежее мясо скоро будет, — обещал он охотникам.
— Водки давай еще! — требовали с некоторых столиков.
— Принесут, сейчас еще принесут водки.
Американ подошел к Пиапону.
— Проснулся? — спросил он. — Ты так все на свете проспишь. Ты раз
приехал в Сан-Син, должен все посмотреть, всех гейш пощупать. Правильно,
Холгитон?
— А чего неправильно? Я уже щупал гейш, ночью щупал у дянгиана.
— Может, это была его дочь?
— Не-ет, какая дочь! Я тебе говорю, гейша.
Охотники повалились на нары от хохота.
Смеялись долго и от души, похлопывая невозмутимого Холгитона по спине.
Пиапон тоже смеялся до слез. Успокоившись, он спросил Американа, где
остановились толгонские. Американ не знал.
Но вскоре явились веселые, беззаботные болонцы. По их словам, они обошли
весь город и знали, где что искать и что где найти. Один из них повел
Пиапона к толгонскому охотнику.
Толгонец жил у другого торговца, тоже был пьян и еле выговаривал слова.
— Праздник, понял, праздник! — повторял он Пиапону. — Ты зачем
приехал? Разве не на праздник? Потому пей, на, пей.
Пиапон для вида поднес чашечку ко рту и вернул.
— Ты пойдешь к городскому дянгиану, отнесешь соболя? — в который раз
спрашивал он.
— Какое твое дело? — наконец поняв вопрос, рассердился толгонец. —
Хочу — принесу, не захочу — не принесу. Тебе какое дело?
Болонец тоже с удивлением смотрел на Пиапона.
— Ты зачем пришел ко мне? Зачем? Почему тебе мой соболь понадобился? —
кричал толгонский охотник.
— Ты же должен дянгиану отнести хорошего соболя.
— Я, дянгиану? Не захотел желтого, другого не получит, понял? А тебе
какое дело?
— Где твоя совесть?
— Ты чего кричишь? Где моя совесть? Откуда я знаю, где она? А-а,
совесть, говоришь! А-а, соболя надо отнести. Нет, не отнесу, хоть я нанай, а
не отнесу. Я Бельды!
— Бессовестный ты, Бельды!
Пиапон повернулся и вышел на улицу, Вслед за ним выбежал болонец,
схватил Пиапона за локоть правой руки, заглянул в лицо и спросил:
— Ты чего к нему пристал? Тебе-то какое дело, что он не отдал дянгиану
соболя?
— Мне все равно, даст он или не даст. Не мое дело. Я хотел вместе с ним
сходить к дянгиану отдать соболя, вдвоем-то веселее.
— Как отдать соболя? Ты же вчера отдал две хорошие шкурки.
— Нет, нехорошие.
— Я же своими глазами видел, черные-пречерные были.
Пиапон устало махнул рукой и попросил:
— Ты знаешь, где дянгиан находится?
— Для чего он тебе?
— Соболя своего выпрошу обратно.
Болонец засмеялся, он понимал толк в шутках.
Узкими шумными переулочками, между глиняных фанз, вел молодой охотник
Пиапона. Везде было грязно, неуютно. Пиапону казалось, что он попал в
большое стойбище. Для полного совпадения не хватало только собак. Наконец
добрались до центра города, где стояли добротные, городского типа дома,
пагоды, магазины, множество всевозможных лавочек. Болонец привел Пиапона к
большому зданию и остановился у дверей.
— Ты подожди меня, а то обратно дорогу не найду, — попросил Пиапон и с
тревогой в сердце открыл дверь.
В первом же широком зале он встретился с какими-то важными надменными
чиновниками, которые никак не могли понять нанайскую речь Пиапона, потом
один из них повел его в глубь здания, и вскоре Пиапон оказался лицом к лицу
с толстым чиновником, который встречал их на берегу и на приеме играл не
последнюю роль.
— А, храбрый охотник, ты зачем пришел сюда? — спросил толстый чиновник
по-маньчжурски.
Пиапон еще утром и по дороге размышлял, как ему поступить — признаться
ли, что он подсунул городскому дянгиану подкрашенного соболя и выпросить его
обратно, или вообще не признаваться. Но до самой встречи с толстым
чиновником ничего не решил. Если сознаться и выпросить подделку, то как
чиновники разыщут его среди десятков соболей?
— Меня зовут Заксор Пиапон, из Нярги я, — выдавил Пиапон первые слова.
— Помню, помню, я хорошо запоминаю людей.
— Я пришел... — Пиапон не знал, что ему сказать.
— Зачем пришел?
— Я вчера отдал два соболя...
— О, хорошие соболи, лучшие соболи!
— Нет... да... — Пиапон чувствовал себя глупейшим из глупейших и
рассердился на себя. — Я принес тебе еще одного соболя, — выпалил он и
вытащил из-за пазухи халата пушистого соболя.
Глаза толстого чиновника засветились, как гнилушки ночью. Он встал,
подошел к Пиапону и выхватил соболя.
— О-о! Какой красивый! Ты это мне принес? Лично мне?
— Соболиному дянгиану...
— Это одно и тоже, я тоже соболиный дянгиан. О, о, какой пушистый! Так
говори, храбрый охотник, что тебе нужно. Зачем ты пришел? Я тебе помогу, чем
смогу, помогу.
Пиапон удивленно взглянул на толстого чиновника и улыбнулся.
— Мне ничего не надо, я просто принес тебе соболя.
— Как ничего? Ты просто принес соболя и ничего у меня не просишь?
— Да.
— Ты не бойся меня, проси, что надо. Может, тебя торговец какой обидел,
а?
— Нет, мне ничего не надо, никто меня не обижал.
— Зачем тогда ты соболя принес?
Пиапону стали надоедать эти, как ему казалось, бессмысленные вопросы, и
он ожидал, когда чиновник разрешит ему уйти. Но чиновник был в недоумении,
как это охотник, отдавший в казну два положенных с него соболя, бескорыстно
принес третьего. Таких случаев за его долгую службу не было. За этим
преподношением что-то кроется. Но что именно — чиновник не знал.
— Ты вчера принес два соболя?
— Принес.
— Это третий?
— Да.
Вдруг чиновника озарила внезапная, как молния, мысль. Да, конечно, он
вчера встречал этого охотника, был с ним вежлив, угощение было тоже на
славу, водки с избытком, и поэтому в знак благодарности этот безмозглый
нанай принес ему соболя. Как это он сразу не догадался! Охотник принес
соболя в подарок лично ему. Какой он олух, как это сразу не сообразил!
— Спасибо тебе, дорогой храбрый охотник, спасибо! У тебя сердце доброе,
как у... — чиновник не мог подыскать нужное сравнение и быстро
заговорил: — Добрый ты, сердечный человек! Я не забуду твоего подарка, я
тебе тоже что-нибудь подарю, когда будешь уезжать. Спасибо тебе за этот
дорогой подарок. Ну, иди.
«Какой подарок? — недоумевал Пиапон, выходя из зала на улицу. —
Подарок. Никакого подарка я не делал, я принес дянгиану за того
подкрашенного, чтобы сердце не болело, чтобы от стыда лицо не краснело. А он
говорит — подарок. Странный чиновник!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Черный полог ночи накрыл всю землю, тучи закрыли от глаз небо и звезды.
Баоса стоял молча, прислушиваясь к ночным звукам, изредка отмахивался от
назойливых комаров.
— Дед, ты что стоишь? — спросил из-под накомарника Богдан.
— Комаров кормлю, они голодные, — ответил Баоса.
— Комаров? А зачем?
— Они ведь тоже люди ( В представлении старых нанай все живые существа
«люди».), есть хотят.
Баоса усмехнулся, смахнул с себя комаров и быстро юркнул под накомарник.
— Комары появились, чтобы досаждать людям. Ты знаешь, откуда они
появились? Вот я тебе расскажу эту сказку.
Баоса лег рядом с внуком, укрылся одеялом и задумался. Не умел Баоса
рассказывать сказки, он в жизни не рассказывал их, хотя и знал несколько
коротких легенд. Когда дети донимали его, он отделывался шуткой. Герой его
сказки таинственно появлялся в одинокой фанзе под большим чугунным котлом,
как появляются богатыри в настоящих сказках. Он приподнимает котел, выходит
на улицу, а на улице крепчайший мороз, мальчик тут же замерзает, и на этом
заканчивалась сказка-шутка.
Но как же сейчас Баоса расскажет внуку сказку про ведьму Чикори, у
которой ноги вертела, которая ходит из стойбища в стойбище и вырывает у всех
языки? А рассказать надо, мальчик ждет. Баоса закурил и неумело начал сказ,
кое-как довел до середины и, спотыкаясь, наконец добрался до конца.
— Так ее, ведьму Чикори, убили смелые люди, развеяли прах по земле, и
из ее праха появились всякие вредные комары, мошки, мокрец. От каждой
нечисти только нечисть может появиться, — закончил он. — А теперь давай
спать, нам до рассвета подняться надо.
Баоса лежал с открытыми глазами, сосал свою горькую трубку и думал,
правильно ли он ведет себя по отношению к Богдану. Мальчик честен, прям, и
Баоса тоже должен быть честным. Ведь никто не знает его намерений. Наверно,
все забыли его угрозу отобрать мальчишку у родителей, когда ему будет за
десять лет. Да, он давал такое слово, это было лет семь назад, когда Идари с
Потой приезжали к нему просить прощения. Все, видно, позабыли его угрозу, а
сам Баоса, хотя и помнит свое слово, но он уже не такой, каким был в те
прошлые времена. Он стал стар, уже никому не страшен, ни один сын его не
слушается, внуки за его спиной показывают языки. Баоса, при всем своем
желании, не может силой отобрать внука, это он сам знает. Но правильно ли он
делает, когда хитростью хочет его к себе привязать? Честно ли это с его
стороны? Может, лучше напрямую сознаться, сказать: «Богдан, внук мой родной,
хочу, чтобы ты жил со мной до моей смерти, немного осталось до этого дня».
Может, так лучше?
Мальчик давно сопел носом, над его лицом гудел одинокий комар. Баоса
пытался поймать его, но не смог, только отогнал от головы внука. Он
вспомнил, как мальчик заступился за мать перед отъездом на охоту, и нежно
поцеловал его в щеку.
«Любит мать, — подумал Баоса. — Захочет ли навсегда ее покинуть? А
Идари с Потой, отпустят ли его?»
Тоскливо стало на душе Баосы от этих мыслей, вспомнил он Ойту, сына
Полокто, который прожил с ним всего год. Полокто ластился к Баосе, всякий
раз проявлял свою заботу, приносил подарки, отдал на воспитание Ойту, и
Баоса поверил ему, но стоило однажды Баосе поссориться с ним, как Полокто
будто подменили: тогда-то он и отобрал Ойту, хотя мальчик привязался к деду
и хотел жить у него.
В молодости Баоса редко ласкал своих сыновей, но теперь, когда наступила
старость, его потянуло к внукам. Они нужны были ему, как помощники и как
утешители. До приезда Богдана он брал с собой семилетнего Хорхоя на рыбную
ловлю. А теперь он всем сердцем привязался к Богдану и не мог представить
свою жизнь без этого мальчика.
— Ты должен остаться со мной, утешитель мой, — прошептал Баоса.
Утром, на рассвете, он чуть подтолкнул внука в бок, и мальчик тут же
приподнял голову.
— Уже? — спросил он, протирая кулаком еще сонные глаза.
— Уже, — ответил дед.
На маленьких веслах мэлбиу они бесшумно поднимались по сузившейся
речушке. Солнце поднялось над сопками, когда Богдан увидел впереди лося.
Зверь стоял в воде по брюхо и ел лопухи. Первый выстрел, как договорились
ранее, должен был сделать Баоса. Старик тщательно прицелился и выстрелил.
Лось подпрыгнул, но тут же плюхнулся всей тяжестью в воду. Баоса передал
винтовку внуку.
— Не спеши, — прошептал он, — подъедем ближе.
Оморочка быстро приближалась к бьющемуся в воде лосю. Богдан, дрожа всем
телом, целился в таежного великана, но дед все не разрешал стрелять. Когда
оморочка приблизилась к зверю шагов на десять, раненый зверь поднялся на
ноги и медленно, неуверенно пошел на берег. Баоса развернул боком оморочку и
прошептал: «Стреляй».
Богдан не помнил: целился он или нет, но после его выстрела лось
остановился, зашатался, но не упал. Мальчик дослал второй патрон в казенник
и выстрелил. Лось опустился на воду, нырнул с головой, будто доставал со дна
съедобную траву, и тут же вытянулся на воде.
Баоса обернулся к внуку, прижал к груди и поцеловал в обе щеки.
— Кормилец ты мой, — сказал он.
Мальчик все еще дрожал от волнения и не отрывал глаз от лося.
— Это твоя добыча, ты добыл его, — сказал Баоса. — Сегодня
праздновать будем, устроим эйлэн.
Богдан был счастлив. Улыбка не сходила с его лица.
— Разве празднуют второго лося? Это же мой второй лось!
Баоса прожевал кусок мяса и, улыбнувшись, сказал:
— Щедрые отцы и деды каждый успех молодого охотника празднуют. Мы тоже
сегодня устроим эйлэн.
Когда охотники пустились в обратный путь, задул попутный ветер, и Баоса
поднял парус. Старик сидел на корме и правил оморочкой. Он был задумчив и
молчалив. Несколько раз пытался Богдан заговорить с ним, но разговора не
получалось. Тогда мальчик спросил напрямую:
— Дедушка, ты жалеешь, что не добыл лося? Да?
— Я их много добывал в своей жизни, зачем мне жалеть.
— Тогда почему такой скучный?
Баоса пристально посмотрел в глаза внука и ответил:
— Ты ведь меня оставишь, скоро уедешь. Потому я грущу.
Мальчик молча смотрел на деда: он о чем-то думал.
— Знаешь что, дедушка? — сказал он после долгого молчания. — Мама с
папой про тебя говорили, что ты злой, сердитый, а я думаю, ты совсем не
злой.
— Может, они правы, кто знает.
— Я знаю, ты хороший. Только я с тобой не останусь, потому что папа и
папин брат берут меня на охоту. Я с ними пойду в тайгу.
— Охотиться и здесь можно, одинаковая охота. Если бы ты остался со
мной, я бы научил тебя ловить калуг и осетров, — глухо проговорил Баоса. —
Этому надо научиться, это большой ловкости требует.
Богдан никогда не видел больших калуг, но слышал от старших, что калуги
бывают такой величины, что их тащат домой на двух нартах. Он даже не видел и
крупных осетров, к ним на реку Харпи, где не водились ни калуги, ни осетры,
привозили их только разрубленными на куски.
— Дедушка, самые большие калуги сколько саженей бывают? — спросил
Богдан.
— Что там саженей, взрослый человек на большую калугу садится верхом, а
ноги его не достают до земли.
— Ух! Вот это рыба! А как такую вытащить из проруби?
— Это дело трудное, многие взрослые не могут. Ты знаешь, калугу ведь
надо уговаривать. Если бы ты остался со мной на зиму, ты сам все своими
глазами увидел бы. Каждый день талу из осетра ел бы, — уговаривал Баоса.
— Я тоже попрошу, чтобы меня на зиму оставили у тебя.
Баоса не скрывал своей радости, он притянул к себе голову внука и крепко
поцеловал в щеки. Он был счастлив, этот угрюмый старик с сердитыми глазами.
Он опять стал рассказывать обо всем, что видел, вспоминал прошлое или
расспрашивал внука о его жизни на реке Харпи, пытаясь разузнать, что больше
всего интересует Богдана.
В стойбище вернулись в полдень. На берегу встречали дети во главе с
вездесущим Хорхой, потом прибежали женщины. Богдан, державший себя
независимо, сдержанно перед мальчиками и девочками, увидев мать, бросился к
ней в объятья, прильнул к ее груди и прошептал:
— Мама, я убил лося.
— Что ты говоришь? Сам? — удивилась Идари.
— Два раза выстрелил.
— Ах ты мой кормилец!
Смущенный Богдан не знал куда деться: на него с изумлением смотрели
мальчики, они будто говорили: «А-яя, еще охотник называется, лосей убивает,
а сам готов материны титьки сосать».
— Неужели сам двумя выстрелами убил? — допытывалась Идари.
— Дедушка сперва стрелял, потом я дважды стрелял.
Тем временем Баоса, расцеловав всех внуков и внучек, подошел к Идари с
Богданом.
— Дочка, какого ты охотника вырастила. Кормилец он уже, кормилец наш. Я
решил праздник первой добычи отпраздновать, — сказал он.
— Как ты решил, папа, так и будет, — обрадованно ответила Идари.
Другие охотники еще не вернулись, но Баоса все же решил отпраздновать
эйлэн. Женщины вымыли большой котел, вытащили из амбара второй запасный
котел и начали варить в одном — пшенную кашу, в другом — лучшие куски
мяса.
Не успел выкурить Баоса вторую трубку, как глазастый Хорхой сообщил, что
возвращаются другие охотники большого дома. Опять все дети, женщины высыпали
на берег. Первой песчаного берега коснулась оморочка Поты. Идари с Богданом
подхватили нос оморочки и вытянули на песок.
На берегу стоял шум, было весело, как осенью, когда люди собираются на
осеннюю кетовую путину, или весной, когда рыбаки возвращаются с первой
богатой добычей во время ледохода. Люди из других домов выходили на это
веселье, народу собралось больше половины стойбища.
— Сын, ты убил второго лося? Двумя выстрелами? — Пота обнимал сына. —
Удачливый охотник! Молодец!
— Дед так обрадован, эйлэн устраивает, — сказала Идари.
Пота увидел отца возле дверей большого дома. Ганга с Баосой встречали
охотников.
— С удачей, с добычей, — приветствовали они охотников.
Все вошли в дом. Охотники убирали ружья, боеприпасы, женщины хлопотали
возле кучи мяса, встречавшие соседи расселись на нарах и закурили.
На улице возле кипевших котлов хлопотали Агоака с Идари. Каша начала
густеть, и под ней сбивали огонь, но мясо еще не доварилось. Агоака тонкой
палочкой переворачивала жирные куски.
Подошла Исоака посовещаться, что делать со свежим мясом.
— Сушить тонкими пластинками, другую часть закоптить, — распорядилась
Агоака. — Скажи папе, каша готова, мясо доваривается. Сама готовь сырую
печенку и почки, режь помельче.
Немного погодя на нарах расставили столики, подали кашу, обильно
приправленную рыбьим жиром, куски мяса, мелко нарезанное мясо с сырой
печенкой и почкой. Гости чинно расселись за столиками, женщины и дети
толпились возле холодного очага, который летом не разжигается. На почетном
месте возле двух дедов сидел смущенный и радостный Богдан. Все гости
расхваливали его, пророчили ему счастливое будущее, потому что на земле
только удачливые великие охотники могут быть счастливыми, и Богдан должен
крепко держать свое счастье. Баоса с Гангой называли внука кормильцем и
желали, чтобы он всегда оставался таким добычливым охотником.
Гости принялись за еду, ели сперва кашу, потом только взялись за мясо:
так требует обычай. После обильного угощения поздно вечером гости разошлись.
Баоса с Гангой сидели на постели хозяина дома и молча курили. Другие мужчины
лежали на своих местах и баловались с детьми.
«Надо сейчас начинать разговор, — думал Баоса. — Сейчас самое время».
Но начинать разговор было труднее, чем догнать лося зимой на лыжах; какая-то
непонятная, никогда не испытанная робость охватила Баосу.
«Дети мои, оставьте мне в помощники Богдана, он сам согласен
остаться», — размышлял старик. Но язык не поворачивался, он будто
окостенел. «Что же со мной случилось? — думал Баоса. — Я боюсь своих
детей? Своих родных детей стесняюсь? Состарился, совсем, видно, состарился».
Баоса взглянул на лежавшего рядом Богдана — мальчик спал, приоткрыв
пухлые губы.
Ганга выкурил трубку и засобирался домой. Его пригласили прийти утром
позавтракать.
Вскоре женщины постелили постели, и все улеглись спать. Баоса тоже лег
со всеми вместе и продолжал думать свою тяжелую думу.
Был храбрый охотник, прозвали люди крикун-старик, все дети боялись его,
слушались, не смели перечить ни одному слову, а теперь он сам стесняется их,
слова сказать боится, робость заморозила язык. Когда же это ты, Баоса, своей
храбрости лишился? Когда, в каком году к тебе старость подошла? Неужели ты
не можешь, как в прошлые годы, прикрикнуть, чтобы дом задрожал, припугнуть,
чтобы у них жилки затряслись? Сделай это, соберись с силами и в последний
раз прикрикни. Тебе внук нужен в помощники. Будет он возле тебя — ты себя
еще будешь чувствовать охотником. Не будет его — ты уже дряхлый человек.
Ведь этот мальчик тебе силы придает, ты хочешь передать ему свою былую
ловкость, свой опыт, свое мастерство, передать все, чему научился за свою
жизнь; хочешь, чтобы он был твоим вторым «я». Для этого ты живешь. Разве ты
дождешься, когда подрастет Хорхой? Нет, тебе этого не дождаться. Ты должен
завтра утром начать разговор. Кричи, требуй, будь прежним Баосой, и ты
должен добиться своего.
От этих мыслей его отвлекли молодые охотники. Они шептались, целовались
тут рядом, и старик радостно подумал: «Как в старое время в большом доме».
Наутро перед завтраком пришел Ганга, сел возле Баосы, закурил
прокопченную трубку. Тут Баоса подозвал к себе Поту и Идари.
— Дети мои, у вас глаза острые, все подмечают, — глухо начал он.
Пота переглянулся с женой, он уже понял, о чем поведет разговор старик,
и сжал руку Идари: будь, мол, спокойна. Ганга вынул трубку изо рта и
удивленно уставился на Баосу.
— Все вы подмечаете, — продолжал Баоса, глядя на свои острые
колени. — Вы сразу заметили, наверно, как я состарился. Другие боятся в
этом сознаться, а я не боюсь. Я знаю, что мне осталось совсем намного жить,
но я не боюсь смерти. До вашего приезда плохо было со мной, все ломило, еле
вставал. Но когда я увидел вас, увидел внука — все болезни ушли от меня,
без камлания шамана сами ушли.
Идари вдруг тоже поняла, к чему ведет отец, и побледнела.
— Теперь я совсем здоров, сами видите, — продолжал Баоса, — поясница
не болит, ноги не ломит, грудь не давит. Вы, дети мои, вылечили меня. Богдан
меня вылечил.
— Хочешь сдержать свое слово? — тихо и жестко спросил Пота.
— Слово свое я помню, — вдруг зло ответил Баоса и взглянул в глаза
Поты. — Я тебе никогда не напоминал об этом, и ты не напоминай.
— Зато все равно в сердце держишь.
— Может, и держал, да не твое это дело.
— Сына хочешь отобрать и вдруг — не мое дело?
Баоса опять опустил глаза.
— Не отобрать хочу, — прошептал он, — пойми меня, сын мой, не
отобрать, у меня нет теперь прежней силы. — Старик замолчал, и все
заметили, как задрожали у него руки. Никто ничего не мог сказать, это было
так неожиданно, что все словно потеряли дар речи. Идари с ужасом смотрела,
как капля за каплей падали светлые следы на колени отца. Она не выдержала и
заплакала. В большом доме, который некогда дрожал от крика хозяина, стояла
мертвая, загробная тишина. Даже дети будто понимали необычность
происходящего.
— Не отобрать, — тихо сказал Баоса, — оставьте мне внука, он
продление моей жизни. Я не сделаю ему плохого...
— Знаю, — ответил Пота. — Но сына я не отдам.
Баоса поднял на него затуманенные слезами глаза и долго смотрел, будто
хотел разглядеть незнакомые черты незнакомого лица. По его щекам стекали
слезы. Пота не выдержал этого взгляда, не выдержал, не мог смотреть на эти
слезы горечи, слезы на лице человека, которого он некогда боялся, как
смерти.
— Хочешь, на коленях буду умолять, — сказал Баоса, и плечи его
затряслись.
К нему подбежал Богдан, обнял за шею.
— Дедушка, не надо, дедушка, не надо! — закричал он. — Я останусь с
тобой, на всю зиму останусь.
Баоса плакал, этот злой, мужественный человек, которого побаивались во
всех окружающих стойбищах, — плакал. Это было так неожиданно, что Ганга
растерялся. Ему было неудобно смотреть на слезы, он тихо сполз с нар и вышел
на улицу.
— Оставайся сын... на зиму... — плача во весь голос, проговорила
Идари. — Мы...
Баоса слез с пар, пошатываясь, вышел из дома и пошел на берег. Там он
сел на перекладину лодки. Вслед за ним прибежал Богдан.
— Дедушка, а дедушка, поедем сегодня на рыбалку, — предложил он.
Детская непосредственность, наивность! Да разве ты сможешь обмануть
прожившего долгую жизнь человека?
— Нэку, принеси мне мою трубку, — попросил Баоса.
«Это старость, это уже четыре доски, с четырех сторон, — подумал он,
когда внук побежал за трубкой. — Что же делать, кровь уже не та, не такая
густая, потому и слезы. Кричать не могу, горло сузилось, злиться не могу,
желчный пузырь вытек... На коленях ползал... Да, да, это одно и то же, что
ползал... Перед кем? Перед детьми. Жизнь переменчива, как погода. А вот Амур
как тек годами, так и течет, никак не изменяется, только протоки, пожалуй,
меняют русла, расширяются и рвутся на простор. Протоки — дети — рвутся
куда-то... Как в жизни».
— Дедушка, я сам прикурил твою трубку. — Богдан передал деду дымящуюся
трубку и сел рядом.
Баоса затянулся раз, второй и почувствовал, как горький дым проламывает
какие-то перегородки в груди, из-за которых ему было тяжело дышать. С каждой
затяжкой ему становилось все легче и легче. Богдан сидел рядом и понимающе
молчал. Он глядел, как Амур несет свои воды в неведомые края.
Прибежал Хорхой, позвал завтракать. Баоса ответил, что придет, когда
докурит трубку. Богдан побежал домой наперегонки с Хорхоем.
«Стыдишься своих слез? — спросил самого себя Баоса и ответил: — Теперь
поздно, теперь нечего стыдиться. Душу надо крепить, нельзя мужчине даже к
старости становиться женщиной».
Баоса выкурил трубку, выбил пепел о борт лодки и зашагал домой.
Навстречу к нему выбежали щенята, он наклонился, потрепал их смешные
мордочки и пошел дальше. Дверь амбара была открыта, лесенка прислонена к
дверям. В дверях показалась Идари, она выносила мешочек крупы. В глазах
Баосы потемнело, он подбежал к Идари, которая уже сошла на землю.
— Собачья дочь, что ты делаешь! — закричал Баоса. — Все старые обычаи
забыла? Разве тебе можно заходить в отцовский амбар? Ты же теперь человек
другого рода, другой семьи. Ты счастье моего амбара можешь вынести с
мешочком и унести в свою семью! Все обычаи забыла!
Баоса размахнулся сухонькой рукой и ударил дочь по спине. А рука старика
была еще сильна.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Первые дни пребывания в Сан-Сине походили на большой радостный праздник.
Старики, не выходя из дома приезжих, выпивали водку; молодежь, жадная до
зрелищ, бродила стайками по городу, заглядывая в лавки, магазины, часами
простаивала перед ловкими фокусниками где-нибудь на многолюдном базаре или
переулке.
Торговцы старались быть гостеприимными хозяевами, угощали лучшими
блюдами, резали свиней, каша всегда была обильно приправлена маслом, медные
хо, в которых подогревалась водка, казались бездонными и никогда не
иссякали. Молодых охотников сопровождали слуги торговцев, показывали город,
знакомили со злачными местами.
Дни проходили в сплошных развлечениях, и никто не знал, сколько прошло
времени со дня их приезда.
Холгитон со стариками друзьями не вылезал из дома приезжающих, но каждое
утро пересказывал, как он гостил у городского дянгиана, и эти его сказки
всем порядком надоели и не вызывали прежнего смеха. А Пиапон стал объектом
насмешек выпивших стариков: он вставал позже всех, когда старики допивали
второе или третье хо. Развеселившиеся охотники под шумный смех и шутки
стягивали одеяло с Пиапона и заставляли выпивать чашечку водки.
Пиапон не знал, как избавиться от этих выпивок с раннего утра. Разве что
вставать раньше стариков и уходить из дома — но куда? Однажды он все же
поднялся раньше стариков. Солнце только что показалось из-за горизонта, в
городе еще было пустынно, и Пиапон не знал, куда ему пойти. Как ему в это
время хотелось, чтобы рядом оказалась своя оморочка, острога, тогда он знал
бы, куда ехать и что делать. «И что только делают люди в городах? — думал
он. — Торгуют торговцы, покупают покупатели, одни возят людей, продукты,
другие варят еду, веселят народ, а остальные люди что делают? Столько в
городе людей, все ходят, бегают туда-сюда, а что они делают, чем занимаются,
как еду добывают? Не поймешь».
С такими мыслями он дошел до окраины города, где ютились кособокие
фанзы, где голопузые ребятишки, точно как в Нярги, купались в песке и в
пыли. Черные от солнца и пыли, мужчины и женщины копались в маленьких
огородиках, перебирали руками каждое растение, выдергивали сорные травы. Они
походили на трудолюбивых барсуков.
Вдруг Пиапона окликнул высокий худой старик, у которого на подбородке
каким-то чудом сохранилось с десяток длинных белых волос. Старик обратился к
нему по-маньчжурски.
— Ты, наверно, приезжий? — спросил он.
— Да.
— Амурский? Нанай?
— Да.
Старик опустился на мягкую траву, пригласил и Пиапона сесть. Пиапон
вытащил кисет и предложил старику. Закурили.
— Ты маньчжур? — спросил Пиапон.
— Не знаю сам, кто я. Маньчжур спросит, отвечаю — маньчжур, китаец
спросит, отвечаю, китаец. Мне все равно.
— Как же так?
— Если бы мне сказали — назовись солоном и ты богато заживешь, земли у
тебя будет больше, дом будет хороший, я бы не стал задумываться, назвался бы
солоном.
Старик сердито запыхтел короткой трубочкой. Пиапон оглядел старую фанзу
с почерневшей соломенной крышей, огороженный лоскуток землицы, где росли
овощи.
«Выходит, у него земли больше нет? — подумал он. — Так как же так? Вон
сколько ее кругом, разве он не может там посадить свои огурцы, капусту?»
Пиапон вспомнил привольные луга на Амуре, ароматную тайгу, и ему
захотелось похвастаться перед стариком тем, что он, Пиапон, никогда не
ощущал нехватки земли, где ступала его нога — там и была его земля. Потом
он подумал, что это будет не совсем хорошо с его стороны, и спросил:
— Ты только на земле работаешь или еще рыбу ловишь, охотишься?
— Я только в земле копошусь, больше ничего не умою делать. Неудачливый
я человек. Когда раньше маньчжурам лучше жилось, мне ничего не досталось.
Теперь тоже ничего. Потому я говорю, кто бы я ни был — китаец или
маньчжур, — мне все равно.
Пиапон сочувствовал старому маньчжуру, но никак не мог понять, почему
старик держится за этот клочок земли, когда вокруг столько невозделанной,
необработанной земли. Мог бы он переехать на другое пустое место и там
выращивать свои любимые овощи. Сочувствовать-то Пиапон сочувствовал, но не
любил таких нерешительных людей, которые плачутся по всяким пустякам.
— Вон там разве мало земли, не можешь там огород раскопать, — не очень
дружелюбно сказал он.
Старик взглянул на Пиапона потухшими глазами и горько усмехнулся.
— Кругом здесь земля мандаринов, они хозяева.
— Почему тогда они сами не сажают огурцы и всякую зелень?
— Их земля, что хотят, то и делают.
— Если земля пустует, то займи ты.
— За это на деревянный кол сажают, голову рубят.
Старик покачал головой. Пиапон сердито смотрел на него. Он не поверил ни
одному слову старого маньчжура, счел его жалким лентяем и лгуном. Земледелец
поднялся и сказал:
— Когда вот так совсем незнакомому человеку расскажешь о себе, легче
становится. Ты не обижайся, что я тебя остановил.
«Несчастный старик, одними овощами питается, потому такой худой, —
подумал Пиапон без всякой жалости, — пошел бы на Сунгари, рыбы половил бы,
а то на охоту мог бы пойти. Копается, как мышь, в клочке земли с подошву,
много тебе даст эта земля...»
Возвратился Пиапон в дом приезжих поздно. Зашел и остановился в
дверях — в доме стоял сплошной гвалт, шум, охотники скопились в правой
стороне нар и, размахивая руками, кричали.
Пиапон подошел поближе. Несколько пожилых охотников окружили двух
молодых и хором, перебивая друг друга, ругали их на чем свет стоит.
Пиапон никак не мог разобраться, в чем провинились юноши. Сидевший перед
молодыми охотниками Холгитон приподнялся на колени, поднял руки и потребовал
тишины.
— Двенадцать дней мы живем, — сказал он, — но ни у кого еще ничего не
потерялось. А у вас, у охотников, какие-то воры вытащили деньги. Стыд!
Деньги были в халате? В халате. Внутри? Внутри. Как же их могли вытащить
воры? Нет таких воров, которые вытащили бы у чутких охотников деньги! Вы
сами их выронили. Пьяные были и выронили. Если пьяные, не ходите в город.
Вот мы, старики, мирно сидим дома, не выходим и ничего не теряем. Сидите
дома! Хватит, погуляли.
— Теперь мы будем гулять! — подхватил один из друзей Холгитона. — А
чего делать? Торговец водку перестал давать, соболей требует.
На этом закончился суд над молодыми охотниками, вина которых заключалась
только в том, что они зазевались на базаре, глядя на фокусника, и у них
ловкие воры вытащили мешочки с монетами.
«Так-так, уже и с ворами познакомились», — подумал Пиапон.
— Чтобы нас совсем не оставили без денег, надо скорее уезжать, —
сказал кто-то.
— Когда ты нас отпустишь? — спросил Пиапон у торговца.
Издавна существовал неписаный закон: приезжие охотники не имели права
выезжать домой без разрешения торговца, к которому они приехали. А торговец
всячески задерживал их в ожидании прибытия из Харбина барж с дешевым
продовольствием, чтобы расплатиться с охотниками.
— Обожди, обожди, Пиапон, — откуда-то появился Американ, — да ты что,
по жене соскучился? Э-э, друг, говорят, ты еще ни разу не навестил гейш? Да
ты мужчина или нет? Там такие есть... Эх, Пиапон, все отдать можно за них!
Пойдем, друг, пойдем!
— Никуда я не пойду.
— Жены боишься? Она далеко. Да какой же охотник жены боится? Ладно,
пойдем вот к нему. — Американ ткнул в бок торговца, взял за руку Пиапона и
повел за собой.
Последние несколько дней Пиапон только по утрам видел Американа, потом
он исчезал на целый день и появлялся только в обществе торговцев. Его
несколько раз видели в городе с разными знакомыми торговцами. Когда охотники
завтракали, обедали и ужинали из одного котла в доме приезжих, среди них не
было Американа, говорили, что он ест за одним столиком с торговцем.
Американ привел Пиапона в дом торговца, усадил за низкий столик рядом с
хозяином дома, сам развалился на мягких подушках. Он всем своим
самодовольным видом словно говорил: смотри, мол, Пиапон, какой я друг
торговца, сижу за его столиком, как почетный гость.
Торговец хлопнул в ладоши, и тут же две девушки, мелко семеня маленькими
ножками, принесли на подносах еду, склянки с несколькими сортами водки.
— Будь гостем моим, храбрый охотник, — сказал торговец. — Ты друг
моего друга,, ты и мой друг. Пей, ешь, что хочешь. Это правда, что ты не был
у гейш? Ничего, мы ведь мужчины, правда, Американ?
— Зачем же приезжать в Сан-Син, если не переспать с гейшами, —
засмеялся Американ.
— Слышу голос храброго мужчины, — прохрипел торговец.
Пили много, Пиапон никогда раньше не пробовал таких вин, которые ему
здесь подносили, и он охотно и с наслаждением пил. Поздно вечером Американ
куда-то повел его. Пиапон чувствовал, что ноги его заплетаются, пытался идти
ровно, но земля уходила у него из-под ног. Придя на место, Американ
распорядился, чтобы Пиапона уложили, где надо, и предупредил, что он не
знает китайского языка.
А утром Пиапон проснулся в объятиях смугленькой хорошенькой девушки.
— Проснулся, охотник? — улыбнулась она, обнажив красивые ровные зубы.
— Я с тобой спал? — спросил Пиапон.
— Да, а ты не помнишь?
Пиапон ничего не ответил и обнял ее за плечи.
...Потом он сидел в постели и сосал трубку, глядя, как девушка хлопотала
возле низенького столика, готовила чай. Она чувствовала его взгляд,
оборачивалась и улыбалась своей ласковой улыбкой. Гейша нравилась Пиапону,
он любовался ею, ее женственной красотой. Вот она разлила чай в маленькие
фарфоровые чашечки, поставила на поднос и поднесла Пиапону. Он взял чашечку,
обжигаясь, глотнул густой ароматный чай.
— Ты давно здесь? — спросил он.
— Давно.
— Сколько тебе лет?
Девушка усмехнулась.
— Скоро мне отсюда уходить. Старая я.
— А сколько?
— Скажу — ты больше не захочешь ко мне прийти.
— Я приду к тебе! — неожиданно для самого себя воскликнул Пиапон.
Девушка опустилась на колени перед Пиапоном, и Пиапон, отставив чашечку,
взял гейшу на руки, как берут малых детей.
— Какая ты маленькая, худенькая. Тебя плохо кормят?
— Нет. Нам нельзя толстеть: растолстеешь — тоже придется уходить.
— Какие-то непонятные у вас законы. А как ты сюда попала?
— Родители продали, они бедняки...
— Как это продали? Дочь свою родную продали?
— Да.
Пиапон глядел в чистые черные глаза девушки — нет, эти глаза не могли
врать! Значит, правда, что отец продал ее, чтобы прокормить ее братьев и
сестер. Если опять настанут трудные дни, может продать и другую дочь...
Пиапон осторожно опустил девушку на постель. Продать свою дочь! В какой
нужде надо находиться, чтобы продать родную дочь, заранее зная, кем она
станет и чем будет заниматься. Нет, Пиапон не может понять такого отца, не
может простить его! Это не мужчина, настоящий мужчина должен бороться до
конца! Пусть будет нужда, пусть будет голод, мороз и пурга, медведь и тигр,
вода и огонь — все равно мужчина должен бороться. На то он и родился
мужчиной!
Пиапон вскочил на ноги.
— Что с тобой? Охотник мой, что с тобой?
— Дрянь, а не отец у тебя! Он не мужчина!
— Не говори так! — вдруг закричала девушка. — Не говори так! Он
хороший, он хороший, он хороший!
Девушка уткнулась в подушку и зарыдала, ее худенькие плечики тряслись,
точно в лихорадке, все ее тело била крупная дрожь.
Вдруг постучали в дверь. Гейша встрепенулась и закричала:
— Я занята!
Потом она села, все еще всхлипывая, стала переплетать красивую толстую
косу.
— Мне нельзя плакать, тоже могут выгнать, — сказала она. — Ты не
скажешь, что я плакала?
Пиапон молча кивнул головой и подумал: «Это ведь тоже работа. Сколько,
оказывается, на земле непонятных работ! Ей надо быть всегда красивой,
ловкой, нежной, она должна всегда нравиться мужчине. Тоже работа! А что бы
она могла делать? Такая тонкая, маленькая, хрупкая. Замуж ее уже не возьмут.
Какой еще работой она станет добывать себе пропитание?»
Пиапон собрался уходить, но гейша схватила его за руку.
— Подожди, немного подожди. Ты полюби меня, и я опять стану красивой.
Нет, Пиапон уже не мог любить это нежное существо, он мог ее только
жалеть. Да, жалеть! Он прижал к себе ее красивую головку, поцеловал в лоб.
— Зачем я расплакалась, сама не знаю. Нет, я не плакала, верно, мой
охотник, я только смеялась, я только любила тебя, верно? Я хорошо тебя
любила? О-о, ты сильный человек, мой охотник! Ты мне очень и очень
понравился. Ты придешь ко мне? Я буду ждать. Ты придешь, мой охотник?
«Она сама себя обманывает, утешает», — подумал Пиапон, поцеловал гейшу
и вышел.
В доме приезжих Пиапон впервые за все дни пребывания в Сан-Сине увидел
Холгитона трезвым.
— Ты где ночевал? Я уже беспокоиться стал, не случилось ли чего? Ночью
опасно по городу ходить, всякие тут есть люди, могут ни с того ни с сего
ножом пырнуть в живот. Где ты был? — допытывался старик.
— К гейшам ходил, — признался Пиапон.
— Э-э, говори, — засмеялся Холгитон, — наслушался моих сказок о том,
как я к городскому дянгиану в гости ходил, и тоже сказки рассказываешь. Кто
же у гейш ночует?
Пиапон махнул рукой и прилег на постель.
— Ты видишь, я сегодня трезвый, торговец жадничать стал. Теперь, я
думаю, он в кашу масла класть не будет, боду без крупы станет варить, мяса
мы больше не увидим. Не веришь? Помяни мое слово — так будет, старики еще
рассказывали. А Американ с торговцем заодно, подружился. Ты сегодня что
будешь делать?
— Спать буду.
— Ну, спи. А я сегодня в город выйду. Да. Ты слышал, у болонского
торговца и здесь свой дом, говорят, и жена есть, молодая. Как он так живет?
В Болони у него две жены, да здесь одна. Живут же люди! Может, мне сходить к
нему в гости? Как ты думаешь?
— Сходи, он тебя ждет.
— Ты чего такой недовольный?
— Иди в город, расскажешь потом новости.
Пиапон раза три выходил прогуляться по ближайшим кривым переулкам и,
возвратившись, опять ложился на постель. У него из головы не выходила
маленькая красивая гейша. Только теперь он начал понимать, как глубоко
потрясла его необыкновенная судьба этой бедной девушки, но он упрямо
продолжал обвинять ее отца. Пиапон мерил жизнь своей меркой и потому считал
отца красавицы ленивым бездельником. По его представлениям, нельзя жить в
голоде, когда рядом есть и большие реки, как Сунгари, Амур и тайга. Наконец,
он, отец, мог выращивать овощи и ими прокормить семью. Потом вспомнил
маньчжура с лоскутным огородишкой, а так же давние рассказы молодого
Митрофана, который тоже утверждал, что на его родине, в далекой России,
земля, луга, леса принадлежат богатым русским, что бедняки живут в нужде,
потому что у них не хватает земли. Митрофан хотя и был молод, но обошел
много сел, городов, много видел, был честен и храбр. А знакомство с гейшей
еще больше открыло ему глаза на окружающее, он как-то еще не вполне
осознанно почувствовал, что мир не таков, каким он его представлял раньше,
что на каждом уголке земли, у каждого народа есть свои законы, свои беды.
Размышления Пиапона прервали возбужденные голоса вернувшихся из города
охотников.
— Пиапон, Пиапон! Ты спишь, как ты можешь спать? — подошел к нему
Холгитон. — Такое сейчас в городе произошло, а ты спишь. Ох! Что
произошло! — Холгитон снял шляпу, бережно положил на постель и стал снимать
с себя верхний вышитый орнаментами нарядный халат. Руки его дрожали. Наконец
он разделся, набил трубку, табаком и подсел к Пиапону.
— Сколько всего перевидел на свете, но сегодня только увидел, как
человек убивает человека, — начал он возбужденно. — Нет, я видел, как
нечаянно убивают человека, а тут, говорят, по приказу дянгиана убивали.
Страшное дело, Пиапон, глаза бы не видели.
Пиапон тоже закурил.
— Ты подробнее расскажи, а то ничего не разберу, — попросил он.
— Тебе подробнее, а мне страшно вспомнить!
— Тогда не рассказывай.
— Нет, нет, не могу не рассказать, а то совсем плохо будет. Вот слушай.
Ушел я отсюда в город, попал в то место, где ловкие люди всякие непостижимые
фокусы показывают. Смотрел я, прямо залюбовался молодым человеком, который с
десяток тарелок вертел на палочках. Как только не падают у него эти
тарелки — не поймешь! Рядом со мной стоит такой же молодой и тоже во все
глаза смотрит на эти тарелки. Я ему говорю: тебе, мол, тоже надо научиться
такому ремеслу. «Мне некогда, я у богатого мандарина слуга». — Ты что,
женские работы выполняешь? — «И женские выполняю». — Эх, ты, говорю, разве
ты мужчина, тебе женский халат надо надеть». А он даже не рассердился,
наверно, лишился желчного пузыря и потому отучился сердиться. Потом я ходил
по базару. Подхожу к большому дому, много людей вокруг этого дома работают.
Нашелся один словоохотливый маньчжур, он и рассказал, что недавно под этот
дом делался подкоп, хотели разграбить. А дом не простой, это большой
торговый дом. Воров поймали, им сегодня головы рубили. Правда, я не знаю,
этим ли ворам рубили головы или другим каким, только я своими глазами видел
это.
Холгитон закрыл глаза, попыхтел трубкой и продолжал:
— На базаре какие-то люди закричали, и народ пошел в одну сторону. Все
шли в одну сторону, точно как кета вверх по Амуру поднимается. Я тоже пошел.
Вышли на открытое место между домами, а там посередине стоит высокий
деревянный помост с распиленными деревянными чурбаками. Сюда и привели
воров. А на настиле стоит большой толстый китаец в красных штанах с топором
в руках. Пиапон, я его и сейчас вижу перед собой, как живого вижу! Ох,
Пиапон, как они, бедные, кричали, как бились, вырывались! Да люди же они,
какие бы плохие ни были, они люди! Как так можно...
Вернулось еще человек восемь охотников. Они молча раздевались перед
нарами. На нары к Холгитону залез один из его друзей.
— Ты был там? — спросил он.
— Был.
— Всякая человеческая смерть трогает человека, а тут человек при народе
рубит головы людям. Неужели это по закону так требуется? Днем, при народе...
Ох, как это плохо!
Пиапон слушал Холгитона, и волнение рассказчика незаметно перешло к
нему, и ему тоже стало казаться, что сам он присутствовал на казни воров и
переживал весь ужас их смерти.
— Когда рубили их, я подумал, пришли бы они меня обворовывать или
нет, — сказал друг Холгитона.
«На самом деле, пришли бы они нас обворовывать или нет? — подумал
Пиапон. — Может, у них не было еды? Если бы вдоволь ее было, пошли бы они
обворовывать торговый дом?»
— Выпить надо, я сегодня не могу не выпить, — заявил Холгитон. Вскоре
слуги торговца принесли наполненные ханшином медные хо, и охотники сели за
столики, чтобы за водкой позабыть дневное страшное зрелище. Но разговор о
казни продолжался до глубокой ночи, пока у последнего охотника не смежились
веки.
Зародившаяся после приезда охотников круглая, как лицо красавицы, луна
медленно растаяла на маньчжурском небе. На место ее выкатилась другая луна,
такая же круглая, такая же яркая, как и первая.
— Вторая луна родилась, а когда мы обратно отправимся, никто не
знает, — вздыхали охотники.
— Наши уже готовятся к кетовой путине.
— Да, в низовьях уже гонцы должны появиться.
— Летнюю кету уже ловят.
Больше полутора месяцев жили охотники в Сан-Сине, и всем, молодым и
старым, город так надоел, что многие предпочитали отлеживаться в постели,
нежели бродить по пыльным кривым переулкам, таращить глаза на фокусников и
циркачей. Охотники изнывали от безделья, просили торговца быстрее отпустить
их или, на худой конец, найти им какое-нибудь достойное охотников занятие.
Торговец улыбался, льстил, обещал, но не выполнял ни одного обещания.
Охотники стали замечать, как за последнее время оскудела их пища, они давно
уже не ели рисовой каши, кормили их больше гаоляном и чумизой, даже не
приправленными маслом. Супы были без мяса, из воды и зеленой капусты, боду
варили жидкую — в ложку попадалось две-три крупинки проса и чумизы.
— Я же говорил вам, голодом он нас заморит, — повторил Холгитон. — Я
в самый первый день сказал это.
Из всех пожилых охотников, кажется, один Холгитон нашел себе какое-то
непонятное другим дело в городе. Он иногда с утра до вечера пропадал там, но
молодые, бродившие в поисках развлечений, не встречали его ни на шумном
базаре, ни у циркачей, не попадался он и в многочисленных лавчонках. Однажды
его встретили возле пагоды. В центре города за магазинами возвышалась
круглая пагода с причудливой крышей, она стояла в середине широкого двора.
Холгитон проходил через двор, когда его случайно увидели молодые охотники.
Когда он вернулся в дом приезжих, на него набросились скучавшие без дела
охотники. Со всех сторон посыпались десятки вопросов.
— Да ничего я там не делаю! — сердито отбивался Холгитон. — Прихожу,
смотрю. Первый раз меня один маньчжур туда привел, показал внутри пагоду,
мне понравилось. Ох, как красиво там внутри! Видели бы вы, как там красиво.
Мне этот маньчжур много рассказывал всякого, но я запомнил только, что по их
вере, если разумно вести себя при жизни, после смерти ты можешь стать самым
богатым, самым счастливым человеком.
— Так умрешь ведь...
— Ты слушай. Все умрут, но есть еще буни, там тоже живут. Вот в буни
будешь самым счастливым, самым богатым. Слуг будешь иметь, жен сколько
хочешь — лучше мандарина будешь жить. А если плохо будешь вести себя,
обманывать и обижать людей, то ты в другом мире будешь собакой, росомахой,
плохим животным. Вот что рассказал мне маньчжур. Я думаю, этот китаец,
который рубит людям головы, на том свете станет росомахой.
Охотники, особенно умудренные жизнью старики, молчали, пытаясь своим
умом разобраться в рассказанном. Они знали со слов шаманов, что человек,
попадающий после смерти в другой мир, остается таким же, каким он был на
земле, только его останки надо хорошо прибрать после смерти, да душу вовремя
отправить в буни. Они еще знали, что умерший грудной ребенок может вернуться
к родителям. Но они впервые слышали, что после смерти в потустороннем мире
можно стать вдруг богатым или превратиться в ничтожное существо. Это было
что-то новое.
— Маньчжур мне говорил, что нам можно с собой увезти мио. Это кусок
материи, где изображены большие мудуры (Мудуры — божественные солнечные
змеи.) драконы. Эти мне можно держать дома и молиться им, а можно где-нибудь
на стороне построить им домик и там молиться. Маньчжур говорит, эти мио
всегда приносят удачу, только надо хорошо молиться.
— А какие подношения надо делать мио?
— Это твой мио, хочешь задобрить — принеси что-нибудь, не хочешь — не
надо. Твой мио, он не обидится.
— Мы ведь своему священному дереву — пиухэ приносим кое-что, черепа
убитых медведей развешиваем, кости приносим. А мио что-нибудь требует?
— Если тебе так хочется, принеси что-нибудь, — Холгитон чувствовал
себя в новой роли знатока буддийской религии не совсем уверенно. У него в
голове все перемешалось: шаманские камлания, их рассказы о строении мира и
буддизм, растолкованный маньчжуром в самом примитивном виде.
Но мио, который не требует особых жертвоприношений, понравился
охотникам, все они решили перед выездом домой приобрести по нескольку мио.
— А как надо молиться мио? — спросил молодой охотник.
— Как ты молишься хозяину тайги, так и молись.
Возле Холгитона сидел молодой паренек из стойбища Диппы, он все
порывался что-то спросить и не осмеливался, густо краснел и смущенно опускал
голосу.
После ужина, когда Холгитон с Пиапоном вышли на улицу, за ними вышел и
паренек из Диппы. Он долго мялся, но наконец спросил:
— Дака, мио вылечивает болезни?
— Смотря какие, — пошутил Пиапон, — внутренние или какие другие
болезни?
Паренек помолчал и тихо промолвил:
— Я, наверно, заболел плохой болезнью.
— Плохой болезнью? — одновременно переспросили Холгитон и Пиапон.
— Да, я часто к гейшам ходил...
— Нэку, плохая болезнь трудно излечивается, я даже не знаю, поможет мио
или нет. Одного человека я только знал во всем Амуре с такой болезнью. Он
какими-то голубыми камнями прижигал. Где он достал эти камни, тоже не знаю.
Плохо, нэку, плохо! Поговори с Американом, он ведь твой родственник, пусть
поведет к китайскому доктору, может, здесь вылечишься. А мио — не знаю,
вылечивает такую болезнь или нет.
Пиапон не стал больше вмешиваться в разговор и зашел в дом. Вслед за ним
вернулся и Холгитон. Раздевшись, они легли спать. Погасили жирник. Дом
окутала тьма.
— Дака, ты правда веришь этому мио? — спросил Пиапон.
— А чего не верить? Пусть висит дома в углу, кто захочет, тот и
помолится.
— Пользу будет приносить?
— Кто его знает! Когда я в тайге молюсь дереву, я сам не знаю — будет
удача или нет. Но надо верить, если веришь, то удача придет. Я думаю, что
русским иконам молиться или мио — одинаково. Который будет тебе помогать,
тому и молись. Если оба не помогают — но молись, лучше тогда у поди
(Подя — дух, якобы являющийся хозяином тайги, рек.) попроси удачи в
тайге — это уже вернее. Ты, Пиапон, не очень-то выбирай, колени не
разобьются у тебя от того, что ты преклонишься перед новым богом. Я так
думаю. А этого парнишку жалко, это плохая болезнь.
— Надо было ему в Сан-Син приезжать за такой болезнью, — сказал
Пиапон.
— Молчи, болезнь такая нехорошая может ко всякому человеку пристать.
Спи.
Наутро Пиапон, уже в который раз, пытался застать на берегу
какого-нибудь рыбака, чтобы поехать с ним на рыбную ловлю, если тот
согласится взять его с собой. Когда он вышел на берег, мимо него проплыли
джонки, плоскодонки с рыбаками, но никто из ловцов не хотел брать с собой
лишнего человека. Солнце поднялось над сопками, когда разочарованный Пиапон
решил возвратиться в дом приезжих. Но тут подсел к нему высокий худой
сутулый старик с длинным лошадиным лицом, при улыбке обнажались его желтые
крупные зубы. Это был тот самый проторговавшийся торговец, который встречал
на берегу халико Американа, и по колено вошел в воду, чтобы спросить у
Пиапона, есть ли среди приезжих озерские нанай из стойбища Полокан.
Пиапон и позже несколько раз встречал его в городе, видел вблизи дома
приезжих, но старик ни разу больше не заговаривал с ним. Теперь он смело
подсел к Пиапону.
— Не сердись на меня, храбрый охотник, — сказал он на ломаном
нанайском языке. — Давно хотел с тобой поговорить, да как-то не
осмеливался. Скоро уезжаешь?
— Не знаю.
— Теперь уже скоро, должно быть. Раньше в это время приходили баржи с
дешевой мукой и крупой. Все мы, торговцы, ждем эти баржи. Я тоже в свое
время ждал...
Пиапон молчал. «Пусть говорит», — решил он.
— Я ведь торговцем был, меня многие боялись, я был выше их. Ударю кого,
они хвост поджимали и убегали. Потом вместе собрались и... Последний раз я
десять лет назад ездил к вам на Амур. Хорошо съездил. Богатую пушнину
привез. Я заехал к озерским нанай, был в Гогда, Мунгали, Сэпэриунэ,
Полокане. О, о, в Полокане у меня друг остался, Чонгиаки его зовут, крепкий
охотник, жив, наверно, еще. О, о, это гостеприимный человек, для гостя
ничего не пожалеет, — он улыбнулся, вспоминая прошлое, потом вдруг
помрачнел. — Не надо было мне ездить к озерским нанай, но надо было. Это
место охоты торговца У из стойбища Болонь. Ты знаешь, кто хозяин торговца У?
Да откуда тебе знать. Это человек, который любого торговца может в один день
сделать пищим. Вот он так и сделал, когда узнал, что я охотился на место
охоты У. Теперь я совсем нищий. Был бы моложе, я бы еще поднялся на ноги.
Да, поднялся бы! — старик замолчал, опустив голову.
«Старый волк, — неприязненно подумал Пиапон. — Немало косуль передавил
в жизни». Он поднялся, но старик взял его за руку.
— Обожди, храбрый охотник, когда ты рядом, я будто молодею, вспоминаю
хорошее прошлое и молодею. Я у тебя ничего просить не буду, не бойся. Посиди
еще немного. С тобой, мне кажется, будто я опять на Амуре. Да, в Полокане
жил еще один храбрый охотник. Вспомнил, звали его Токто. Ты его не знаешь?
Пиапона вдруг кто-то будто ударил по голове, он зажмурил глаза, потом
открыл, оглядел длиннолицего китайца.
— Ты был в Полокане? Десять лет назад?
— Да, да, — закивал старик, но вдруг, почувствовав что-то неладное,
тихо забормотал: — Но мы, но я ничего там худого не сделали, нас хорошо
провожали, всем стойбищем провожали.
— А потом все стойбище вымерло!
— Как вымерло? Все, все? И мой друг Чонгиаки, и храбрый охотник Токто?
— Это ты привез туда болезнь! Ты привез! — закричал Пиапон, повернулся
и быстро зашагал в дом приезжих. Он не слышал крика старого китайца, он не
видел перед собой дороги: Пиапон бежал от того страшного видения, которое на
мгновение возникло в его воображении. Сам Пиапон никогда не видел Полокана,
не был знаком с его жителями, но он живо их представил, когда слушал много
лет назад рассказ сестры Идари о гибели стойбища и его жителей. Тогда-то
возникла в его воображении страшная картина людской смерти, и она теперь
вновь появилась, будто отразилась на волшебном зеркале. Пиапон шел быстрым
шагом по кривым переулкам, спотыкался и переходил на легкий бег. Если бы
кто-нибудь спросил его, куда спешит, он не смог бы ответить. Возле дома
приезжих он встретил Холгитона.
— Дака, ты знаешь, ведь китайские купцы болезнь напустили в Полокан, —
сказал Пиапон. — Теперь я это узнал, старый торговец мне подал эту мысль.
— Какой Полокан, ты о чем? — удивился Холгитон.
— На реке Харпи десять лет назад стойбище Полокан погибло, помнишь?
Идари...
— А-а, ты вот о чем. Да, погибло стойбище. А на Амуре разве мало
погибало стойбищ?
— Теперь я знаю, болезнь привозили торговцы.
Холгитон оглядел Пиапона, будто впервые видел его. Потом уголки его рта
скривились в улыбке.
— В чем это привозили, в бутылках или в мешках? — спросил он.
— Не знаю в чем, но многие болезни от них. Ты же сам вчера говорил, что
плохой болезнью раньше не болели нанай, теперь один уже заболел...
— Сколько живу, никогда глубоко не задумывался об этом, да к чему это?
Болезни сами появляются. Как трава из земли прорастает, так и болезни из
земли выходят. Этот молодой охотник привезет свою плохую болезнь на Амур, а
когда состарится и умрет, его болезнь с ним уйдет в землю. Потом может выйти
из земли и пристать к кому-нибудь другому. Я думаю, все болезни так
появляются, — Холгитон опять оглядел Пиапона и спросил: — Мио будешь
покупать?
— Куплю.
— Вот и хорошо, — Холгитон понизил голос. — Я опять пошел в пагоду,
сейчас я там молюсь, прошу, чтобы того жирного китайца, который людям головы
отрубает, бог мио сделал росомахой. Как ты думаешь, можно молиться, чтобы он
стал росомахой?
— Это твое дело.
— Только я вот что думаю, если он росомахой станет, то опять будет
гадить людям. Однажды в тайге росомаха нашла мой лабаз с мясом, съела
сколько могла, потом обгадила остаток мяса, понос был у проклятой.
Пиапон прикусил губу, чтобы не рассмеяться.
— Ладно, пусть станет росомахой, — все же противный, вонючий зверь, —
сказал Холгитон, приняв окончательное решение.
Холгитон довольно бодро зашагал по пыльному переулку и вскоре скрылся за
ближайшими домами. А Пиапон стоял, смотрел вслед Холгитону и размышлял над
его словами. Он почти готов был поверить Холгитону, что различные болезни,
как травы, появляются из-под земли, не заставляли его сомневаться
вспомнившиеся рассказы древних стариков о крепком пароде нанай, которые
редко болели и умирали только от старости или от несчастных случаев. Ведь
нанай все время живут на земле, и если из-под земли появляются болезни, то
почему же они раньше не болели?
Нет, Пиапону самому не разобраться, будь тут рядом его друг, русский
доктор Харапай, он бы все растолковал и разъяснил, что к чему. Воспоминание
о далеком друге заставило Пиапона опять вспомнить Амур широкий, бесконечные
озера, узкие речушки со звенящей водой, тайгу и сопки, и глубокая тоска
петлей захлестнула горло. Он позабыл о старом китайце-торговце, вообще обо
всех торговцах, привозящих на Амур вместе с товарами различные нехорошие
болезни, о Холгитоне. Он всегда забывал все окружающее, когда вспоминал
родной Амур, глухую тайгу, голубые сопки и зимнюю белую тишину. Как во сне
видел широко разлившееся Джелунское озеро, где обыкновенно проводил лето,
где готовил бересту на оморочки, хомараны и различного рода чумашки и
туески. Там же ловил рыбу, готовил для зимы рыбий жир, на берегах горных
звенящих речек подкарауливал осторожных изюбрей и лосей.
Пиапон весь ушел в воспоминания, словно окунулся в теплую приятную воду.
— С утра раннего пропал, ничего не ел. Ты так с голоду помрешь! —
сказал появившийся рядом друг Холгитона.
Пиапон пошел в дом, и ему подали столик и на нем чашку остывшей похлебки
из чумизы и ломоть пресной лепешки. Он доедал эту скудную еду, когда в дом
вбежали двое молодых охотников и принесли радостное известие, что через три
дня они отплывают домой.
Три дня прошли как в пьяном угаре, все охотники гурьбой ходили по
магазинам, ларькам, покупали гостинцы детям, украшения дочерям и женам,
потом получали за сданную пушнину у торговца муку, крупу, сахар, штуки дабы
и другой материи на халаты. Торговец опять расщедрился, кормил охотников
лучшей едой, поил водкой, как в первые дни, и неустанно повторял, что сами
охотники золото и серебро, что он им не жалеет ничего, отдает последнее
продовольствие, последнюю водку. В день отъезда на берегу появился толстый
чиновник в сопровождении нескольких разодетых китайцев и маньчжур, за ними
носильщики несли какие-то ящики, тащили повозки.
— Храбрые охотники! — обратился толстый чиновник. — Вы очень щедры,
вы преподнесли городскому дянгиану щедрые подарки, теперь городской дянгиан
отдаривает вас своими подарками. Городской дянгиан вас не мог принять вчера
вечером, сегодня тоже не мог прийти сюда, он очень занятый человек, потому
он поручил мне за него преподнести подарки. — Чиновник вытащил бумагу и
стал вызывать охотников по именам.
— Смотри ты, когда это успел он запомнить наши имена! — удивлялись
одни охотники.
— Когда соболя ты отдавал, тогда писарь записывал, — отвечали другие.
Первым вызвали Холгитона, назвали его халадой, чиновник даже поклонился
ему. Холгитон выпрямился, принял из рук чиновника большой сверток, потом по
велению чиновника носильщики принесли несколько пудовых мешочков с мукой и
крупой, сверху мешков лежали свертки материи.
— Халада, — продолжал чиновник, — приезжай еще к нам в гости,
приглашай своих людей с собой. Мы всегда рады видеть тебя у себя в гостях в
прекрасном городе Сан-Сине. Доброй тебе дороги, халада!
Холгитон был растроган такими проводами, смахнул ладонью набежавшую на
щеку слезу и поклонился чиновнику.
За Холгитоном вызывали других охотников, и каждому вручали сверток и по
пудовому мешочку муки или крупы, отрез дабы на два халата. Когда подошла
очередь Пиапона, чиновник передал ему подарок городского дянгиана и от себя
добавил сверток — большую жестяную банку леденцов и добрый отрез дабы.
— Храбрый охотник, мы тоже можем на подарок ответить подарком, —
торжественно проговорил толстый чиновник. — Бери это все от меня лично.
Приезжай, будешь самым дорогим гостем. Доброго тебе пути!
Пиапон не стал возражать против подарков, бессмысленно было бы здесь, на
берегу, при народе доказывать, что он не делал никакого подарка толстому
чиновнику. Ему стало ясно, что толстяк присвоил себе соболя.
«Пусть присвоил, мне-то какое дело? — подумал Пиапон. — Я отдал им
соболя. И к кому он попал, мне все равно. А банка хороша, когда леденцы
кончатся, в ней можно муку, крупу хранить — мыши ни за что не доберутся».
Подарки были розданы, и под напутственные крики провожающих тяжело
нагруженный халико отошел от берега. Но на корме стоял Американ и выкрикивал
прощальные слова оставшимся новым друзьям-торговцам.
Халико вышел на середину Сунгари, его подхватило течение.
— Эх, халада, приедем в следующем году! Смотри, как тебя щедро одарили,
это потому, что ты халада, потому что ты четыре соболя отдал, — говорил
Американ. — А нам всем мало даров преподнесли, пожалели. Но ничего...
— Чего ты хнычешь, как голодный щенок? — спросил Холгитон. — В этой
лодке половина муки, крупы и материи твои, другая половина всех нас. Чего ты
скулишь?
— Я хозяин халико...
— Ну, даров тебе больше, чем другим, принесли твои новые друзья. Вон
сколько ящиков.
— Э-э, Холгитон, чужие богатства не надо считать. Давай лучше выпьем за
счастливую дорогу.
Солнце стояло в зените и припекало непокрытые головы молодых гребцов,
новые черные узкополые шляпы Американа и Холгитона. Охотники задержались с
выездом из-за проводов. Проводы городского дянгиана, по неписаным законам,
должны были состояться еще вчера вечером в том же доме, где он принимал
охотников. Но по каким-то причинам прощальный вечер не состоялся, и охотники
решили, что дянгиан пожалел подарков. Только утром им сообщили, что подарки
принесут на берег, к лодке.
— Теперь все не так, как раньше было, — ворчал Холгитон, — подарков
тоже маловато, отцу моему халаде давали три штуки белой материи — чибу,
двадцать бутылок водки, а мне что дали? Все не так, как раньше. Жадные
стали. Может, нас уже за охотников не считают? Гребешки, бусы, браслеты
подсунули. Жадные!
Подвыпившие гребцы только замачивали весла в воде и вскоре, изнуренные
солнцем, уснули на сиденьях. Только к вечеру гребцы пришли в себя.
Всю ночь не сомкнули глаз охотники, стараясь плыть по середине роки,
свободно вздохнули только тогда, когда вышли на просторы родного Амура. Днем
гребцы отдохнули, на каком-то маленьком островке, сварили обед и
подкрепились горячей пищей.
Вечером, с наступлением сумерек, стали искать место для ночлега. Вскоре
увидели на берегу одинокую фанзу и пристали. В фанзе жили нанай, старик со
старухой. Они несказанно обрадовались неожиданным гостям. Старушка
захлопотала, в большом котле начала варить уху — весь вечерний улов
старика.
Тем временем Американ угощал старого рыбака водкой, расспрашивал о
жизни, о рыбной ловле, интересовался — далеко ли до ближайшего населенного
пункта и кто в нем живет.
— Русские живут, русские, — отвечал захмелевший старик.
— Э-э, тогда мы можем сегодня гулять, — сказал Американ.
Когда сварилась уха, охотники расселись на полу маленькой фанзы и начали
выпивать. Пиапон весь день простоял за кормовым веслом, ослабел и устал.
После трех чарочек у него начали слипаться глаза, он прилег на нары и тут же
уснул мертвым сном.
Где-то в середине ночи внезапно над самым его ухом ударил гром. Раз.
Два. Пиапон открыл глаза. В фанзе поднялся переполох.
— Хунхузы! Хунхузы! — закричал кто-то истошным голосом.
— Убивают! Убивают! — вторил ему другой.
Пиапон сполз с нар, и тут опять выстрелили в окно. Кто-то на полу
закричал диким голосом. Открылась настежь дверь, и очумевшие от испуга
охотники хлынули в дверной проем. Затрещали выстрелы. Пиапон ногой выбил
решетчатую раму, затянутую пергаментной бумагой, и выскочил в окно. Что-то
горячее полоснуло по затылку, на мгновение оглушило его. Пиапон схватился за
затылок, горячая, липкая кровь потекла по ладони.
— Держи, держи! — закричали рядом.
Пиапон бежал в темноте напропалую через кусты, споткнулся обо что-то и
упал на мокрую росяную траву. Его схватили за плечи, подняли и поволокли
куда-то в темень. Пиапон не знал, куда и зачем его тащат. Державшие его за
руки хунхузы говорили по-китайски, и Пиапон ничего не мог разобрать в их
речи. Недалеко впереди раздались выстрелы, вслед за ними хунхузы подняли
крик. Тащившие Пиапона китайцы заспорили между собой, потом, видимо, пришли
к единому решению, они подвели Пиапона к какому-то тонкому дереву, скрутили
назад руки, связали, посадили спиной к дереву и косой привязали к стволу.
Опять затрещали выстрелы, и оба китайца побежали на эти выстрелы. Пиапон
с трудом встал на колени, при каждом движении в затылке возникала
невыносимая боль, в глазах темнело от этой боли.
«Встань, Пиапон, встань, — подбадривал сам себя Пиапон. — Вернутся
хунхузы, тебе не остаться в живых».
Но встать на ноги Пиапон не мог. Липкая кровь теплой струйкой стекала по
шее, за ворот халата и вниз по спине.
— Не жди возвращения хунхузов, иди, ищи товарищей.
Пиапон резким рывком наклонил голову, страшная боль на мгновение
парализовала все тело, и он потерял сознание. Пришел в себя от грохота
выстрелов, стреляли совсем рядом, пули свистели над самой головой. Потом
выстрелы прекратились.
«Сейчас вернутся хунхузы. Сейчас, — подумал Пиапон. — Топором будут
рубить или стрелять? — зубы забили тревожную дробь. Пиапон сжал до боли
челюсти. — Неужели в такую ясную ночь придется умирать? Не может быть! Не
может быть! Есть же на небе эндури, есть же спаситель Ходжер-ама!
(Ходжер-ама — Отец Ходжер.)»
Пиапон поднял лицо к небу, взглянул на тускнеющие с наступлением
утренней зари звезды и прошептал:
— Ходжер-ама, эндури-ама, помоги мне, не дай хунхузам погубить меня,
вернусь домой, зарежу черную свинью, угощу тебя. Эндури-ама, Ходжер-ама,
помоги!
Пиапон внезапно всем телом рванулся вперед и опять потерял сознание.
Небо серело, и звезды одна за другой потухали. Рассветало. Наступал
день. Двое хунхузов, вооруженных топорами, возвращались к дереву, где
оставили свою жертву.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
По всему великому Амуру, по его братьям-притокам Сунгари и Уссури, Кур и
Урми, Анюй и Харпи разбросаны десятки, сотни нанайских стойбищ, одни
стойбища насчитывают по три-четыре фанзы, другие — самые крупные — по
двадцать, тридцать фанз. Стоят эти стойбища на песчаных релках, окруженные
душистой черемухой, дикими яблочками, кустами красной смородины и колючего
шиповника. И все они похожи одно на другое, те же глинобитные, покрытые
травой, фанзы, амбары на четырех жердяных ножках, сушильни юкол. Только в
последние годы начали появляться в больших селениях рубленые дома, они
горделиво возвышаются над фанзами, посверкивают стеклянными окнами.
В стойбище Хулусэн не было еще деревянных домов. Здесь жил великий шаман
Богдано Заксор. Он только в дни камлания напускал на себя важность,
становился недоступным, а в другие дни на охоте или на рыбалке ел со всеми
смеете из одного котла, любил пошутить и посмеяться, когда другие шутили. Но
он был все же великий шаман, и все почтительно держались от него в стороне,
кроме стариков. Вторым уважаемым человеком в Хулусэне был старый Турулэн
Заксор, владелец священного жбана счастья. Жбан счастья считался родовой
святыней Заксоров. Старейшины, которых было пять человек, имели право
хранить жбан у себя, но в последние годы никто из них не воспользовался
своим правом и священный жбан оставался в Хулусэне. О чудодейственной силе
священного жбана и о великом шамане Богдано шла молва по всему Амуру и его
братьям-притокам Сунгари и Уссури, Кур и Урми, Анюю и Харпи: со всех стойбищ
летом и зимой приезжали больные, жаждущие исцеления, они привозили с собой
жертвенных свиней, петухов, десятки бутылок водки. И стойбище Хулусэн давно
сделалось священным местом, куда были устремлены взоры и чаяния всех
больных, незрячих, бесплодных, несчастных и неудачливых.
Полокто ни в чем не мог отказать своей жене, красавице Гэйе. Несколько
дней она уговаривала его поехать погостить к отцу в стойбище Хулусэн.
Наконец он согласился, попрощался с только что приехавшей в гости младшей
сестрой Идари и ее мужем Потой и вдвоем с Гэйе выехал в Хулусэн. Дома
оставил первую жену Майду и двух сыновей с невесткой.
В Хулусэне, как всегда в летнюю пору, было шумно и весело: все стойбище
участвовало в камлании шамана. После окончания камлания поедали жертвенных
свиней, выпивали предназначенную эндури и добрым сэвэнам водку.
— О, дети мои, какие у вас длинные ноги, как раз вовремя прибежали, —
обнимая приехавших, говорил отец Гэйе Ливэкэн. — Пошли скорее, а то все
мясо съедят без нас, всю водку выпьют.
— Опять пьют? — сделал удивленное лицо Полокто, хотя это ему было
известно лучше, чем другим.
— А что летом делать в Хулусэне, если не пить водку? — ответил
Ливэкэн. — Люди приезжают да приезжают, друг за другом стоят и ждут, когда
их черед наступит, чтобы помолиться вашему жбану. Вон смотри, пять лодок
приехало, две лодки к шаману, а три лодки помолиться жбану. Сегодня целый
день одна лодка молилась, три свиньи привезли, много водки. Вот какая жизнь
в Хулусэне! Не то что в других стойбищах! Дармовая водка, лучшие куски
жирной свинины! Пошли, пошли быстрее, наверно, уже вторую свинью поедают.
Ливэкэн подхватил пожитки гостей и первым зашагал домой. У дверей Гэйе и
Полокто встретили мать Гэйе и сестра Улэкэн, которая опять сбежала от
очередного мужа, не возвратив тори. Сестры обнялись.
— Опять сбежала? — усмехнулся Полокто.
— Надоел он мне, — ответила кокетливо, поджав губы, Улэкэн и
усмехнулась. — Гэйе тоже скоро сбежит от тебя.
— Пусть попробует.
— Нет, что ты, Улэкэн, я не сбегу. Я с ним до смерти буду жить, он ведь
настоящий мужчина, — сказала Гэйе.
— Бессовестные, хотя бы мать постеснялись, — проворчала старушка.
— Ха, настоящий не настоящий, я бы не стала его делить с другой, —
Улэкэн отвернулась, что означало высшую степень пренебрежения.
Полокто, не слушая болтовни сестер, зашел в фанзу, снял халат и вытер им
потное лицо. Вошли женщины, Гэйе захлопотала, стала развязывать узлы,
вытаскивать нарядные халаты.
— Неплохо было бы выкупаться, — сказал Полокто.
Полокто по пояс ополоснулся холодной водой и надел новый нарядный халат.
К этому времени Ливэкэн подогрел в медном хо водку, старушка нарезала летнюю
юколу, подала куски отваренного мяса.
— Мы тоже что-то свое имеем, — самодовольно говорил Ливэкэн. —
Нехорошо сразу с чужого начинать, давай выпьем сначала своего, нашего, потом
пойдем на угощение.
Ливэкэн с Полокто выпили по две чашечки теплой водки, закусили и
отправились в дом Турулэна.
Большой дом владельца священного жбана был переполнен народом; на нарах,
поджав под себя ноги, сидели мужчины, ели из тарелок, мисок мелко
накрошенное мясо. Двое мужчин разносили водку, подавали каждому маленькую, с
наперсток, чашечку. Тот делал глоток, не допив до дна, возвращал
подавальщику, который в свою очередь делал вид, что пригубляет водку, и
возвращал опять ему же, и только на этот раз охотник допивал чашечку до дна.
Один из подавальщиков, коренастый, невысокого роста мужчина с обветренным
мужественным лицом, сразу привлек внимание Полокто.
— Кто он? — спросил Полокто. — Откуда?
— С реки Харпи, зовут его Токто.
Токто подал чашечку очередному старому, уважаемому охотнику и встал на
колени:
— Дака (Дака — обращение младших к старшим.), ты прожил долгую
счастливую жизнь, ты много видел на земле. Я кланяюсь тебе и прошу, удели
немного счастья мне и моим детям, пусть они становятся на ноги, пусть хоть
половину пути пройдут, который ты прошел, пусть хоть половину воды выпьют,
сколько ты выпил, пусть оставят свой след на земле!
Охотник три раза ударил лбом о пыльный пол.
— Вставай, Токто, — ответил старец. — Вставай.
Токто встал.
— Слушай меня, Токто. Не так-то уж счастлив был я на этой земле.
Счастье, наверное, есть, но оно обходило меня. Ты самый удачливый охотник,
ты самый храбрый. Идет слух, что ты победил всех хозяев рек, ключей, даже
хозяина тайги. Ты сильный человек. Оставайся таким же, и счастье должно
прийти, дети твои станут на ноги. А свое счастье, сколько его есть, все
отдаю тебе и твоим детям. Пусть они все будут живы и здоровы, пусть они
пройдут путь больше, чем я прошел, пусть они выпьют воды больше, чем я
выпил, пусть как можно больше оставят следов на земле.
Старик выпил чашечку и передал Токто. Тут к нему подошла бледная
миловидная женщина и тоже поклонилась тому же старцу. Это была жена Токто
Кэкэчэ. Выпив из ее рук чашечку водки, старик поцеловал ее в обе щеки и
пожелал ей счастья и побольше детей. Кэкэчэ вернулась к женщинам, которые
сидели возле очага, ели и тоже выпивали.
Полокто не отводил глаз от Токто, его глубоко задели своей
проникновенностью, душевной болью слова, обращенные к старцу. Так мог
сказать только тяжело раненный в душу человек.
Полокто понял, что перед ним тот Токто, о котором по всему Амуру с
восхищением говорят охотники, как о победителе хозяина тайги. Никому еще не
пришлось победить хозяина тайги, только один Токто не преклоняет перед ним
колени, покрикивает на него и требует своего. Этот самый Токто десять лет
тому назад спрятал сбежавших из Нярги Поту и Идари. Храбрый человек!
Другой подавальщик подошел к Полокто и подал чашечку теплой водки.
Полокто выпил.
— Что же ты здесь стоишь? — услышал он знакомый голос. То был сын
старого Турулэна Яода. — Иди, садись рядом с отцом.
Полокто с Ливэкэном подошли к почетному месту, где сидел хозяин жбана
старый Турулэн.
— А, акпало (Акпало — старший сын.) приехал, — прошамкал старик. —
Садись сюда, сюда. Ты, Ливэкэн, тоже садись, места хватит. Когда приехал?
— Только что, — ответил Полокто.
— Голодный, наверно? Этот Ливэкэн жадный, да все в Хулусэне становятся
жадными. В мои молодые годы этого не было. Почему такими становятся —
непонятно.
— Гости виноваты, они слишком щедры, — сказал Ливэкэн.
— Им скупиться нельзя, они к богу приезжают молиться. Им скупиться
нельзя. Ешь, Полокто, ешь. Мясо остыло, но ничего, вкусное, жирное.
Полокто спохватился: забыл поклониться священному жбану. Он встал на
колени и поклонился в угол, где стоял переплетенный толстыми веревками,
наполовину отпиленный и густо намазанный глиной жбан, а рядом стоял высокий
двуликий сэвэн с большими грудями и толстыми ногами, шея сэвэна была
украшена несколькими рядами бус, каждая бусинка представляла железное
изображение человечка, собачки, тигра, медведя, волка, рыси.
Потом Полокто пил поднесенную водку, ел жирное мясо и потел. Вскоре
нарядный халат стал мокрым, хоть выжимай влагу.
В фанзе было душно, накурено. Полокто собрался выйти на улицу, когда к
ним приблизился Токто. Он положил новые угощения на жертвенный столик,
стоявший перед священным жбаном, потом передал небольшой мешочек старому
Турулэну. Мешок звякнул, когда старик положил его в грудной карман.
«Что же это такое? — подумал Полокто. — Неужели деньги? Когда это за
моление стали деньгами расплачиваться?»
Недолго пришлось раздумывать Полокто, старик вытащил из кармана мешочек,
отвернулся и высыпал на шкуру, на которой сидел, три царских рубля.
— Хе, маловато, — проговорил он. — Пожадничал охотник. Ему было
сказано, за такое моление пять-шесть рублей. Пожадничал.
— Разве за моление деньгами платят? — спросил Полокто.
— А чем платить, соболями? — огрызнулся старик.
— Разве мало трех свиней и водки?
— Свиньи и водка — это для священного жбана, для эндури-ама.
— Раньше так было...
— «Раньше было, раньше было!» — передразнил Турулэн. — Жбану одно, а
мне тоже надо, я держу жбан.
«Будто кормишь», — чуть было не сказал Полокто вслух, но вместо этого
сказал:
— Свиньи и водка ведь тоже твои, тебе какую-то часть отдают. Они денег
стоят.
— Отдают, отдают, чего ты пристал! — старик начал злиться. — Вон
сколько ртов надо угощать, разве хватит им этих свиней? Я, что ли, их буду
угощать? Вот эти деньги пойдут на угощение. Не понимаешь, так помалкивай.
Иди лучше, разыщи этого Токто и скажи цену, пять или шесть рублей.
Полокто встал и вышел на улицу. Светило солнце, но оно было какое-то
тусклое, желтое и почему-то вертелось.
«Опьянел», — подумал Полокто.
Рядом с домом стоял сарайчик, где варили мясо, кашу, суп, там столпилось
много молодых женщин, среди них были Гэйе и Улэкэн. Они тоже пили.
Пока Полокто стоял и глядел на женщин, из дома вышел Токто. Полокто взял
его за локоть и сказал:
— Токто, я очень рад тебя видеть. Меня зовут Полокто, я из Нярги,
старший сын Баосы.
— А, — улыбнулся Токто, обнажая белые как снег зубы. — Я тоже рад
видеть брата Идари.
— Я знаю, ты названый брат Поты. Ты ловко тогда запрятал их на своем
Харпи.
— Они и без меня не пропали бы. Пота храбрый человек.
— Да, был бы он храбрым, если бы мы тогда нашли его!
— Не нашли, так теперь не надо вспоминать старое.
— Как же не вспомнить — в Нярги встречаю Поту, здесь его названого
брата! Как же тут не вспомнить?
Полокто пошатнулся, Токто поддержал его.
— Ничего, ничего, ты не держи меня, это солнце крутится и меня крутит.
Да. Смотри, вон женщины. Та, что сейчас пьет, это моя жена. Красивая, а?
— Да, — согласился Токто и подумал: «Другой постесняется свою собаку
похвалить, а он жену расхваливает».
— А рядом ее сестра. Тоже ничего. Слушай, Токто, женись на ней, пусть
будет вторая жена, у меня тоже две жены. Она тебе народит счастливых детей.
Токто в упор смотрел на Полокто, глаза его постепенно начали темнеть,
синяя жилка на правом виске начала нервно пульсировать.
— Они встанут на ноги, будут счастливы, — продолжал Полокто, не
замечая, что творится с собеседником.
— Замолчи, этого не трогай, — проговорил Токто.
Полокто тут только заметил, как изменилось лицо Токто, и испугался. Он
сделал шаг назад, зачем-то оглянулся. Токто отвернулся от него и пошел. Но
Полокто остановил Токто и сказал:
— Храбрый Токто, ты пожадничал.
— Что ты сказал?
— Ты знаешь цену за моление, ты дал меньше, чем надо.
Токто сжал кулак, опять синяя жилка на правом виске начала нервно
пульсировать.
— Ты приехал молиться священному жбану, к эндури-ама, и тут нечего
жадничать. Это тебе не хозяина тайги побеждать, это сам эндури-ама.
Непобедим он.
«Какой негодяй!» — подумал Токто и еле сдержал себя, чтобы не
расплющить нос Полокто.
Токто вернулся в дом и принес в тряпочке недостающих три серебряных
рубля.
На следующий день рано утром Токто уехал из Хулусэна. Полокто разошелся
и всем за столом рассказывал, как он напугал храброго охотника. Никто не
слушал его, потому что все знали, кто такой Токто и кто — Полокто. Даже
любимая его Гэйе сказала: «Перестань хвастаться, а то догоню Токто и буду с
ним жить». А старец, который отдал свое счастье Токто и его детям, выразился
так: «Большая льдина плыла по Амуру, а на берегу стоял щенок и плевался на
нее. Льдина плыла и плыла, не обращая на щенка внимания. А она могла бы
двинуться на щенка и раздавить его. Но льдина проплыла, даже не обратив
внимания на щенка».
Старец, рассказывая свою притчу, ни разу не взглянул на Полокто. Но все
поняли, к кому это относилось.
А Полокто перешел за другой столик и примолк.
Вслед за Токто священному жбану молилась молодая женщина из стойбища
Найхин. Она ослепла недавно и просила эндури-ама вернуть ей зрение, потому
что без глаз не может жить на земле, вышивать, выделывать кожу, шить унты и
халаты, выдумывая все новые для них узоры.
Слезы текли из ослепших глаз женщины, она без конца отбивала поклоны
священному жбану.
В это время на поляне за стойбищем великий шаман Богдано исцелял
мальчика-горбуна.
И опять в этот вечер все стойбище желало выздоровления слепой женщине и
мальчику-горбуну, и опять пили водку, ели жирную свинину.
Полокто присутствовал на камлании великого шамана и удивлялся: Богдано
нисколько не старел, он, как и в молодые годы, без устали танцует шаманский
танец, голос его молод, звонок, волосы на голове черные, как воронье крыло.
В последние годы Богдано не находил времени выезжать на охоту и рыбалку: ему
не хватало времени на эти обыденные для нанай дела. Он почти каждый день
камлает, часто за ним приезжают из других стойбищ, и он покидает Хулусэн на
месяц, на два. Богдано последний великий шаман на Амуре, который может на
касане (Касан — религиозный обрядовый праздник, окончательное отправление
души умершего в буни.) отправить душу умершего в буни. Обрядовый праздник
касан устраивается летом во многих стойбищах. Поэтому Богдано получал
приглашения со всех сторон и никому не мог отказать. После его выезда
стойбище будто сиротело, наступала продолжительная тишина, потому что во
всех стойбищах почти в один день узнавали, куда и зачем уехал великий шаман
и кто собирался к нему, откладывали свою поездку, но потом, поразмыслив, все
же приезжали в Хулусэн к священному жбану.
Полокто, как близкий родственник шамана, сидел рядом с ним, разговаривал
с ним, отвечал на его вопросы о здоровье отца, братьев, детей. Во время
разговора к Богдано подошел отец мальчика-горбуна и передал шаману
завернутые в тряпку деньги.
— Не сердись, если мало, собрал, что мог, — сказал охотник и, налив в
чашечку водки, подал шаману. Богдано небрежно бросил деньги на сложенную
кучей постель и взял чашечку.
— Я сделал все, что мог, — сказал он. — Ты сам все видел, все
понимаешь. Самые лучшие сэвэны помогали мне. Я думаю, твой сын выздоровеет.
Отец подозвал к себе жену, та принесла мальчишку.
— Кланяйся, сын, кланяйся, — сказал отец. — Он тебя спасет.
— Кланяйся, кланяйся, — повторяла мать.
Мальчик неумело поклонился, ударился лбом о нары.
— Живи, нэку, будь охотником, — сказал Богдано и сделав глоток из
чашечки, передал охотнику. Тот тоже сделал глоток и вернул шаману. Богдано
выпил содержимое чашечки.
«Шаман тоже берет деньги, — отметил Полокто, — выходит, все теперь
стоит денег. Много, наверно, накопили они этих звонких рублей. Раньше никто
при людях не брал денег, иногда брали соболя, лису, но денег не брали. Новые
времена, новые обычаи появляются. Надо сказать отцу, пусть на год возьмет
священный жбан, тогда мы установим новые цены, можно много денег накопить. Я
бы новые цены установил — за гроб десять рублей, глаза — это главное для
человека — пятнадцать рублей, другие болезни по семь, восемь рублей...»
— Ты что задумался, Полокто, — прервал его сладостные мысли шаман. —
На язык, на кусок сердца.
— Хорошо рядом с тобой сидеть, дядя, — улыбнулся Полокто. — Лучшими
кусками лакомишься, да чаще всех водку подносят.
— Сегодня ты тут из Заксоров самый старший, тебе и сидеть.
— Говорят, ты уезжаешь в верхние стойбища?
— Да, в Толгон зовут, завтра-послезавтра за мной приедут.
«Э, еще попразднуем», — подумал Полокто.
Все последующие дни он пил беспробудно, не отставали от него и Ливэкэн,
Гэйе, Улэкэн. Вечером Полокто еле-еле возвращался домой с Ливэкэном, а чаще
оставался ночевать в той фанзе, где выпивал. Он знать не знал, что творила в
это время его любимая Гэйе.
На моление в Хулусэн приезжали больные, немощные, но гребцами были
молодые в самом соку юноши. И Гэйе не пропускала этих парней, она хоть и
пила в компании женщин, но никогда не напивалась, как некоторые молодухи. А
по вечерам, как только Полокто засыпал мертвецким сном, бежала на свидания с
юношами. Ночь она проводила в обществе юношей. То один, то другой молодой
охотник уединялись с ней в прибрежных кустах.
— Что же это твой настоящий мужчина столько дней с тобой не спит? —
как-то спросила Улэкэн, которая была осведомлена обо всех похождениях
сестры: они делили между собой одних и тех же молодых гребцов.
— Я его жалею, пусть набирается силы, — усмехнулась Гэйе.
— Может, мне его расшевелить?
Гэйе внимательно оглядела сестру и усмехнулась.
— Мы же делим одних и тех же молодых. А его я делю с Майдой. Какая мне
разница? Может, мне с сестрой лучше делить, чем с Майдой!..
В эту ночь чуть отрезвевший Полокто был разбужен нежными руками Улэкэн,
она щекотала его.
А утром Полокто накрутил на левую руку толстую косу Гэйе и поволок ее
полуголую на край нары.
— А-а-а! Отец, отец Ойты, больно! А-а-а! — звериным голосом завопила
Гэйе. — Что ты делаешь? За что? Больно, отец Ойты, больно. А-а-а!
Полокто молча поставил ее на ноги и начал бить. Он бил ее по лицу, по
голове, по спине — куда опустится его кулак. Белое красивое лицо Гэйе
покрылось синяками, кровоподтеками, из носа капала кровь. Это еще больше
разъярило Полокто, и он все усерднее продолжал бить. Гэйе уже не кричала,
она скулила, как сильно побитая собака, не могла стоять на нотах, но Полокто
крепко придерживал ее левой рукой за косу.
— Мапа (Мапа — старик, муж.), что же ты молчишь? Что же ты не
заступишься? — теребила мать Гэйе мужа.
— Молчи, не наше дело, — ответил Ливэкэн.
— Как не наше дело? Она наша дочь.
— Ну и что? Наша, да не наша.
Ливэкэн сел на постели, открыл деревянную продолговатую коробку и начал
сворачивать табак.
— Наша дочь! Он убьет ее.
— Это его дело, — Ливэкэн закурил трубку.
Полокто теперь бил жену только в спину и в бока. Лицо его ничего не
выражало — ни ненависти, ни радости, глаза были тусклы, как бывает у только
что проснувшегося пьяницы.
— Со сколькими спала? — наконец прохрипел он.
У Гэйе безжизненно свесилась голова, из носа капля за каплей стекала
кровь.
— Со сколькими спала? — ровным голосом повторил Полокто.
— Нет, нет, — простонала Гэйе.
— Аха, нет, — Полокто сильно ударил ее в бок. Женщина только
застонала. Полокто поволок ее за косы к очагу и бросил на глиняный пол.
— Заступись, мапа, заступись! — умоляла старуха, дергая мужа за рукав.
— Перестань, говорю, не наше дело, он муж и что хочет, то и делает с
женой. Это, может, лучше даже.
Полокто устало сел возле жены, закурил трубку.
— Подними голову, — сказал он. — Я знаю, ты живуча, как росомаха.
Подними голову! — повторил он уже громко и резко.
Гэйе застонала, но подняла голову.
— Со сколькими спала?
— Не помню...
— Вспомни.
Гэйе бессильно опустила голову.
— Виновата я, отец Ойты, виновата...
— Раньше надо было думать, сука! Еще меня сестре продаешь! — тут
Полокто вскочил на ноги и начал пинать жену, теперь он побледнел, глаза
разгорелись, лицо перекосилось от Злости.
— Я тебе что? Что я тебе, чтобы ты меня продала? Старый халат? Шкурка
белки? Даже хорошую собаку не продают, а ты меня...
Полокто задыхался от бешенства. Гэйе лежала на полу, как травяной мешок,
она даже не стонала.
— Подними-и голову-у!! — истошным голосом закричал Полокто.
Гэйе пошевелилась, попыталась поднять голову, но не смогла, попыталась
еще раз.
— Подними-и-и!!
Гэйе подняла голову.
— Смотри, видишь этот нож, — в руке Полокто держал тоненький острый
охотничий нож. — Захочу и зарежу тебя.
— Полокто! Полокто! Что ты делаешь?! — старушка сползла с нар, но ее
ухватил за халат Ливэкэн.
— Не твое дело, не вмешивайся.
— Отец Ойты, не убивай... виновата я, — прошептала Гэйе, — не убивай
только...
— Я тебе не верю.
— Поверь, отец Ойты, последний раз...
Полокто помолчал, будто раздумывал, а на самом деле он внутренне
смеялся, глядя на изуродованное лицо жены, и думал: «Теперь выйди с таким
лицом на улицу».
— Ладно, поверю. Иди, ложись в постель, — сказал он.
— Не могу.
— Не можешь, лежи здесь.
Полокто вложил нож в ножны, висевшие на стене, и вышел на улицу.
В Хулусэне люди встают раньше солнца. Когда великое светило поднимается
над сопками, многие уже возвращаются домой со снятой сетью, с уловом. А те
гулеваны, которые не поставили с вечера сети, раскрыв глаза, потерев кулаком
опухшие веки, идут по стойбищу искать чашечку-наперсток. Искать им особенно
не приходится, потому что они точно знают, где найти водку, и направляются в
тот дом, где остановились приезжие.
В это прекрасное утро Полокто решил не пить. Он видел, как весело и
радостно выкатилось солнце из-за синих сопок, и что-то с ним случилось
такое, что он не мог объяснить ни себе, ни Ливэкэну; просто он дал себе
слово в этот день не пить, а выехать домой в Нярги. Дней пять Полокто
собирался домой, но никак не мог выехать: то его утром напоит Ливэкэн, то
старик Турулэн пригласит к себе, то приезжает молиться родственник, то
старый друг.
— Проклятье, этот Хулусэн стойбище пьяниц и обжор, — бормотал Полокто
в минуты прояснения, — нигде на нанайской земле столько не пьют, как здесь.
— Ты прав, аоси, ты прав, — поддерживал его Ливэкэн, — Хулусэн самое
веселое стойбище, здесь круглый год праздники. Больным и калекам, может, не
праздник, а нам праздник. Здесь песок и вода пропитана водкой. Не веришь?
Вот встанешь утром, выпей нашей воды, ты сразу вновь опьянеешь. Понял?
— Нет, Хулусэн — это стойбище пьяниц и бездельников, я не могу больше
здесь жить.
— Правильно, отец Ойты, уедем домой, — просила Гэйе.
Она еще не совсем оправилась после побоев, синяки сошли с лица,
кровоподтеки исчезли, но у нее еще болели бока. Боль ощущалась при сильном
вдохе, даже смеяться было больно.
— Мне надо жить! Чтобы жить, надо добывать, деньги добывать, —
продолжал Полокто. — Уеду, завтра же уеду.
Лодка Полокто дала течь, мох, которым она была законопачена, пересох.
Пришлось заполнить ее водой, чтобы отсырели мох и доски.
Все родственники вышли на берег проводить Полокто. Все желали ему, женам
его и детям здоровья, передавали поклон отцу и братьям.
Гэйе попрощалась с родителями, с сестрой и оттолкнула лодку.
— Смотри, Гэйе, живи хорошо, слушайся мужа, — напутствовал дочь
Ливэкэн.
— Когда теперь я тебя увижу... — плакала мать.
Гэйе села на весла, и лодка быстро заскользила по гладкой, будто
стеклянной воде. Полокто веселый сидел на корме с коротким кормовым веслом в
руке и пел заунывную песню без слов. Когда надоела песня, он задремал.
Солнце приятно обогревало спину, бока, но чем выше оно поднималось к зениту,
становилось все жарче и жарче. Полокто открыл глаза, поплескал на голову
холодной воды и надел шляпу, узкополую, обесцвеченную и такую старую, что
никто не помнил, кто и откуда привез ее, кто был ее первым хозяином. Гэйе
устала, ныли руки, болели бока, ладони покрылись мозолями. Она обвязала
ладони тряпочками, смочила платок холодной водой и накинула на голову. Лодка
пересекала Амур. Где-то наверху за островами поднимался черный пароходный
дым. Полокто смотрел на этот дым и думал: «Хитрый Пеапон Ворошилин на этом
дыме деньги зарабатывает. Какие эти русские хитрые люди, на всем они деньги
могут заработать, а нам, нанай, и в голову не придет такое, мы только
пушнину, мясо, рыбу продаем. Как мы стали бы жить, если не добывали бы
пушнину? Рыба, мясо были бы всегда, а на что купить муку, крупу, сахар,
материю на одежду? У русских как-то все хорошо получается, они дрова готовят
для железных лодок, лес валят и сплавляют, рыбу солят, на своих лошадях
почту гоняют или груз перевозят. Они умеют все делать и за всякое дело
деньги получают. Учиться надо у них, присматриваться к ним. Плохо вот
только, никак язык их не мог выучить».
Полокто направил лодку наискосок, и ее стремительно понесло мощным
течением. Берега бежали назад, будто наперегонки. Высокий черный Малмыжский
утес медленно приближался, словно невиданное страшное животное...
В полдень лодка пристала к Малмыжу.
— Сиди в лодке, тебе нечего делать там, — строго сказал Полокто жене,
направляясь в село.
Много дней прошло после того, как Полокто избил жену, но до сих пор при
воспоминании об ее измене словно что-то обрывается у него внутри, и
появляется неукротимое желание вновь ее избить. Полокто не может ее
простить, он почти с ней не разговаривает. «А я дурак ее сюда приводил, —
думал он, подходя к лавке торговца Салова. — Она сама выбирала себе материи
на халат. Теперь кончено! Твоего носа здесь не будет, сука».
— Полокто, каким ветром тебя занесло? — радостно встретил его сын
Терентия Ивановича Салова — Санька.
Санька уже совсем мужчина, отрастил курчавую бородку, усы. Правда, силы
у него мало прибавилось, у него узкие плечи, тонкие кисти рук, длинные
пальцы. Да и откуда ему силы набирать — отец его не отпускал ни на рыбалку,
ни на охоту, он целыми днями находился в лавке, Терентий Иванович передавал
сыну свои познания по торговле. И вот уже год как Санька самостоятельно
торгует в отцовской лавке. Терентий Иванович лежит в своей горнице, не может
ни встать, ни сесть, ломит ноги, спину.
— Как здоровье Терентия? — спросил Полокто.
— Плохо, совсем плохо, теперь даже не ест, только воду пьет, — Санька
бойко говорит по-нанайски, Полокто удивляется, как это молодые русские так
быстро привыкают к нанайскому языку, а нанай — к русскому. Только он не
может научиться по-русски. Выходит, у него голова плохая.
— Я зашел узнать о здоровье отца, — сказал Полокто и вышел.
«Был длинношеий мальчишка, а теперь уже отца заменил, научился
торговать, — думал Полокто, шагая между домами по пыльной улице. — Видно,
умный родился».
Перед Полокто на середине улицы лежала в луже толстая свинья, вся
облепленная грязью, и довольно хрюкала. Вокруг нее ползали поросята, такие
же грязные и довольные жизнью. Возле поросят вперевалочку ходили утки,
недалеко от них расположились гуси и негромко переговаривались между собой.
«Сколько тут мяса, — думал Полокто. — На охоту не надо ходить, когда
захотел утятины, свернул одной шею — и в суп, когда захотел гусятины —
тоже рядом. Вот живут же люди! Попробуй в Нярги заведи утку или гуся —
только собакам на корм. Поросят и тех давят».
Возле дома Митрофана Колычева лежала корова с разбухшим выменем и,
закрыв глаза, с наслаждением жевала свою жвачку. Полокто никак не мог
привыкнуть к этим добрым животным, он знал, что коровы не нападают на людей,
без причины не бодают, но крупные животные в его подсознания всегда вызывали
тревогу и готовность к обороне.
Митрофан находился на огороде, полол картошку. Он первым увидел Полокто
и, оставив жену и детей, направился к калитке.
— Бачигоапу (Бачигоапу — здравствуй.), Полокто, — поздоровался он.
— Бачигоапу, Митропан, бачигоапу, — ответил радостно Полокто. — Я к
тебе, помоги мне поговорить с Пеопаном. Кого другого я найду? Никого. Саня
не поможет, ему некогда, он торговец. Только ты можешь помочь.
— Ладно, помогу, только дай руки вымою.
Митрофан зачерпнул из бочонка дождевой воды и начал мыть большие, как
лопаты, ладони. Полокто смотрел на него и любовался его широкоплечей фигурой
и кучерявой бородкой на обветренном загорелом лице.
— Я в Хулусэне был, водку много пил, — похвастался Полокто, — долго
жил, сейчас только еду домой.
— Ты ничего не знаешь о Пиапоне? — спросил Митрофан.
— Откуда знать? Это вы, русские, по железным ниткам слова, говорят,
говорите, новости сообщаете. А нам откуда что знать?
— Наш малмыжский вернулся из Хабаровска, рассказывает, шибко много
стало хунхузов в верховьях, грабят, убивают людей. Как бы Пиапон не попался
им.
— Не надо было ездить. Зачем он поехал? Пушнину здесь не мог продать?
— Это его дело, он мне говорил, что Амур свой хочет увидеть с его
начала, хочет встретиться с новыми людьми, которые живут на Амуре. Он ведь
человек с головой.
«Твой друг, потому так говоришь о нем», — подумал Полокто и вспомнил,
как Митрофан строил дом Пиапону, зимой лес возил на своих лошадях, сруб
поставил с малмыжскими друзьями. Это был первый деревянный дом в Нярги, и
как тогда завидовал брату Полокто, как он уговаривал Митрофана построить ему
такой же дом, но тот отказался, у него не было леса для другого дома, да и
времени не хватало. Он даром построил Пиапону дом, не взял ни денег, ни
пушнины. Потом Полокто попросил Ворошилина построить ему деревянный дом, и
тот согласился за немалую цену, и до сих пор Полокто расплачивается с ним за
дом.
— Митропан, как у тебя отец? Здоров? Как приеду домой, мой отец начнет
расспрашивать про твоего отца.
— Отец здоров, а что с ним может случиться?
— Не говори так, вон торговец Терентий при смерти лежит, Саня говорит,
воду только пьет.
— Отжил свое.
— Я и говорю, старики отживают свое.
Митрофан шагал крупным шагом, рядом семенил Полокто. Навстречу
попадались молодицы в ярких ситцевых сарафанах, много военных, которые
заигрывали с молодицами; встречались опрятно, по-городскому одетые мужчины и
женщины, они кивком головы здоровались с Митрофаном и с любопытством
осматривали Полокто.
Малмыж сильно разросся, вытянулся от утеса в глубь тайги: появились
новые дома с огородами, амбарами, огороженные заборами или колючей
проволокой. Раньше в Малмыже не достать было проволоки даже на перемет, но с
появлением воинского гарнизона малмыжцы даже огороды начали опутывать
проволокой.
Воинская часть в Малмыже появилась во время русско-японской войны.
Солдаты широкой полосой вырубили тайгу, сделали дорогу от Малмыжа до своего
будущего гарнизона. Гарнизон, несколько длинных казарм и десяток
землянок-складов, построили за лето, потом пароходы подвезли боеприпасы,
оружие.
Во время войны на Малмыжском утесе установили батарею, и артиллеристы
день и ночь несли дозор, следили за судами, идущими по Амуру. Орудия на
утесе не сделали ни одного выстрела, но другие, стоявшие в гарнизоне,
изредка стреляли во время учений, и тогда казалось, что тайга и горбатые
сопки оживают и тяжело вздыхают.
Полокто, как и все няргинцы, невзлюбил военных, потому что они пугали
своей стрельбой из пушек таежных жителей.
— Ты зачем идешь к Феофан Митричу? — спросил Митрофан, когда меньше
стало попадаться встречных.
— Работать надо, я ему за дом задолжал, — ответил Полокто.
Феофан Ворошилин жил на берегу залива в некотором отдалении от Амура. У
него был добротный пятистенный дом, хлев, полный скота, курятник, где вместе
обитали куры, утки, гуси, особенно много было у него гусей, больших, белых с
красными клювами: выгодно было хозяину иметь гусей, целое лето они кормились
на заливе и к осени так жирели на подножном корму, что еле поднимались с
залива в курятник. Гусиное сало ценилось высоко.
Подошли к изгороди ворошилинского дома. Крупная сибирская лайка
загремела цепями и громко сердито залаяла, предупреждая хозяина. Феофан
Митрич вышел на крыльцо, прищурившись, оглядел гостей и улыбнулся:
— А, Полокто заявился, толмача приволок, — хозяин опустился с крыльца
на две ступеньки и сел. — Подходьте, садитесь. Трузька, цыц! Свои, не воры.
Сядь, Полокто, здеся свежо, здеся и потолкуем, и чем след.
Полокто поздоровался с Ворошилиным и опустился на ступеньку крыльца.
Митрофан сел рядом.
— Феофан Митрич, надо б гостя в горницу зазвать, какой разговор
разговаривается по душам на крыльце, — сказал Митрофан. Он давно знал, что
Ворошилин не пускает в избу гольдов, что он боится напустить в избу рыбий
дух.
— Ничаво, Митрофанушка, здеся свежо, ветерок, глянь, поддувает. Так,
чево, Полокто, ты хотел? Может, чево принес?
Митрофан перевел.
— Чего мне нести, ничего у меня сейчас нет, — ответил Полокто. —
Может, я работой какой расплачусь.
— Кака чичас работа? Сено косить, трава стара стала, коровам зубы
перетрут. Да и сена у меня хватит. Дрова пилить будешь?
— Чего не пилить? Скажешь, пилить будем.
— Пили, дрова шибко надобны всем. Напилишь, скажешь мне, я погляжу,
приму. Так, сговорились?
— Нет, Феофан Митрич, — вмешался Митрофан. — Цену-то ты не назвал.
— Кака цена? Обчая цена, всем плачу одни деньги, ейным тоже одна
цена, — вскипятился Феофан Митрич. — Ты, Митрофанушка, гольдам головы не
крути, ты ейных подбиваешь, для того ихний язык познал. Мы христиане, живем
по-христиански, ани антихристы, живут по-другому, по антихристу. Како дело
твое до них?
— Выходит, мы, христиане, должны обманывать их, антихристов?
— Омманываю? Языком бы твоим... лизать. Кто омманывает? Ну-ка, говори,
кто омманывает?
— Заране цену обговорить требуется, почему ты не назовешь цену?
— Чего вы кричите? Чего? — допытывался Полокто, но его никто уже не
слушал.
— Скажи, ты скажи, кто омманывает?! — Ворошилин встал на ноги.
— Говорю, обговорить цену требуется, — спокойно отвечал Митрофан. —
Каки дрова тебе требуются? Дрова? Они едину цену имеют. Долготье? На сруб?
Может, на доски кедру свалить? Они другу цену имеют. Все это треба
обговорить.
— Ты кто такой, Митрофанушка? Ты власть кака, можа урядник, исправник,
писарь?
— Я никто...
— Того, никто! И ты мне не указ! Ишь, видели, какой гусь, указ мне
дает. Кукиш не хошь?
— Ты, Феофан Митрич, мироед.
— Кто?!
— Мироед.
— Ты в ответе будешь, голодранец! За мироеда в ответе будешь!
— Пеопан, Пеопан, не сердись. Зачем сердиться, я тебе плохого не
говорил, я сказал, пилить дрова буду, деревья валить буду, — Полокто взял
правую руку Ворошилина и продолжал: — Не сердись, я все сделаю, что
скажешь, сколько надо напилим, сами не сможем — родные помогут.
Но Ворошилин отдернул руку и, размахивая кулаками, кричал:
— Голодранец, ты всегда жадны глазища на мое добро пялишь, потому всяко
говоришь! Завидки берут! Мироед. Ты в ответе будешь!
— Ладно, буду в ответе, ежели что не так, — не смущаясь, спокойно
ответил Митрофан. — Правда, ежели сравнить твое и мое, выходит я
голодранец. Но, Феофан Митрич, моего хватит мне, поживем — можа, и наживем.
— Наживешь! У самого вошь на аркане, блоха на цепи — и туда же!
Наживешь.
— С тобой, Феофан Митрич, разговаривать, что солнце мешком ловить. Ты
скажи, цену назовешь?
— Не твово ума дело! Что ты в торговле кумекаешь?
— Кумекаю, не кумекаю, цену назовешь?
— Закукарекал, как петух. Цена, цена. Ты кто таков, чтоб меня пытать?
Каков чин имеешь?
Ворошилин успокоился, сел на ступеньку крыльца.
— Я их заступник, Феофан Митрич, — так же спокойно проговорил
Митрофан. — Ни единого дела при моем присутствии обманным путем не
совершишь.
Ворошилин взглянул в упор, встретился с голубыми ясными глазами
Митрофана.
— Заступник, ишь как заговорил, словно какой чин, — скорее удивленно,
чем сердито проговорил он. — Знаю, у кого такой речи обучен, от этих
новеньких, каки сюды под жандармским ружом явились, от энтих ты обучен. Я об
энтом обо всем ведаю, Митрофанушка, потому добра не жди.
— Не жду от тебя, — Митрофан поднялся. — Я справедливости требую.
Цену назови.
— Ты будешь в ответе за то, что якшаешься с этими новенькими,
по-ли-тискими. Не думай, я тоже знаю.
— Цену назови.
Полокто, ничего не понимая, о чем идет разговор, только вертел головой,
глядел то на своего переводчика, то на разъяренного, побагровевшего
Ворошилина. Он всегда беспрекословно верил торговцу, преклонялся перед ним и
теперь даже не догадывался, что Митрофан заступается за него; он сердился на
него за то, что ведет этот бесконечный разговор с уважаемым человеком,
выводит его из себя, а сам остается невозмутимо спокойным.
«Дразнит, проклятый, — думал Полокто. — - Чего ему надо? Ведь сказал
Пеопан дрова пилить. Зачем такой долгий разговор вести?»
Ворошилин поднялся, похлопал по плечу Полокто.
— В накладе не будешь, все ж мы с тобой други. Переводи верно,
отсебятины не говори, — сердито добавил он и, не попрощавшись, вошел в дом.
— Сволочь, мироед! — сказал ему вслед Митрофан.
— О чем так долго ты говорил? Зачем сердил его? — спросил недовольно
Полокто.
— Он тебя обманывает, дрова будут дороже стоить, а он тебе меньше
заплатит, — ответил Митрофан.
— Как меньше заплатит? Это Пеопан-то меньше заплатит? Он мне дом
построил, сам знаешь, не каждый человек на это пойдет. Он мне друг, как у
тебя язык поворачивается, чтоб такое говорить о моем друге?
— Я требовал, чтобы он цену назвал, я заступался за тебя.
— Не надо за меня заступаться перед моим другом.
Полокто повернулся и зашагал на берег.
«В следующий раз Саню в переводчики надо брать», — думал он.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Токто выехал из Хулусэна рано утром. Родственники, молодые и старые
охотники уговаривали его остаться еще на несколько дней, но Токто был
непреклонен, тепло попрощался с друзьями и сел в лодку.
— Не привык бездельничать, — сказал он молодым охотникам, и те поняли
его слова так: «Вы тоже, молодые друзья, не привыкайте бездельничать».
— Счастливой дороги! — дружно ответили провожавшие.
Токто развернул лодку и больше не оглянулся назад: он дал слово, что
нога его больше не вступит в это вечно пьяное развратное стойбище. Он не
особенно верил в могущество жбана счастья и великого шамана Богдано, если бы
не настойчивые просьбы Кэкэчэ и Идари, то сам никогда не приехал бы
поклониться жбану счастья.
После смерти новорожденной дочери в год великого мора, когда люди
стойбища Полокан вымерли от черной смерти, несколько лет Кэкэчэ не
беременела, но через пять лет она принесла мужу помощника, родила сына. Сын
прожил год и умер. Через два года Кэкэчэ родила дочь. При каждом рождении
ребенка Кэкэчэ выполняла обряд и илиочиори (Илиочиори — ставить на ноги
(дословно).) и сама уже потеряла им счет, потому что каждому новорожденному
выполняли по нескольку обрядов. Дочери было два года, она уже ковыляла на
тоненьких кривоватых ножках, и ее привязывали на длинном шнуре: девочка
добиралась до ближних кустов, садилась под ними и щипала, как косуля,
зеленые листья.
Токто долго просиживал рядом с дочерью и смотрел, как она сосредоточенно
обрывала листочки и складывала их стопочкой.
«Косулинька ты моя!»
Девочка умерла внезапно, и никто не мог сказать от чего. Шаман сослался
на извечного врага семьи, на злого духа. После смерти дочери Токто долго
просиживал возле общипанных кустов, и никто не видел, как текли по его щекам
скупые слезы. Он обрывал листочки пополам, как делала дочь, и складывал
стопочкой, и ему казалось, что от кустов и этих листков идет запах немного
прокисшего грудного морока — извечный, хватающий за сердце запах грудного
ребенка!
На песке, под кустами, давно исчезли следы девочки, но глаза Токто
отчетливо видели эти следы — маленькие стопы с точеными пальцами, две
извилистые полосы коленок и широкая полоса — это передвигалась задом,
передвигалась неторопливо, разглядывая черными глазенками каждый листок,
каждую веточку. Кусты и листочки на них были ее друзьями.
Чтобы несколько забыться, Токто уехал на охоту.
Но и тайга на этот раз не могла утешить его сердечную боль: каждый
крошечный след лосенка или косули, каждый общипанный ими куст напоминали
дочь. В звоне ручья, в щебетании птиц, в шелесте листьев он слышал родной
голос дочурки.
Все домашние видели, как убивается Токто, и никто не знал, как подойти к
нему: Пота раза два начинал было разговор о поездке в Хулусэн к великому
шаману или жбану счастья, но так и не досказал. Когда выехали на лето на
озеро Болонь, первой начала разговор Идари, ее поддержала Кэкэчэ, но Токто
отмолчался. Тогда женщины изо дня в день, при каждом удобном случае, стали
напоминать о чудотворном священном жбане. Токто сдался и вслед за Потой,
уезжавшим в Нярги в гости, выехал в Хулусэн.
И вот он возвращается на озеро Болонь, возвращается недовольный,
возмущенный. Не разговор с пустоголовым Полокто возмутил его, разве на лай
щенка обернется бурый медведь? О встрече с балаболкой Полокто Токто забыл.
Недоволен остался он самим стойбищем Хулусэн, его жителями, их праздностью,
вечным бездельем и пьянством. Не знавший покоя, Токто ненавидел бездельников
и лентяев. «Стойбище лежебок и пьяниц», — назвал он Хулусэн. Возмутили его
великий шаман и хозяин священного жбана старый Турулэн. Токто знал, что
шаманы брали подношения благодарных больных соболями, лисами, выдрами. Но
никогда он не слышал, чтобы они брали деньги, и впервые в Хулусэне узнал,
что за моление священному жбану и за камлание великого шамана надо платить
деньгами. «Платить — так платить, если у них такой порядок», — решил он.
Но когда узнал, что на каждую болезнь установлены различные цены, он
возмутился до глубины души. Если бы не присутствие Кэкэчэ и приемного сына
Гиды, а также многих уважаемых стариков и старух, Токто сам не знает, что бы
он натворил в доме старика Турулэн. Он сдержался, не выдал своего возмущения
и гнева. «Можно оценить шкурки соболя, лисы, выдры, белки, — думал он, —
но как можно установить цену за человеческое страдание, за человеческую
жизнь!»
Лодка быстро плыла по течению. Впереди открылась песчаная релка,
обрамленная густыми кустами шиповника, за шиповниками выглядывали
низкорослые черемухи и яблоньки.
— Папа, пристанем, — попросил мальчуган, сидевший на веслах сзади
Кэкэчэ. Углубившись в свои думы, Токто не сразу расслышал просьбу мальчика
и, поняв его просьбу, спросил:
— Зачем приставать?
— Посмотрим, много ли черемухи.
— Мы же сюда не вернемся за ней, — сказала Кэкэчэ.
— А мы посмотрим только, подсчитаем, какой нынче урожай.
— Это уже мужской разговор, — улыбнулся Токто. — Сразу видно —
второй хозяин тайги. Ладно, Гида, иди с матерью, подсчитай, прикинь, каков
будет урожай черемухи и яблочек.
Когда лодка ткнулась носом в песок, мальчик первым выскочил на берег и
подтянул ее.
«Вытянулся за этот год», — подумал Токто, глядя вслед Гиде, бежавшему
впереди Кэкэчэ. Вскоре они скрылись за густыми шиповниками, и мысли Токто
вернулись на прежнюю невеселую стезю.
«Почему великий шаман за камлание стал брать деньгами? Если бы я вытащил
из воды утопающего, неужели и за спасение потребовал бы денег? А старик
Турулэн — мошенник. Не верю я в его жбан счастья, я верю только эндури и
всемогущему Солнцу. Сколько этот старик в день собирает денег? Другой
охотник за зиму столько пушнины не добудет, сколько он в день зарабатывает!
Да, шаман и старик Турулэн поняли вкус денег, кто-то научил их этому, а
может, сами научились... Ох, эти деньги, кто их придумал...» Токто смачно
сплюнул на воду и закурил трубку.
— Папа, за релкой маленькое озеро, и там утята, — сказал, подбегая к
лодке, Гида, — давай поймаем несколько штук.
Токто закрыл глаза, потер лоб, голова побаливала от перенапряжения:
редко когда Токто задумывался так глубоко.
— Не надо, сын, пусть растут, — ответил он. — Все равно, сын, никакая
живность не может жить на привязи. Умрет. А утята пусть подрастут, их ждет
такая радость, которую нам не понять. Они поднимутся над землей, к облакам
полетят. К солнцу. Интересно, какова наша земля, если на нее с облаков
взглянуть? Правда, интересно?
— А что, папа, если подняться на вон те горы со снежными вершинами и
оттуда посмотреть? Это одно и то же, что с облаков смотреть.
— Да, ты прав. Но нам по льду потребуется карабкаться, а этим утятам
раз взмахнуть крылом, и они уже высоко-высоко... Пусть, сын, полетают эти
утята. Да, так какой нынче урожай будет черемухи и яблочек?
— Хороший, хороший, — ответила за Гиду Кэкэчэ.
— Богатый, мама видела, как густо растут ягодки, на некоторых деревьях
даже ветки гнутся.
«Добрый охотник будет, — подумал Токто, глядя на тонкую, упругую
фигурку приемного сына. — Хозяйский глаз у него. Ишь ты, надо ему знать,
каков урожай черемухи, никогда я этим не интересовался, это же женское дело,
они собирают черемуху...»
Лодка опять поплыла по течению, и опять Токто углубился в свои мысли, но
теперь он думал совсем о другом: Гида заставил вспомнить давнее прошлое.
Вспомнил он страшную весну десятилетней давности, гибель стойбища
Полокан, свой побег к людям в стойбище Болонь, встречу с русским доктором
Харапаем и с жестоким Баосой.
Русский доктор поместил Токто с женой и Поту с Идари на краю стойбища.
Он запретил жителям Болони подходить к фанзе, и беженцам нельзя было
общаться с жителями стойбища.
Токто готовил дрова, помогал жене готовить еду, выполнял приказания
доктора и через несколько дней осунулся, почернел. Харапай много раз
прощупывал его, прослушивал, но не находил никакой болезни.
— Ты меня, Харапай, отпусти, — просил его Токто. — Я не могу без дела
сидеть, я должен что-то делать, от безделья могу заболеть.
— Но ты помогаешь жене, помогаешь мне, это разве не дело? — отвечал
доктор. — Ты же своего названого брата спасаешь.
Токто замолкал, ему нечего было отвечать. Доктор прав, он нужен здесь,
нужен Поте, Кэкэчэ, Идари и маленькому мальчику, Богдану.
Пота чувствовал себя все хуже и хуже, лицо его покрылось язвами, опухло
и стало совершенно неузнаваемым. Он не мог даже говорить, глухо стонал,
метался, терял сознание. Доктор не отходил от него. Много раз Токто замечал,
как Харапай засыпал сидя. Токто подходил к нему, уговаривал прилечь
отдохнуть, он, Токто, будет сидеть вместо него, и, если станет плохо с
больным, разбудит. Харапай строго приказывал не подходить к больному, и
Токто ничего не оставалось делать, как отойти в дальний угол, где помещались
здоровые. А сидеть в этом углу было тяжело: Идари все время плакала, ревел
младенец, Кэкэчэ нянчила его и жаловалась, что невыносимо чешутся ранки,
сделанные ножом доктора на руке.
— Терпи, вон Пота терпит, ему куда больнее, а у тебя только чешутся
царапинки, — уговаривал жену Токто. — У меня вон тоже чешутся, но доктор
сказал — нельзя эти ранки царапать. Терпи, покажи пример Идари.
Потом он принимался успокаивать Идари.
— Русский доктор спасет Поту, слышишь, Идари. Думаешь, мне не больно,
он же мой названый брат. Слезами мы не поможем. Успокойся, думай о сыне. Что
будет с ним, если у тебя пропадет молоко?
Токто сам готов был завыть от сознания своего бессилия: он понимал, что
ничем не может помочь названому брату, не может уменьшить его страдания.
— Может, ему чего надо, ты скажи, доктор, — просил Токто. — Может,
свежей рыбы? Свежего мяса? Смотри, сколько уток летит.
Доктор помолчал, подумал и ответил:
— Ладно, за утками можешь съездить, но только к людям близко не
подходи, они будут подходить, ты подальше от них. Понял?
Токто ничем не выдал своей радости, неторопливо собрал пожитки, взял
боеприпасы, ружье, острогу и выехал на охоту. На следующий день он вернулся
с двумя большими связками уток, привез несколько пузатых нерестовых щук.
Через два-три дня Пота впервые спросил доктора, где находится его жена,
как его новорожденный мальчик. В этот день он съел утиное крылышко, выпил
бульону и впервые уснул спокойным крепким сном.
— Теперь, думаю, все будет хорошо, — устало проговорил доктор и тоже
плотно поел и уснул.
До сих пор удивляется Токто: ведь доктор Харапай не друг, не близкий, не
родственник, даже и по национальности другой человек, но почему же он так
старался, ночами не спал, недоедал, бился за жизнь Поты? И не одного только
Поты, а за всю его семью. Токто до сих пор вспоминает об этом удивительном
русском человеке с душевным трепетом. Благодарный охотник в знак
признательности отдал ему семь лучших соболей на шапку, сшей, друг, себе
теплую шапку и носи на здоровье. Но Харапай засмеялся и ответил:
— Что же это такое, друзья? Я, доктор Харапай, буду ходить в собольей
шапке? Э-э, друзья, я не купец, даже не чиновник, мне не по чину носить
соболью шапку!
Как ни уговаривали Токто, Пота, Кэкэчэ, Идари, — доктор так и не взял
соболей.
— Обидел, Харапай, ты меня! — в сердцах бросил Пота.
— Обидел? Я тебя обидел?! — и доктор громко и раскатисто засмеялся.
Пота совсем обиделся и швырнул соболей на землю. Токто тоже ничего не мог
понять и хмурился. — Если я тебя обидел, друг Пота, то я всех больных так
же, как и тебя, хочу обижать! — воскликнул Харапай и, звонко смеясь, вышел
из фанзы. Когда захлопнулась дверь, тогда только до Токто дошел смысл слов
доктора, и он тоже расхохотался. Пота совсем растерялся.
— Не понял? — спросил Токто. — Верно, ведь он тебя обидел. Ты хотел
уйти в буни, а он обидел тебя, вернул к нам, на нашу землю.
Пота в этот день впервые встал на ноги. Токто уложил его на нары, укрыл
одеялом, сел рядом и задумался: он опять вспомнил Полокан, умирающую жену, и
его неудержимо потянуло на родную реку. Жену он и не думал найти живой, по
таежным обычаям он и близко не должен был подойти к погибшему стойбищу, это
место теперь будут называть сусу — запретное место, и все будут объезжать
его стороной. Токто тянули к себе живые люди, он знал, что некоторые семьи
убежали из Полокана в начале великого мора, убежали женщины с детьми,
похоронив мужей. Каково им сейчас, если они живы? Может, где бродят
малолетние дети, оставив умерших родителей. Все может быть. Мысли об этих
осиротевших детях, беспомощных женщинах беспокоили Токто.
— Пота, ты почти здоров, Харапай тебя поставил на ноги, — сказал он
больному. — Я поеду на Харпи, может, живой кто остался, помощи ждет.
По реке плыли последние льдины из озера Болонь, возможно, еще на озере
остались кочующие поля льда, но они не опасны умелому охотнику. Токто за
день собрался в путь и, с разрешения доктора Харапая, выехал на реку Харпи.
Озеро Болонь очистилось ото льда, и на нем с раннего утра до поздней ночи
свистели, чирикали, крякали тысячные стаи перелетных уток.
На третий день пути Токто добрался до Полокана, объехал его соседней
протокой, поднялся на высокую релку и издали смотрел на родное стойбище. Он
увидел свой дом, землянки соседей, фанзу старика Чонгиаки, большой дом Пэсу
Киле — все дома стояли как и прежде, казалось, люди на время покинули их,
уехали на весенний лов рыбы. Токто, не отрываясь, смотрел на свой дом, и ему
казалось, что сейчас откроется дверь и произойдет чудо — на улицу выйдет
милая старшая жена — Оба. Глаза слезились от перенапряжения, но Токто
продолжал смотреть на свой дом. Чуда не произошло, дверь не открылась, и
добрая Оба не вышла. Токто закрыл глаза и медленно опустился на холодную
землю. Ему казалось, что в шуме ветерка слышит прощальные слова старшей
жены: «Ты был всегда хорошим. Я гордилась тобой... я всегда тебе буду
помогать. Я сделаюсь добрым духом... Беги, спасай Кэкэчэ, спаси мою дочь...
Скажи, любила ее старшая мать... очень любила».
Ветерок шелестел прошлогодней травой, шуршал опавшими старыми листьями.
Токто сидел, опустив голову между коленами, крупные слезы его падали на
мертвые листья, а под этими листьями уже пробивалась новая зелень, ее еще не
видно, но пройдет немного времени, и она буйно зазеленеет на этой релке,
радостно зашелестит на ветру. Жизнь есть жизнь. Токто вытер мокрые глаза,
последний раз оглядел свой дом, все стойбище от нижнего конца до верхнего, и
мысленно попрощался с ним. Он больше никогда не увидит свое стойбище таким,
каким видит сейчас, летом приедут охотники из соседних стойбищ и длинными
шестами, не приближаясь к землянкам и фанзам, будут их разрушать. Так они
похоронят умерших сородичей в их же собственных фанзах.
Токто вышел на берег, умыл лицо холодной горной водой и поехал дальше.
Он мог бы переночевать на релке, но ему не хотелось больше видеть родное
стойбище и чувствовать его близость. Только после наступления кромешной
темноты он пристал к берегу и уснул в оморочке. Утром на рассвете подбил
одним выстрелом трех шилохвосток, сварил завтрак и плотно поел.
«Все беженцы ушли вверх по реке, так требует обычай, таежные законы, —
думал Токто. — Вниз по течению бежали только мы одни, и по течению за нами
спускалась болезнь, так должно быть. Мы нарушили таежный закон, бежали к
людям, им несли болезнь... Может, и правда, мы неправы были, да наше
счастье, что нашелся русский человек Харапай, он спас нас всех. Но спаслись
ли те, которые бежали в тайгу, вверх по реке? Не зря ли я еду?»
Недолго размышлял Токто, он был не такой человек, чтобы остановиться на
полпути. Токто заезжал в каждый заливчик, поднимался на каждую релку,
останавливался на больших кривунах и искал следы стоянок людей. Особенно его
влекли те мысы, где тайга вплотную приступала к реке, он знал, что такие
мысы излюбленные места стоянок охотников.
Охотничье чутье не обмануло Токто, на одном из мысов он обнаружил шалаш,
сделанный из хвои. Он обошел вокруг шалаша, однако свежих человеческих
следов не обнаружил. Тогда он заглянул внутрь шалаша и отпрянул назад: там
лежало два скорчившихся трупа.
Кто они, откуда, отчего умерли? Токто этого не знал, и знать ему не
следовало, он обязан их захоронить под их жильем. Токто вырезал длинный шест
и без труда разрушил хвойный шалаш, хвоя покрыла оба трупа, и только в одном
месте из-под нее выглядывал какой-то предмет. Это была охотничья шапка,
богато разукрашенная орнаментами.
«У кого же я видел эту шапку?» — подумал Токто.
Весь день пытался вспомнить, кто был хозяином красивой шапки, но так и
не вспомнил. А вечером того же дня Токто увидел дымок. Подъехал. На берегу
между густыми деревцами черемухи стояла охотничья палатка, возле нее тлел
костер. Вокруг никого. «Если горит огонь, значит жив человек», — подумал
Токто и подошел к палатке.
— Кто-нибудь здесь есть? — спросил он.
В палатке кто-то зашевелился.
— Кто там? — спросил еле слышный женский голос.
— Выходи сюда.
В палатке заплакал ребенок, но плач этот походил, скорее, на стон, на
щенячье скуление. Прошло довольно много времени, пока из палатки выглянуло
изможденное женское лицо с глубоко запавшими глазами. Женщина оглядела
Токто, застонала.
— Кто ты такая? — спросил Токто. — Откуда? Чем болеешь?
— С голоду умираем... — прошептала женщина.
Токто больше не стал спрашивать, принес свой котелок с остатком вареной
утки и стал подогревать на огне. Потом он с ложки накормил женщину и ее
сына, мальчика лет трех-четырех. Сперва он дал им по две ложки наваристого
супа и, как ни просила женщина и ни плакал ребенок, — отказался больше
дать. Токто много слышал, как изголодавшиеся в тайге охотники, сразу
набрасываясь на еду, тут же умирали от боли в желудке.
— Потерпите, немного потерпите, пусть ваши желудки привыкнут к пище, —
уговаривал он мать и ребенка.
— Аоси (Аоси — зять.), ради всего на свете, дай еще супу, — просила
женщина.
Токто показалось, что он ослышался и потому спросил:
— Ты назвала меня аоси?
— Да, аоси... дай супу...
— Кто ты?
— Сноха... из большого дома... дай...
Как ни пытался Токто узнать по чертам лица женщины, которая же это сноха
Пэсу Киле, но так и не узнал. Всю ночь не спал Токто, всю ночь через
небольшие промежутки времени подкармливал женщину и мальчика. Мальчик сидел
на коленях у Токто, он был легок как перышко, кости да кожа.
На следующий день женщина немного ожила, она уже могла сидеть, ползком
выходила и заходила в свое жилье. Звали ее Сиоя, она была второй снохой
Пэсу, женой Годо. А сына ее звали Гида.
— Бежала я с сыном, взяла из амбара что попало под руку, ничего не
соображала, только об огне и думала, без огня не проживешь. Муки взяла,
крупы... еда была, — Сиоя говорила медленно, останавливалась надолго,
дышала с трудом. — Потом встретился нам молодой шаман с женой...
«Да! Вот чья это шапка! — вдруг вспомнил Токто. — Да, это красивая
шапка молодого шамана».
— Он заболел тоже, попросил муки, зачем просил, когда у него своя была?
Я отдала часть муки и бежала от них... Если бы я была мужчиной, мы бы не
голодали так... я даже ружья не взяла с собой. Кончилась мука, крупа, собаки
разбежались голодные, что им тут делать... Одну мы все же съели. Потом
совсем плохо стало, мы пили только черемуховый отвар... ветки варили... Не
было бы сына, спокойно умерла бы, для него только и жила...
«Не зря я приехал, — думал Токто, слушая горестный рассказ Сиои. —
Хоть ее с ребенком спасу. Привезу в Болонь, доктор Харапай ее быстро на ноги
поставит, мальчик тоже скоро побежит».
Но спасти Сиою не удалось. Когда Токто вернулся в Болонь, доктора
Харапая уже не было в стойбище, он уехал в свое село. Сиоя, по ее словам,
чувствовала себя хорошо, но все замечали, что она таяла как снег под
весенним солнцем. Она умерла в середине лета. Сын ее Гида к этому времени
совсем окреп и уже бегал на улице, гонялся за собаками, качал люльку
маленького Богдана, сына Поты.
Так появился у Токто и Кэкэчэ приемный сын Гида. Теперь ему тринадцать
лет — помощник отца, радость матери. Мальчик не помнил свою мать, он считал
Токто родным отцом, а Кэкэчэ — матерью.
Токто любил мальчика, но все равно что-нибудь да напоминало ему, что
Гида не родной сын, кто-то будто нашептывал в ухо: «Это не родной сын, он
узнает правду и уйдет от тебя. Повзрослеет и уйдет». И Токто решил
рассказать мальчику правду. Когда ехали в Хулусэн молиться священному жбану,
он сделал дневную остановку в Болони и вместе с Гидой пошел на кладбище. От
могилы Сиои остался небольшой, поросший густой травой бугорок.
— Гида, сынок, я не твой родной отец и женщина, которую ты зовешь
матерью, — не твоя родная мать, — с дрожью в голосе проговорил Токто. —
Отец твой умер, мать твоя тоже, она похоронена здесь, этот бугорок — ее
могила.
Мальчик оглядел могилу, обернулся к Токто и сказал:
— Я их не видел, не знаю.
— Ты должен поклониться матери.
Мальчик опустился на колени и поклонился.
— Когда бываешь в Болони, ты обязан приходить на могилу матери и
кланяться.
— Хорошо, папа.
Токто сделал вид, что не слышал ответа Гиды, но сердце его забилось
быстро-быстро.
— Папа, я тебя всегда буду звать папой, — сказал Гида, когда они
возвращались в стойбище. — И маму буду звать мамой. Можно?
У Токто к горлу подкатил тугой комочек — ни вздохнуть, ни выговорить
слова. Он обнял сына, прижал к груди.
— Можно, сын, можно. Ты теперь знаешь правду, и я спокоен, душа моя
чиста, — ответил он, и голос его странно дребезжал.
...Время подошло к полудню, жаркое солнце беспощадно пекло голову и
спину. Гида перегнулся через борт и окунулся с головой в воду.
— Ух, хорошо! — смеялся он, отфыркиваясь. Потом опять окунулся раз,
второй.
— Хватит, сынок, хватит, застудишь голову, — говорила Кэкэчэ.
Токто смотрел на смеющегося сына и улыбался. Он мог сейчас пристать и
подождать, пока сын выкупается, этим он принес бы ему безмерную радость, а
жене тихое удовлетворение, но Токто не пристал. «Сын — охотник, а охотник
должен быть сильным и выносливым», — рассуждал он.
Впереди широким ослепительным зеркалом сверкал Амур, и в нем исчезли
острова, дальние берега и сопки. С правой стороны чернел Малмыжский утес,
виднелись дома поселенцев, слева возвышался Серебряный утес, за которым
находилась Болонь.
Лодка свернула влево в одну из многочисленных проток. Токто выкурил одну
трубку — впереди показалось стойбище, выкурил другую — под днищем лодки
зашуршала галька.
Оставив вещи в лодке, Токто с женой и сыном заглянул к родственникам.
— Ты всегда спешишь, всегда у тебя больше, чем у других, дела, —
ворчала хозяйка дома, подавая свежую уху из сазана. — Нет, чтобы отдохнуть,
погостить, всегда торопится, всегда ему некогда.
— Отдыхал, погулял в Хулусэне, больше душа не выдержит, — смеялся в
ответ Токто.
Токто поел и пошел к приказчику торговца У. Старый, седой, с редкой
бородкой, с постоянно бегающими глазами, приказчик переломился в пояснице
при появлении охотника. Токто был, пожалуй, единственный охотник, которого
побаивался сам торговец У и его помощник.
— О, мы всегда рады видеть храброго охотника у себя в торговом доме, —
елейным голосом проговорил приказчик, глядя куда-то под прилавок.
— Знаю, много раз слышу. Долгу больше не потребуешь от мертвецов
полоканских?
— Нет, нет! — испуганно замахал руками старый приказчик. — Ты не шути
больше, храбрый охотник, эта твоя шутка всегда пугает нас, сам хозяин
боится... Вот книга...
— Не показывай свою книгу, кто в ней разбирается? Все, что захотите,
напишите, никто не разберется, вы это хорошо знаете. Грамотных людей нет
среди нанай, вот вы и пользуетесь этим. А как вы требовали долг с мертвых, я
вам до смерти буду напоминать.
— Не надо, храбрый охотник, не надо! Не вспоминай прошлое, не
вспоминай. Это было так давно.
Старик все же вытащил толстую переплетенную книгу с разлинованными
листами. Все страницы пестрели иероглифами, точно вороньи следы на чистом
снегу.
«Боишься, — с удовольствием подумал Токто, глядя, как дрожат тонкие
длинные пальцы приказчика. — Давно было, говоришь, потому можно забыть.
Нет, старая росомаха, такое не забывается!»
Случилось это сразу после возвращения Токто из Харпи с больной Сиоей и
Гидой. В доме кончились запасы крупы, муки, и Токто пошел к торговцу У.
Торговец, как всегда, встретил его с почестями, с неисчезающей улыбкой на
устах. Токто взял пудовый мешочек муки, столько же крупы, немного сахару и
полностью расплатился шкурками соболей. Тут ему услужливая память напомнила
прощальные слова старика Чонгиаки Ходжер: «Долг не отдал, стыдно».
— Сколько Чонгиакингаса Ходжер тебе должен? — спросил он торговца.
— Чонгиаки, Чонгиаки, сейчас посмотрю, — улыбаясь, листал торговец
долговую книгу. — А что, он попросил тебя уплатить? Честный старик, хороший
старик.
Эта неисчезающая улыбка на устах торговца, елейный голос и разговор,
похожий на тот, когда человек говорит пустяковые слова, поглаживая спину
своей собаке, взбесили Токто. Он весь побагровел, вздувшиеся вены на висках
трепетно запульсировали.
— Ты, гад, сколько лет живешь на нашей земле? Наш язык выучил, на наших
женщинах женат, наши обычаи знаешь! Что я тебе сказал?! Как я назвал имя
старика?!
Торговец с книгой в руках отскочил от прилавка и затрясся от страха. Он
был бледен как бумага на его долговой книге.
— Я что сказал?.. Ты что сказал? Я не расслышал, — бормотал он
трясущимися губами.
— Как я назвал имя старика?!
— Чонгиаки, так я расслышал... Разве не так?
— Сколько тебе должен Пэсунгаса Киле?!
— А что... он тоже... это просил заплатить?
Токто медленно вытащил из ножен свой узкий стальной охотничий нож и
прыгнул на прилавок. Торговец закричал истошным голосом, прикрылся долговой
книгой. На его крик прибежал помощник, но тут же выскочил на улицу и
заверещал на все стойбище:
— Убивают! Убивают торговца! Спасайте, спасайте, люди!
Встревоженные охотники выскакивали из фанз и бежали к торговому дому.
Выбежали жены торговца и, не разобравшись толком, запричитали:
— Убили! Убили нашего кормильца!
Когда охотники вбежали в торговый дом, Токто держал смертельно бледного
торговца У за грудь и медленно, отчеканивая каждое слово, говорил:
— Твое счастье, У, ружья с собой нет, было бы ружье под рукой, ты бы
сейчас рядом с прадедом находился. Ножом я еще не убил ни одного зверя,
потому и тебя не буду резать.
Охотники перелезли через прилавок, окружили Токто и торговца У. Кто-то
слишком ретивый схватил правую руку Токто.
— Осторожно, порежешься, — предупредил его Токто и никак не мог
вложить нож в ножны: руки его тряслись.
— Что случилось? Что такое? — спрашивали охотники.
Торговец не мог стоять. Как только отпустил его Токто, он сразу же
свалился на пол. Его подняли, усадили на мешок с крупой. Он медленно
приходил в себя. Охотники не обращали на него внимания, все столпились
вокруг Токто.
— Не мог, друзья, стерпеть, было бы ружье под рукой, убил бы его, —
рассказывал Токто. — Паршивый пес, с мертвых требует долг. Старик
Чонгиакингаса, умирая, сказал мне, стыдно умирать, не отдав долг. Я хотел
узнать, большой ли долг был. У этого торговца совести нет, он не человек, он
хуже росомахи.
Потрясенные услышанным, охотники молчали, потупив взоры, один за другим
выходили и расходились по домам: ни один из них не мог представить, как это
можно требовать долг с мертвого человека, и многие вдруг вспомнили, как У
требовал от сыновей уплаты долга умерших отцов.
На следующий день прошел слух, что торговец У решил съездить к русским
властям и подать жалобу на Токто. Этот слух заставил охотников заговорить,
люди вспоминали все обиды, нанесенные торговцем. В этот день ни один охотник
не переступил порог торгового дома, ни один охотник не поздоровался с
торговцем, ни один рыбак не принес ему свежей рыбы на уху.
Только вечером к нему зашел молодой охотник и в присутствии домочадцев
заявил:
— У, охотники велели сказать, хочешь жить, как жил, живи. Не хочешь —
уезжай отсюда. Если хочешь на Токто жаловаться, иди, жалуйся. Но перед тем
как идти, попрощайся о детьми и женами, а лучше, сказали охотники, сразу
гроб себе приготовь. Все охотники метко стреляют, чья пуля тебя настигнет,
никто никогда не узнает, ни русские, ни твои друзья-торговцы. Понял? Так
велели тебе сказать.
Торговец У молча выслушал слова молодого охотника, жены его тихо
всхлипывали на нарах. Когда молодой охотник собрался уходить, У остановил
его и сказал:
— Передай охотникам, я не знал, что старик умер.
— Врешь, весь Амур знает, что погибло все стойбище!
Молодой охотник так хлопнул дверью, что со стен посыпалась глина.
Торговец никому не жаловался, он остался жить в Болони. Затаил злобу на
охотников или нет, никто не мог этого сказать: он был вежлив, услужлив и вел
себя так, как будто ничего не произошло между ним и охотниками. Только один
Токто замечал, как бледнел он при его появлении в торговом доме, и, чтобы
лишний раз пощекотать его нервы, спрашивал: «Долг не потребуешь?..» Токто
видел, как злился торговец, и рассуждал: «Когда собака злится, ее надо еще
больше дразнить, а когда бросится на тебя — одним ударом прикончить».
...Токто ненавидел торговца, но и без него не мог обходиться.
— Дай мне мешочек муки, мешочек крупы, сахару, — сказал он помощнику
торговца. Получив продукты, он выехал в свой летник на озеро Болонь.
Солнце еще высоко висело над стеклянной гладью озера, когда лодка Токто
обогнула мыс Нэргул. Каждый раз, когда Токто возвращался с Амура, он с
нетерпением ожидал того момента, когда перед ним как бы распахивалась
огромная дверь и открывался захватывающий дух простор озера. И каждый раз
Токто не мог удержаться и издавал тихий возглас изумления, восхищения. Он
любил простор и красоту озера. Любил его тихим и задумчивым, как сейчас,
ослепительно гладким и спокойным, а когда оно сердилось, пенилось и по нему
бежали волны высотой с самую высокую фанзу, он восхищался его силой. Как
тогда шумит оно! Дух захватывает.
Токто направил лодку напрямик через озеро к мысу Большой Ганко, уселся
поудобнее и запел песню, в которой рассказывал о своей любви к большому
озеру Болонь, которое ласково и щедро к нему, потому что каждое лето не
жалеючи отдает ему вкусных сазанов, муксунов, и он вдоволь на зиму готовит
рыбий жир, а когда есть рыбий жир, то ноги охотника вдвое быстрее бегают,
догоняют любого зверя, когда Токто поймает много соболей, у него будет много
муки, крупы, сахара, он сможет сшить новые халаты жене, сыну и себе.
Солнце все ниже и ниже опускалось, лодка была на середине озера, когда
оно скрылось за горами.
— Папа, ты видел, сколько сегодня муксунов поднялось? — перебил песню
отца Гида.
— А ты видел?
— Видел. Как мы выехали на озеро, так они туда-сюда убегали от нас.
— Сегодня хорошая погода, солнце, ветра нет, муксун должен был
подняться.
— Папа, разреши, я немного пошумлю, может, они запрыгают и в лодку
попадут.
— Не надо мирных людей пугать, они тоже отдыхают, гуляют, веселятся.
Когда понадобится, тогда и попугаешь. На случай не надейся, надейся на свои
глаза и руки.
Сумерки быстро сгустились, сперва почернел берег, сопки отчетливо
вырисовывались на светлом небе, а чернота берега быстро приближалась к
середине озера, захватывала водную гладь, но стоило лодке подойти, как она
отступала назад, будто какая невидимая сила отталкивала это черное полотно.
— Папа, смотри, костер зажгли! — обрадованно закричал Гида. — Значит,
Богдан вернулся!
На мысе Большой Ганко горел костер.
«Пота с Идари вернулись, — подумал Токто. — Богдан вернулся, ох как
соскучился по нему!»
Гида начал грести во всю силу, подталкивал впереди сидевшую мать,
требовал, чтобы и она гребла сильнее, ему не терпелось быстрее увидеть
друга, с которым он рос, как с братом, ел за одним столиком, спал на одной
постели.
Но зря спешил Гида, напрасно волновался Токто: костер разжег русский из
села Тайсин, недавний знакомый Поты и Токто.
Странный человек был этот русский, ездил он один на большой русской
лодке, обмазанной какой-то черной густой, худо пахнущей жидкостью, которая
застывала на холоде, а на жаре смягчалась и липла. Дрянная жидкость! А
русский говорит: «Это смола, чтобы лодка не текла». Зачем обмазывать лодку,
когда можно законопатить мхом — и все. Свою лодку он называет то кунгас, то
баркас и хвастается, что может на ней переплыть озеро в любой шторм.
Как-то Пота разговорился с ним, начал расспрашивать, откуда он приехал,
что тут на озере делает, как живет, если не умеет ловить рыбу и бить зверей.
Русский засмеялся и ответил, что хотя не умеет ловить рыбу и зверей бить,
зато знает грамоту, умеет читать и писать. Но Токто не мог понять, как можно
на это жить: другое дело, если ты торговец или русский начальник, тогда тебе
все просто.
— Никакой я не начальник! Наоборот, русские начальники меня взяли да
сослали сюда. Живу теперь в селе Тайсин, а раньше жил в городе, работал.
Потом он долго и непонятно рассказывал, где он работал. Токто кое-как
понял, что он работал в большом доме, где книги делают. Он плохо понимал
по-русски, и к тому же русский рассказывал о таких вещах, которые никак не
укладывались в голове. Видимо, и вправду этот русский очень грамотный
человек.
...Русский вышел их встречать.
— Токто, это ты вернулся, — обрадованно воскликнул он. — Ну,
здравствуйте, здравствуйте все.
— Дорастуй, — ответил Токто и подумал: «Нехорошо получается как-то, он
запомнил мое имя, а я не помню, как его зовут, даже фамилию забыл».
Токто с Потой в шутку звали нового своего знакомого «Кунгасом», но Токто
сейчас не решался его так называть.
— Как съездил, хорошо погостил? — допытывался русский.
— Хоросо, хоросо.
Токто было досадно, что не знает русского языка.
— Я сегодня не удержался дома, сел в свой кунгас и покатил по озеру.
Был у якутов, что живут на Черном мысу, отличнейшие мастера! Ружья чинят,
паяют, латают и бог его знает, что еще делают.
— Якуты хоросо, — сказал Токто, чтобы только не молчать.
— Учись, Токто, русскому языку, обязательно учись, ты скоро будешь жить
рядом с русскими. Вот Пота выучил язык, говорит, все понимает.
— Да, Пота понимай.
— Когда он сюда возвращается?
— Знай нет.
Кэкэчэ, как только сошла с лодки, перетаскала вещи в хомаран и сразу
принялась готовить ужин. Ей помогал Гида, принес воды, дрова. Он очень
расстроился, не встретив на берегу своего друга Богдана.
— Ничего, Токто, наверно, скоро вернется Пота, тогда мы продолжим наши
беседы. Ох и шутник же этот твой браг, насмешник. А рыбу я сейчас ловлю не
сетями, конечно, удочки приспособил, якуты мне крючки сделали. Сегодня
больше десяти карасей поймал, да такие крупные, ну просто лапти. Уху сварил
в полдень, сделал жаркое на вертеле, да не умеючи так обжарил, что карасиные
бока обуглились. Вот еще поживу с вами, тогда всему научусь, это в жизни
очень пригодится.
Токто слушал речь знакомого и только четвертую часть его слов понимал.
Чтобы собеседник не принял его за неучтивого хозяина, он кивал головой и
поддакивал.
«Язык надо выучить, живем рядом и земля наша общая, из одной реки, из
одного озера воду пьем, потому должны знать друг о друге все, а чтобы знать,
надо понимать язык», — думал Токто.
— Ну, Токто, спать пора мне, пойду лягу в свом кунгасе.
— Надо кушай, спать не надо.
— Спасибо, я только что поел уху. Сыт, друг, сыт.
— Нет, кушай надо. Нет.
Токто удержал знакомого, накормил подоспевшим ужином. «Спать, говорит,
как же я тебя отпущу спать, если ты не поел у меня ничего, какой же я нанай,
если отпущу тебя, не угостив тем, что есть у меня», — думал он, лежа в
постели.
— Ничего, сейчас я не пропаду с голоду, удочки есть, — смеялся он,
прощаясь.
Погода по-прежнему стояла ясная, безветренная. К полудню Токто столкнул
оморочку, посадил сзади себя Гиду и выехал на озеро бить острогой муксунов.
А когда вечером он вернулся с полной оморочкой муксунов, почти враз с
ним к берегу пристала лодка Поты. Идари и Кэкэчэ бросились друг к другу,
обнялись.
— Где Богдан? Дядя, где Богдан? — теребил руку Поты Гида.
Токто даже не подошел к лодке, он стоял возле оморочки и не двигался с
места.
— Где Богдан? — спросил он, когда Пота подошел к нему.
— У дедушки остался погостить, — как можно небрежнее ответил Пота.
Токто устало сел на борт оморочки.
— Зачем оставил?
— Сам он захотел остаться.
— Теперь он уже не твой сын, Баоса не вернет его.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Всякое слово, сказанное даже в шутку, сразу становится известным
нескольким женщинам, и не успеет охотник, вымолвивший слово, выкурить
трубку, как его услышит все стойбище, а к вечеру, смотришь, оно уже
доберется и до соседнего стойбища. И попробуй теперь найди, кто первым
вымолвил его. Так случилось и с Баосой, уважаемым охотником, отцом четырех
сыновей и двух дочерей.
Кто-то из няргинцев сказал однажды: «Старик Баоса впал в детство».
Может, сказано было без алого умысла, в порядке шутки, но кто теперь в этом
разберется? Не прошло и трех дней, как по всему среднему Амуру от стойбища
Эконь внизу и до стойбища Дада вверху прошел слух: «Старик Баоса из Нярги,
тот Баоса, у которого десять лет назад разрушился большой дом, у которого
младшая дочь убежала с молодым охотником, впал в детство. А какой был
крепкий старик! А какой был крикун, ведь его звали Морай-мапа (Морай-мапа —
старик-крикун.)».
По всему среднему Амуру знали Баосу, многие охотились с ним вместе,
встречались на рыбной ловле, приезжали к нему, когда он держал у себя
священный жбан, а многие знали понаслышке.
Слухом переполнен Амур, и этот слух, в отличие от тех громоздких коряг,
которые могут плыть только вниз по течению, упрямо поднимается вверх против
течения. Баоса не слышал, что говорят о нем, не замечал сочувствующих глаз
няргинцев и продолжал, как ни в чем не бывало, возиться с детворой. Теперь
он редко встречался со стариками, с которыми недавно любил посидеть
рядышком, помолчать, повспоминать прошлое. Постоянными его спутниками в
поездках на рыбную ловлю, неизменными собеседниками стали Богдан и Хорхой.
Оба мальчика так привязались к деду, что не отходили от него ни на шаг. Даже
есть садились вместе за один столик, чего в молодые годы Баоса не позволял
ни одному из четырех сыновей: дети и женщины ели то, что оставалось от
мужчин-охотников.
Баоса, который из тайги после зимней охоты привозил сыновьям по одному
луку и с десяток стрел, теперь без устали мастерил внукам самые прочные
луки, самые красивые, разукрашенные стрелы, певучие и свистящие, со
стальными наконечниками на зверьков и толстыми набалдашниками на птиц. Он
вместе с внуками ходил в ближайшую тальниковую рощу, учил их подкрадываться
к птицам и радовался вместе с мальчиками, когда их стрелы сбивали птиц.
Когда Хорхой подстрелил свою первую птицу, он устроил праздник первой
добычи — эйлэн. Богдану, хотя он и убивал лосей, было так же интересно, как
и маленькому Хорхою, выслеживать мышей, бурундуков, подкрадываться к птицам
и стрелять в них. Старик учил мальчиков по поведению птиц находить их
гнезда, но разорять гнезда не разрешал.
— Они тоже люди, должны вырасти, когда станут большие, тогда делайте с
ними, что хотите, — говорил он.
Но однажды, когда Богдан подкрался к лесной певунье, маленькой пташке,
залюбовался ее красным оперением, заслушался пением и, пожалев, не
выстрелил, Баоса разозлился. Он кричал на внука, как прежде кричал на детей.
Богдан молча выслушал деда и сказал:
— Дед, она такая красивая, так хорошо пела...
— Лось, которого ты убил, не был красив?! — продолжал кричать
Баоса. — Но ты его убил, убил потому, что тебе мясо его надо было, потому
что тебе есть надо! Какая может быть жалость, когда ты свой желудок
наполняешь их мясом?
— Эту птичку мы не съели бы.
— Ты для чего сюда приходишь? Для чего бьешь этих маленьких птиц? Ты
разве съел хоть одну?
— Нет.
— Не съел и никто их не ест. Но ты на этих птичках оттачиваешь свои
глаза, набиваешь руки. Сегодня метко будешь сбивать их, завтра еще метче
будешь сбивать съедобных птиц и зверей. Ты не забывай, что еду себе будешь
добывать только своими глазами, руками и ногами.
Богдан не обиделся на деда, а Баоса вдруг замолчал и немного погодя
виновато проговорил:
— Так меня учили, так нужно, — он еще помолчал и тем же виноватым
тоном добавил: — Тебе жить надо, я хочу, чтобы ты стал самым лучшим
охотником. Ладно, забудь! Поехали на одно озеро, там утята уже подросли.
Поймаем, сколько сможем, и будем откармливать.
Мальчиков не надо было уговаривать, они запрыгали от радости и побежали
домой. Дома у них росли два коршуненка, которые день и ночь сидели на
юкольной сушильне и не хотели покидать ее, а под сушильней прохаживалась
длинноногая цапля, прыгали две чайки, а над ними в одной клетке сидел
совенок, в другой бурундук. Хозяйство у мальчиков было большое, чтобы
прокормить всю эту живность, они несколько раз вместе с дедом «неводили» на
озере. «Невод» этот тоже выдумка деда, он сам помогал его делать: из амбара
достал старую изорванную сеть, завернули в нее траву, а чтобы она стала
тяжелее, — положили камни, зашили сеть, с обоих концов привязали веревки —
и все готово. За один замет мальчики вылавливали по сотне мальков карася,
сазана, амура. При таком улове они, конечно, могли содержать еще несколько
утят.
— Как вы думаете, сегодня легко ловить утят? — спросил Баоса, когда
приехали из Нярги.
— Будем нырять, — заявил Хорхой, сидевший в оморочке впереди деда.
— Тебе что, тебе легко, ты же Хорхой, — засмеялся Богдан.
Баоса тоже не удержался и засмеялся. Но Хорхой не оправдал своего имени,
он плохо нырял, и уж никак нельзя было его сравнить с утятами, которые
ныряли от одного берега озера до другого. Поймали двух утят, спрятавшихся на
берегу в траве.
— В такой ясный день трудно охотиться на уток, нет ветра, шуршание
травы далеко слышно. Трава сухая, и утята не боятся выбегать на берег, —
поучал Баоса мальчишек, выставляя сеть в одном из многочисленных заливов. —
А мокрой травы боятся все утки, особенно льняные. На уток лучше всего
охотиться и ненастье, тебе плохо, зябко, а уткам еще хуже. Поняли? Человек
должен всегда перебороть себя, холодно — перебори, страшно — перебори,
голод точит — перебори, силы иссякли — перебори, найди их у себя же. Силы
у человека всегда есть в запасе. Таким должен быть сильный и храбрый
охотник. Запомните.
— Дедушка, а сегодня острогу будем метать? — спросил Хорхой,
старательно работая двухлопастным дедовым маховиком.
Баоса теперь всегда брал два маховика, один для себя, другой для внуков.
Когда он курил трубку и отдыхал, мальчишки махали веслами и сопели от
усердия. Хорхой сидел всегда впереди деда, где борта оморочки были особенно
широки, и потому его маховик, когда он загребал, стучал и скреб по обоим
бортам.
— Когда ты перестанешь стучать? — ворчал Баоса. — От твоего стука
скоро оглохну. Если бы ты так ехал на охоте, звери услышали бы, как только
ты отъехал от стоянки. Смотри, как встрепенулся сазан. Разве ты подкрадешься
к нему, чтобы бросить острогу?
— Ну скажи, будем метать? — не отставал Хорхой.
— Ладно, будем, — согласился Баоса.
Вечером няргинцы с улыбкой смотрели, как Баоса, стоя по колено в воде,
дергал шнуры, а мальчики метали острогу в невидимую цель.
— Смотри лучше! — кричал Баоса. — С какой стороны голова? Да не там!
Там, где трава поднимается или шевелится, там и голова. На какой глубине
рыба? Смотри, как трава шевелится. Эх! Слепой ты! Глаз у тебя лягушачий!
Старики покачивали головами: «Да, Баоса уже впал в детство, играет
только с детьми».
Баоса стоял в воде и в обеих руках держал шнуры от «рыбы». «Рыба» —
тоже его выдумка, тоже сеть, туго набитая травой и камешками, с обоих концов
связанная длинными шнурами. Эти шнуры в руках и держит Баоса: потянет один
шнур, зашевелится затопленная трава — это «голова» рыбы, куда мальчишки
метят острогу. Как только заметит Баоса, что внуки собрались метать острогу,
дергает шнур и быстро выбирает его, а «рыба», оставляя волну, устремляется к
нему; мальчики бросают острогу с упреждением и ловко подцепляют мишень.
Баоса бывает очень доволен, когда внуки подряд несколько раз поражают его
«рыбу». Он выходит на берег, садится на горячий песок, закуривает и в знак
высшей признательности за мастерство внуков предлагает им свою трубку.
Мальчики затягиваются раз-два, поперхнутся дымом и кашляют, перегибаясь в
три погибели, из глаз текут слезы, но от трубки они не отказываются: какой
же мужчина-охотник не курит!
— Хорошо, Богдан, хорошо ты бросаешь острогу, — похвалил Баоса
любимого внука. — Рука только у тебя слабовата еще. Но ничего, силы будут.
— Дедушка, сказать тебе честно, почему я попадаю? — нахмурив брови,
спросил Богдан.
— Скажи. Почему?
— Потому что твоя рыба всегда только к тебе убегает. Это неинтересно,
рыба должна убегать в любую сторону.
Баоса молчал, только трубка его недовольно клекотала.
Вернувшись домой, Баоса сел на горячий песок и стал греть ноги. К нему
подошел Ганга и, не здороваясь, сказал:
— Ругаться я пришел.
— Начинай, — ответил Баоса и даже не взглянул на Гангу.
— Ты нехороший человек, Баоса, я думал, к старости стал лучше, а ты
такой же нехороший, какой и был. Ты почему не пускаешь внука ко мне? Богдан
не одному тебе внук, он мой внук, он сын моего сына.
— Он сын моей дочери.
— Но он сын и моего сына, он нашего рода Киле.
— Как я захочу, он такого рода и будет. А я хочу, чтобы он Заксором
был. Кто вы такие Киле? Вы даже не нанай, вы пес знает откуда пришли на Амур
да самовольно назвались нанай.
— Мы нанай!
— Нет, вы не нанай.
Богдан усмехнулся, он уже который раз слышит такую перебранку между
двумя дедами, и ему порядком надоело все это. Мальчик побежал на берег
Амура, где купались его сверстники.
— Нет, мы нанай! — упрямо твердил Ганга, позабыв, из-за чего начался
спор, ему теперь главное было отстоять свою принадлежность к нанайскому
народу.
— Нет, вы помесь якутов, тунгусов, орочей, называете себя нанай только
потому, что живете на Амуре. Понял?
— Ничего не понял! — Ганга застыл с открытым ртом, потом, закрыл рот,
подумал и, вспомнив, с чего начался весь этот сыр-бор, закричал: — Ты опять
меня обманул, опять повел разговор по другой дороге! Нет, ты скажи, почему
только один ты любишь Богдана? Ты нехороший человек, Баоса! Богдана нам
оставили на двоих, а ты один, да, один его любишь.
— Пополам с тобой любить, что ли?
— Кто сказал пополам? Пусть день ты, потом я.
— Ну и люби день ты, потом я.
— А почему ты его не отпускаешь ко мне? Он даже поесть не зайдет,
ночевать не придет.
— Потому что у тебя воняет.
— Я давно знаю тебя, ты пес сам вонючий! — задохнулся в гневе Ганга.
— А ты хорек вонючий, это я тебе тоже давно сказал! Это я тебе сказал,
когда пустился за твоим сыном-вором. Ух, нашел бы я его тогда, убил бы.
— Пес ты, пес, если бы убил, сейчас у нас внука бы не было.
— Дочь моя все равно родила бы его, Богдана!
— Как она родила бы без моего сына?
— Так вот родила бы, и все!
— Правильно люди говорят, ты в детство впал. Вот!
Баоса замолчал, сейчас только взглянул на своего соседа.
— Глупый хорек. Если люди так говорят про меня, пусть говорят. Уходи
отсюда! Богдан к тебе никогда не придет! Он мой внук! Он Заксор, он нанай,
ему нечего делать у тебя, у Киле!
— Аха, а мой старший сын Улуска Киле, живет у тебя, это ничего? Да, это
ничего?
— Вот видишь, от тебя, от вонючего хорька даже дети бегут!
Ганга побагровел, поднялся на ноги, стал размахивать руками. Баоса тоже
вскочил на ноги, он был на голову выше Ганги.
— Драться не вздумай, шею переломаю! — закричал он.
— Внука отдай, и драться не буду! — кричал в ответ Ганга.
Сколько бы еще продолжался этот спор, длившийся целый месяц, с
перерывами день-два, никто не знает. Люди, слушавшие его, качали головами и
выразительно хлопали себя по голове: «Старики выжили из ума, иначе не стали
бы внука делить».
Ганга, размахивая тонкими руками, подходил к Баосе, когда к ним подбежал
Хорхой.
— Дедушка! Дедушка! Халико подъезжает, сверху спускается. Наверно, наш
второй дед возвращается из Сан-Сина. Дедушка, пошли на берег!
Баоса опустил руки и, тяжело дыша, сел на песок. Рядом опустился в
изнеможении Ганга.
— Если бы не Пиапон, я бы драться начал, — сказал Ганга. — А драться
все равно буду, если не отдашь моего внука.
— Это мой внук, сын моей дочери, — ответил Баоса.
— Сын мой главнее, мужчины всегда главнее. Богдан мой внук.
— Что твой сын? Тьфу, вот кто.
— Тьфу, да? Вспомни, как ты собирался перед ним на колени вставать, как
плакал...
Не успел Ганга высказаться, как сухой тяжелый кулак Баосы опустился на
его шею, и он растянулся на горячем песке. Сколько пролежал, Ганга не
помнил, но когда очнулся, Баосы рядом не было. А на берегу шумел народ,
встречавший вернувшихся земляков. Ганга поднялся и, держась за шею, побрел
на берег. «Ничего, Баоса, не всегда тебе быть счастливым, — думал он. —
Нет, Баоса, есть эндури-ама на небе. Хоть заболел бы ты, проклятый Баоса,
неизлечимой болезнью, хоть бы злые духи услышали мои проклятья!»
Ганга шагал, опустив голову. Он слышал шум, крики встречавших халико
няргинцев и ускорил шаг. Но вдруг все кругом притихло, потом тишину прорезал
истошный утробный женский крик, затем заголосили сразу несколько женщин.
Ганга испуганно остановился, потом, забыв о боли в шее, побежал
вприпрыжку.
— Что такое, что случилось? — спрашивал он первых попавшихся, но ему
никто не отвечал. Тогда он протолкнулся к приставшему боком халико и
очутился рядом с Баосой. Позабыв о ссоре, Ганга хотел было у него спросить,
почему голосят женщины, но вовремя заметил две слезинки, медленно
скатившиеся по дряблому, морщинистому лицу Баосы. «Плачет», — удивленно
прошептал он.
Возле Баосы стоял Американ и что-то тихо говорил. Ганга пододвинулся
ближе.
— Как прозевали сторожившие — никак не могу понять, — бессвязно
бормотал Американ. — До сих пор не могу прийти в себя, голову ломит, меня
ведь тоже чуть не убили, по голове чем-то тяжелым ударили. Трех наших
потеряли, даже тела их не нашли, среди них мой лучший друг Пиапонгаса. Троих
раненых подобрали, вон лежат. А вещей не тронули. Почему не тронули, тоже
непонятно. Я в душе все же думаю, что мой друг спасся. Почему думаю — сам
не знаю. Мы искали их, но недолго, боялись, что хунхузы вновь вернутся.
Сообщили русским, они, может, подобрали. Я не верю, чтобы такой храбрый
человек, как мой друг Пиапонгаса, мог так просто умереть. Сердце
отказывается верить.
Двое молодых охотников подавали мешки с мукой, крупой, связки дабы,
какие-то узелки, все это складывали на сухом песке в двух местах. Около этих
двух куч добра стоял Холгитон в окружении жены, детей, тут же был и его
работник-маньчжур Годо.
— Эту связку сюда, этот мешочек туда, — распоряжался Холгитон и, не
оборачиваясь, спрашивал Супчуки: — Как ты жила без меня? Дети не болели?
Годо хорошо выполнял свои обязанности?
Супчуки вся сияла, отвечала бойко и слаженно, она, казалось, была
безмерно рада возвращению мужа. Такое впечатление осталось бы у всякого
непосвященного человека, наблюдавшего за счастливой Супчукой, но няргинцы
знают, чему радуется молодящаяся жена старого Холгитона. Правда, на ее месте
любая женщина тоже радовалась бы, ведь в дом привалило добро!
Американ спешил, он надеялся еще засветло доехать до своего стойбища.
Как только выгрузили привезенное добро Пиапона и Холгитона, халико отчалил
от берега и поплыл вниз по течению. Няргинцы молча провожали лодку, и многим
мерещилось, что это не лодка плыла по протоке, а наполовину погрузившийся в
воду гроб. Все в стойбище уважали и любили всегда уравновешенного, доброго,
отзывчивого, честного Пиапона и весть о его исчезновении восприняли как
тяжелую утрату.
Почти все женщины стойбища, окружив Дярикту и дочерей Пиапона, плакали;
мужчины столпились вокруг Баосы, Полокто, Дяпы, Калпе, они скорбно молчали,
крепко зажав зубами трубки. Один Калпе, любимый брат Пиапона, не мог
сдержаться, он всхлипнул, застонал и опустился на горячий песок. Охотники
стояли, глядя вслед удалявшейся лодке, потом, не сговариваясь, подхватили
добро Пиапона и пошли к нему в дом.
Никогда прежде в рубленом доме Пиапона не собиралось столько народу, как
сейчас, многим не нашлось места на нарах, на деревянном полу, и они
расселись на крыльце, на завалинке.
«Как после похорон», — думал Калпе, глядя на людей.
Полокто впервые зашел к брату, он, хотя и жил почти рядом, очень редко
встречался с Пиапоном, обходил его стороной. Теперь он с жадностью
разглядывал жилье брата, сравнивал со своим жильем и вынужден был признать,
что дом Пиапона лучше его дома.
«Хороший дом оставил жене и детям», — подумал он.
Женщины сидели на корточках возле глиняного очага. Замужняя дочь Пиапона
Хэсиктэкэ рыдала, обняв мать за шею, другая, младшая дочь Мира всхлипывала,
отвернувшись к стене.
— Сиротки мои, — плакала Дярикта.
— Брат мой любимый, зачем ты ушел, не взглянув на меня, не попрощавшись
с братьями и сестрами! — причитала рядом с Дяриктой Агоака.
— Не плачьте, не убивайтесь, — уговаривали их старушки. — Не надо
раньше времени хоронить, может, он жив, вы же слышали, что говорил этот
мэнгэнский хозяин халико. Может, эндури помог ему, кто знает.
Дярикта вытерла красные глаза кончиком платка и спросила окружавших ее
старух:
— Вы много прожили, вы все знаете. Что же мне сейчас делать? Какой
обряд исполнить?
Старушки подумали, переглянулись.
— Надо сперва узнать, где он, жив ли, тогда только можно кое-что
сделать, — ответила старая Гоана, мать Исоаки.
— Да, да, надо подождать, — закивали другие старушки.
— Лучше всего обратиться к шаману, пусть гэюэнгини (Гэюэнгини — узнает
судьбу пострадавшего.), — подсказала одна из них. — Если бы был большой
хулусэнский шаман, было бы лучше, да его нет сейчас, уехал на касан. Наш
няргинский тоже ничего, но большой шаман лучше разузнал бы.
— Да, да, это верно, — опять согласились старушки.
В дом вошел Холгитон в сопровождении Ганга. Он не мог усидеть дома. Как
только убрал привезенное добро в амбар, тут же собрался в дом Пиапона. Ему и
Ганге уступили место возле Баосы. Холгитон закурил и молчал, посапывая
трубкой. Все ожидали его рассказа о нападении хунхузов. Если бы не скорбь по
Пиапону, охотники не против были бы выслушать весь рассказ о поездке в
Сан-Син.
Холгитон выкурил половину трубки и не вымолвил ни одного слова. Сидевший
с левого бока Баосы Ганга будто невзначай дотронулся до Баосы, встретился с
его тяжелым от горя взглядом и прошептал:
— Крепись сердцем. Тяжело на душе, когда уходят от нас молодые, лучше
бы нам уйти вместо них. — Потом, помолчав, добавил: — Зря ты мне болезнь
сделал, голову не могу повернуть, шея болит.
Баоса отвернулся от него.
«Чего он не начинает?» — зашептались между собой нетерпеливые молодые
охотники, поглядывая на Холгитона. Наконец и Баоса не вытерпел:
— Отец Нипо, ты один видел, один был там, мы ждем твоего рассказа.
Легче всем вместе вынести страдание, чем одному.
Холгитон не пошевелился.
— Мне тяжело, отец Калпе, рассказывать об этом, — наконец начал он. —
Все произошло очень странно. В тот вечер мы остановились в маленькой фанзе,
в той фанзе жили старик со старухой, добрые старые люди. Помню, старушка в
большом котле сварила уху из свежих сазанов, вкусная уха была. Мы ведь в
городе свежей рыбы мало ели, потому набросились на эту уху. На радостях
напоили стариков и сами крепко выпили. Я сидел на нарах, рядом со мной
Американ, Пиапон. Пиапон весь день простоял за кормовым веслом, устал, он
поел уху, немного выпил и уснул тут же. Американ еще смеялся над ним,
говорит, силы бережет, к жене едет, а того не знает, что от водки сила.
Сколько мы выпили — не знаю, помню, уснул на нарах. Мы не очень
беспокоились за вещи, потому что там сидели караульные, потом оказалось —
они тоже немного выпили и уснули в лодке, вот их и захватили врасплох
хунхузы. В полночь или ближе к утру прямо в окно выстреляли несколько раз.
Выстрелили над самым моим ухом, я сразу оглох, ничего не слышу. Чувствую,
люди копошатся, бегут, кто в окно, кто в дверь. Я тоже было за ними бежать,
да куда там, ноги будто приросли к поду. Я лег на пол. Чувствую, кто-то
лежит рядом, ногой пинается. Тут я догадался, люди заползают прятаться под
нары. Я тоже полез под нары. Сколько прошло времени, не знаю, но лежал я под
нарами долго. Потом чувствую, один выполз из-под нар, другой. Вскоре я один
остался. Выглянул я из-под нар, смотрю — дверь настежь открыта, светать
стало.
Холгитон выбил пепел из трубки о край нар, начал вновь набивать трубку.
Ему подали другую. Он закурил и продолжал рассказ:
— Потом вижу, в дверях появился один, другой человек, кто такие — не
разглядеть: еще не совсем рассвело. Думаю, это хунхузы за мной пришли, всех
поймали, теперь за мной явились. Что же делать? — думаю, ружья нет, одним
ножом что сделаешь? Затаился я, как птенчик под листом. На улице совсем
светло. Смотрю в проем двери, вошел охотник с нашей лодки. Что говорят, кто
в доме, не знаю, потому что — ничего не слышу. Вижу, одни ноги. Чьи это
ноги, наших охотников или хунхузов? Потом слышу, будто где-то далеко-далеко
кричат: «Хунхузы ушли, выходите на берег!» Я не поверил, лежу. А голос все
громче и громче становится, это слух ко мне возвращался. И услыхал я, что в
фанзе разговаривают наши охотники. Тогда я осмелился и выполз из-под нар.
Охотники оглядели меня, сказали, чтобы я сходил и вымылся. Я сам знаю, что
надо вымыться, ведь под нарами какой только нечисти нет. Вышел я на улицу, а
там старушка уже разожгла огонь, варит что-то в котле, будто тут ничего не
произошло, будто хунхузы не нападали на нас. Я удивился и пошел умываться.
На берегу стоит наш халико, все наше добро на месте, хунхузы не взяли ни
щепотки муки. Я еще больше удивился. Думаю, как же так, ведь они напали на
нас, чтобы отобрать наше добро! Напугали нас до смерти и ничего не взяли! Я
умылся, сменил верхний халат и вернулся в фанзу. Здесь уже много собралось
наших. Ищу глазами Пиапона, нигде его нет. Ушли искать, говорят, пяти
человек нет. Долго искали, нашли еще двоих, а трое так и исчезли. Я тоже
ходил, искал, кричал, но на мой зов никто не откликнулся. Там густые кусты,
трава высокая, не просто найти человека.
— Если бы живой был, откликнулся бы, — вставил слово Баоса.
— К нашему отъезду старушка сварила кашу, а старик проверил сети,
поймал сазанов и угостил нас талой, — продолжал рассказ Холгитон. — Меня
опять удивили эти старики. Спрашиваю, часто здесь бывают хунхузы, в лицо их
знаете? Бывают, неохотно отвечает старик.
— Может, они заодно с хунхузами? — предположил кто-то.
— Старые они люди, — ответил Холгитон. — Мы в полдень приехали в
русское село, властям рассказали о хунхузах, русские солдаты тут же
собрались и на железной лодке поплыли искать хунхузов. Мы сообщили им, что
потеряли троих товарищей. Русский начальник долго ругал нас, зачем мы ездим
в Маньчжурию. Там, мол, другая власть, а у нас другая, будто не можете эту
же муку и крупу здесь, на Амуре, купить.
— Правильно говорил, — сказал Ганга.
— Выехали мы из этого русского села и поплыли до дому, не
останавливаясь, день и ночь плыли. Когда однажды опять начали вспоминать
нападение хунхузов, все вспоминали как было, кто где был, что видел. Наши
караульные спали, их, спящих, связали и оставили в лодке, потом их старик из
фанзы развязал. Многие молодые охотники убежали в кустарники и там
спрятались. Американ прятался со мной вместе под нарами. Старик со старухой
тоже говорили, что прятались под нарами. Только почему-то старик и старуха
были в тех же вчерашних халатах и халаты их были чистые, а мой халат был
весь... сами знаете, что бывает под нарами, если щенки там живут. Американ
тоже в то утро был чистый. Потом один караульный говорит: «Американ, а чего
ты так громко кричал, кого ругал?» — «Я никого не ругал», — говорит
Американ. А караульный говорит: «Ты кричал, говорил по-китайски». Потом я
слышал, как один хунхуз что-то по-нанайски сказал и Американ только
посмеялся над ним. Все, говорит, это ему от испуга показалось. Караульный
был охотник из Диппы, молодой храбрый человек. Он всю дорогу твердил, что
один из хунхузов говорил по-нанайски. Потом мы решили, может, этот хунхуз
маньчжур, а маньчжуры многие знают нанайский язык.
— Своих зачем оставили. Надо было лучше искать, — заговорили
охотники. — Это уже под утро было, роса выпала, а по росе, что на снегу,
следы видны.
— По росе я искал, — ответил Холгитон. — Столько было следов, разве
найдешь? Наши охотники прятались в кустах, бегали, петляли, как зайцы перед
лежкой, вся трава была истоптана, ведь хунхузы тоже бегали там, искали
спрятавшихся.
Охотники замолчали, и каждый обдумывал, как бы он поступил, если бы
находился на месте Холгитона. Женщины, притихшие было во время рассказа
Холгитона, опять запричитали. Мужчины закурили, посидели еще немного и стали
расходиться по одному. Чем они могли помочь Дярикте и Баосе? Будь это где-то
в стойбище Болонь, Хунгари или хотя бы дальше, они, бросив все дела, поехали
бы на розыск. Конечно, нет сейчас никакой надежды найти Пиапона живым, но
надо разыскать хоть останки: такого человека, как Пиапон, нужно хорошо
похоронить. Он при жизни много добра принес людям, нельзя допустить, чтобы
он после смерти ходил по белу свету и в буни, как неприкаянный. Но что тут
сделаешь, Пиапон потерялся в верховьях Амура, выше города Хабаровска, туда
на самой быстроходной оморочке десять дней подниматься. Ничем не помочь
Дярикте и старому Баосе. Охотники разошлись, в доме остались только близкие
Пиапона да Холгитон с Гангой.
— Американ говорил, есть надежда, что русские его разыщут, — начал
робко Калпе.
— Пустой он человек, — хмуро проговорил Холгитон. — Чтобы душу
облегчить, говорил.
— А может, его и вправду нашли, — поддержал брата Дяпа.
— А если поехать туда, на железном пароходе, — предложил Калпе.
— Может, и прав Калпе, — сказал Полокто. — Может, поехать в
Хабаровск, там у властей разузнать. Только денег много потребуется.
— А где их взять? — спросил Дяпа.
— Я знаю, как денег достать, — заявил Полокто. — Надо привезти сюда
священный жбан, за моление брать деньгами, так делает дядя Турулэн.
Баоса не проронил ни слова за весь этот разговор, но, услышав о жбане
счастья, о Турулэне, насторожился.
— Кто тебе сказал, что Турулэн деньги берет? — спросил Баоса.
— Я сам видел своими глазами.
— Не верю я тебе, — жестко сказал Баоса. — Не о жбане надо думать.
Брат твой родной погиб, а ты о жбане, о деньгах думаешь.
Баоса сердито выбил пепел из трубки, засунул ее в грудной карман, слез с
нар и вышел на улицу. Ему хотелось побыть одному, посидеть на берегу
Амура-кормильца. А когда горе нагрянет на нанай, Амур и успокоит его и
утешит.
Старый охотник вышел на берег реки, сел на перекладину лодки. Кругом
песок был испещрен человечьими следами: на этом месте приставал Американ,
здесь выгружали привезенное Холгитоном добро. Будь жив Пиапон, и его след
остался бы на песке и старому Баосе не пришлось бы сейчас сидеть на лодке и
думать тяжелую думу.
«Как же получилось так, что нанай бросил своих товарищей и поспешил в
объятия жены? Нет, Баоса не оставил бы своего товарища, он вернулся бы с
русскими и разыскал его. Живого или мертвого он разыскал бы. Эх, Американ,
человеческая жизнь намного короче ствола кедрача, ты тоже состаришься, ты
тоже многое испытаешь, может, тоже потеряешь взрослого сына. Когда дети
уходят младенцами — жалко, они были вроде бы твоей игрушкой, живой и
веселой. Пожалеешь несколько дней, подумаешь, что они еще ничего не сделали
на земле, и успокоишься. А вот когда уходит от тебя взрослый сын, твой
кормилец и поилец, это больно, это разрывает на куски сердце. Ты это еще
поймешь, Американ! Когда твоего взрослого сына похоронят на чужбине, ты
попомнишь мои слова!»
Баоса дышал прерывисто и тяжело, он не замечал, как текли слезы по его
морщинистому, землистого цвета лицу.
«Будь ты проклят, Американ. Пусть тебя растерзают такие же злые, жадные
и хитрые люди, как ты сам! Пиапон, сын мой! Зачем ты только доверился этому
человеку-росомахе? Почему не захотел послушать моего совета? Поехал в чужие
земли. Лучше бы я погиб вместо тебя. Мне, старику, пора уходить к верхним
людям, а тебе еще надо было жить да жить... Ты же был великий охотник.
Звери, переходя твою охотничью тропу, проливали слезы. Тебе еще ходить да
ходить надо было по тайге. Ты же был лучший рыболов, рыбы, обходя твои сети,
попадали под твою острогу, тебе еще ловить да ловить надо было их. На кого
ты оставил своих детей, жену? На подходе кета, кто же им, сиротам, заготовит
юколу? Поторопился ты уйти в темный мир, рано слишком ушел...»
Баоса услышал приближавшиеся шаги и вытер рукавом халата слезы. К нему
подошел Холгитон.
— Отец Пиапона, — сказал он после долгого молчания. — Я много
молился, просил вернуть твоего сына. Полным ковшом слез даже синяка не
излечишь, а человека и подавно не оживишь. Молиться надо. Я в Сан-Сине
учился у ламов новой молитве, у них каждый дух имеет свое лицо. Я привез
много мио, этому мио надо молиться. Пойдем ко мне, маленечко выпьем, потом я
дам тебе мио, и ты будешь молиться. Я заставил всех охотников купить мио,
все привезли, в вещах Пиапона тоже должны быть, надо сказать Дярикте, чтобы
повесила одно мио в доме и молилась.
Баоса молча пошел рядом с Холгитоном.
В доме Холгитона собрались гости, на нарах сидели уважаемые в стойбище
старики, пожилые охотники, перед холодным очагом — старухи. Жена Холгитона
Супчуки с помощью Годо сварила просяную кашу, приготовила фасоль, свежую
рыбу, отварила мясо и суп из копченого мяса. Как только Холгитон сел на свое
место, Годо подал ему столик и начал расставлять вкусную еду.
Холгитон тем временем продолжал рассказывать о пагодах, ламах и мио.
— Мио можете дома держать, можно в сундуке, можно повесить на стене. А
лучше всего построить в тайге маленький домик для мио и там хранить его,
туда ходить молиться.
— Так что же, выходит пиухэ (Пиухэ — семейное священное дерево.) не
потребуется?
— Да пусть стоит твой пиухэ, рядом поставь домик мио. Что они
подерутся, что ли? Хочешь — молись мио, хочешь — пиухэ, можно одновременно
тому и другому.
— Что же выходит? Шаманы не нужны больше?
— Выходит, мы будем своему эндури молиться, по-русски креститься и
молиться еще мио?
— Э, брось ты, будто ты крестился когда.
— Крестился.
— Да, когда поп приезжает в стойбище. Когда его нет, ты не вспомнишь о
русском боге.
Только Баоса не вступал в разговор.
«Может, на самом деле отправить Калпе в Хабаровск, — думал он, —
может, тело брата разыщет или узнает, где его похоронили. А может, поехать в
Малмыж, попросить Митропана переговорить с русскими начальниками, они же
могут между собой на расстоянии письмами разговаривать. Эх, сын, родной
Пиапон, сидели бы сейчас вместе, выпивали бы... Пиапон, сын мой!»
Баоса плакал.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Он лежал на мягком влажном мху, и над ним шелестела листвой тонкая
березка. О чем говорили листья березки? О любви, конечно!
— Милый, мы всю жизнь будем рядом. Я так люблю тебя...
Кто же это говорит? Неужели листья березки?
— Я так люблю тебя...
Ах да, это же моя любимая Бодери! Но я женат на Дярикте, у меня дети уже
взрослые.
— Мы всю жизнь будем вместе...
Как же вместе? Я же женат на Дярикте, ты забыла, Бодери, нам ведь не
разрешили жениться, тебя насильно отдали за другого молодого охотника.
Неужели ты вернулась ко мне? Насовсем вернулась? Бодери, любимая моя, я тебя
так ждал, я о тебе так много думал! Ты моя, Бодери, слышишь, ты моя! Родная,
ложись рядом, не дави на голосу, ложись рядом. Как хорошо греет солнце,
чувствуешь, как припекает щеки, будто ласкает.
Пиапон вдруг почувствовал сильную боль в затылке, голову ломило,
казалось, ее зажали огромными щипцами и давили, давили беспощадно. Он
застонал и открыл глаза. С лазурной голубизны неба на него глядело
ослепительное солнце.
С левой и с правой стороны стеной стояла высокая густая трава, в ногах
зеленела листьями низкая кривобокая березка.
«Только милой Бодери нет, — подумал Пиапон. — Значит, это был сон».
Пиапон с трудом поднял руку, стряхнул с лица и шеи муравьев, попытался
приподнять голову, но не смог. Глаза снова заволокло черным туманом, за
которым скрылось яркое солнце.
— Этот тоже готов, — услышал Пиапон далекий голос, приходя в себя.
Он с трудом открыл глаза, над ним наклонялись двое русских солдат.
— Глянь, жив, — проговорил один из них. — Зови ребят.
Пришли еще двое, они бережно уложили Пиапона на шинель и вчетвером
понесли на берег. Остановились они возле фанзы стариков, которые вчера
гостеприимно встретили охотников.
— Ваше благородие, разыскали еще одного. Этот жив! — доложил один из
солдат. К Пиапону подошел офицер, наклонился над ним.
— Не осмотрели? Куда ранен? — спросил он.
— Кажись, в голову, ваше благородие.
Офицер приказал забинтовать рану, и, когда солдаты кончили бинтовать, он
сел рядом с Пиапоном.
— По-русски говоришь? — спросил офицер.
— Да.
— Когда напали на вас хунхузы?
— Ночью.
— Сколько их было?
— Не знаю.
— Так. А сколько вас было?
— Восемнадцать.
— Скажи, это ваши? Приподнимите его, — приказал он солдатам. Солдаты
исполнили его приказ. Пиапон взглянул на два лежавших на траве трупа и узнал
своих товарищей, один из них был тот юноша, который заболел в Сан-Сине.
— Да.
— Как их зовут? Из каких стойбищ они?
Пиапон ответил и закрыл глаза. Офицер записал ответ Пиапона, отошел от
него и заговорил по-китайски со стариком, хозяином фанзы. Старик что-то
бормотал в ответ.
— Во всяком случае, он не походит на сообщника хунхузов, — сказал
кому-то по-русски офицер.
Пиапон не мог повернуть голову, чтобы разглядеть собеседника офицера.
— Он хитрее, чем вы о нем думаете.
— А мне кажется, он сообщник разбойников. Надо, поручик, установить
слежку за стариком. Неужели в эти края вернулся со своей бандой Лю Си Чи?
Офицер еще долго говорил со своим собеседником, который, по-видимому,
был старше его по чину, потом он приказал вырыть могилы и похоронить двух
молодых охотников, павших от рук хунхузов.
Тем временем солдаты накормили Пиапона, отнесли на катер и уложили в
просторном кубрике. Вскоре корпус катера задрожал, заработал мотор. Пиапон
вновь потерял сознание и пришел в себя, когда на него дохнуло свежим
ветерком и прохладой. Его выносили из катера.
Был вечер, сумерки сгустились, стало совсем темно. С Амура дул теплый
влажный ветерок. Только очень хотелось пить.
— Потерпи, дорогой, потерпи трошки, скоро приедешь в гошпиталь и тебе
все подадут, дамочки в белом будут за тобой ухаживать, одно удовольствие! —
отвечал какой-то говорливый солдат.
Пиапона положили на солдатскую двуколку и повезли. Когда двуколка
поднялась на сопку, Пиапон увидел Амур, который лежал перед ним, изогнувшись
серебряной дугой к западу.
«А ведь это Бури — Хабаровск, — подумал он. — Только здесь Амур
изгибается как лук».
Двуколка катилась по улицам города, но Пиапон видел только верхние этажи
высоких домов и крыши одноэтажных деревянных домов. Солдаты привезли его к
большому каменному причудливому зданию, сдали санитаркам и, попрощавшись,
уехали.
Пиапон опять рассказывал, кто он такой, откуда, как получил ранение,
потом стригли его волосы, брили острой бритвой, помыли горячей водой.
Потом Пиапону перевязывали голову, а он принюхивался к незнакомым
запахам, пытался определить, чем пахнет и откуда, но острая боль в затылке
отвлекала его, голова кружилась, в глазах все еще стелился густой туман.
Даже думать было трудно.
— Большая потеря крови, — сказал осматривавший Пиапона мужчина во всем
белом.
После этого его отвели в большую комнату, уложили на узкую жесткую
кровать. И он опять потерял сознание.
...Где-то далеко звенели бубенчики-колокола ямщичьих лошадок, они все
ближе и ближе. Нет, это не ямщик, это ехал какой-то большой начальник,
укутанный в мягкий и теплый тулуп. Начальник торопился по своим важным
начальничьим делам, не велел останавливаться, и лошади снежным вихрем
промчались мимо. Опять наступила тишина. А ветер дует в затылок... Почему
только в затылок? Вот опять зазвенели бубенчики-колокольчики. Это
возвращался важный начальник. Остановил лошадей, высунул голову из теплого
тулупа. Э, да это же тот офицер, который погнался за хунхузами.
«Как зовут тебя? — жестко спросил офицер. — Откуда ты? Сколько было
вас? Где хунхузы? Сколько было их? Не знаешь? Как это не знаешь? Тебя они
убили, а ты не знаешь? Да какой же ты охотник после этого! Ты не охотник! Ты
не охотник! Ты не охотник!»
Пиапон открыл глаза и увидел, что над ним стоят двое людей в белом. Он
хотел пошевелить рукой, но рука была так тяжела, что он еле сдвинул ее с
груди на живот. Во рту пересохло. Один из мужчин подал воду. Пиапон сделал
глоток, второй и почувствовал облегчение.
Мужчины в белом ушли, а немного погодя пришла женщина и начала с ложечки
кормить Пиапона.
Через два дня его перевезли в прежнюю палату, где он лежал в первый день
прибытия в больницу. С этого дня Пиапон стал поправляться, через полмесяца
он впервые встал на ноги и испуганно сел на кровать: ноги были словно чужие,
слабые и противно дрожали. Его сосед справа, бородач Кузьма Полухин, бодрил:
— Ничего, друг, бывает. Давай смелее, смелее. Держись за спинку
кровати, сделай шаг, второй. Хорошо.
Пиапон прошел до дверей и обратно и в изнеможении опустился на кровать.
«Как же я буду охотиться?» — с тоской подумал Пиапон.
— Устал? — сочувственно спросил сосед слева молодой русоголовый
парень, звали его Илюшей. — Ты, наверно, раньше не болел, потому так
страшишься, аж побелел.
Пиапон да самом деле не помнил, болел он когда или нет, легкую головную
боль он не признавал за болезнь, резь в желудке от худой пищи переносил на
ходу, а других болезней он не знал.
Отдохнув немного, он опять встал на ноги и повторил тот же путь, который
только что проделал. Больные уважительно смотрели на него.
— Упорный человек, — сказал один.
— Охотник, — добавил другой.
— Молодец ты, Петр, молодец, — хвалил Кузьма, он перекрестил Пиапона в
Петра.
«Больше ходить, меньше лежать», — думал Пиапон.
Вечером у него подскочила температура, и доктор запретил ему вставать.
— Доктор, пускай меня домой! — попросил его Пиапон. — Моя уже вставай
на ноги, ходи. Больше моя не могу здесь лежать. Как лежать, когда нада ходи?
Надо юкола зима готовить, детей кормить, сам кушай.
— Не могу отпустить, пока рана не заживет, — ответил врач. — И
температура у тебя подскочила.
Пиапон, честно говоря, никак не мог понять назначения этих стеклянных
трубочек. А когда Кузьма объяснил ему, что этой трубочкой проверяют
повышение или понижение жара человеческого тела, он улыбался и отвечал, что
у каждого человека поднимается жар, если он будет бежать на лыжах вслед за
лосем, это можно определить и без трубочки.
— Доктор, пускай домой, — продолжал он уговаривать.
Доктор подумал и сказал:
— Как ты вернешься домой без косы?
— Да, эта худа, — ответил Пиапон, подумав.
— Вот видишь, надо тебе лежать у нас, пока у тебя не вырастет новая
коса.
Доктор не удержался и улыбнулся. Но Пиапон не заметил улыбки доктора, он
всерьез воспринял его слова.
«Да, без косы не бывает охотника, — думал он. — Все наши предки ходили
с косами, без косы нет удачи ни на охоте, ни на рыбалке. Да и мужского вида
нет без косы, голова круглая, волосы в разные стороны торчат — точь-в-точь
как кочка на болоте. Но волосы я могу отрастить и дома, зачем мне из-за
этого здесь лежать?»
Пиапон хотел высказать эту мысль, но доктора уже не было в палате. Так
Пиапон остался в больнице. Через несколько дней, когда спала температура,
ему разрешили опять вставать, делать недолгие прогулки по палате, по
коридору. Тут он и познакомился со многими больными. Известно,
выздоравливающие больные — самый разговорчивый народ.
После выздоровления Кузьмы на его место положили худого, тоже бородатого
человека, у которого болела правая нога. Илюша объяснил Пиапону, что у
нового соседа опасная для жизни болезнь ноги, если сейчас же не отрежут
ногу, то человек умрет.
— Как будут резать кость? — поинтересовался Пиапон.
— Пилой распилят, — ответил Илюша.
— Обыкновенной пилой?
— Да. Только она чистая, и только для человеческой кости.
Через несколько дней Пиапон своими глазами увидел, что нога соседа была
отрезана выше колена. «Пожалуй, Илюша прав, кость топором не перерубишь, она
трещину даст, — подумал Пиапон. — Но как можно живого человека ногу
распилить?»
Бородач с ногой-обрубышем еще не начал вставать с кровати, когда рядом с
ним положили нового тяжелобольного. Илюша-всезнайка сообщил Пиапону, что у
больного неладно то ли с желудком, то ли с кишечником, одним словом, ему
будут вскрывать живот и вырезать болезнь, Илюша был хороший малый,
неунывающий весельчак, честный и правдивый. Пиапон подружился с ним и потому
ему верил.
— Сделали операцию, — сообщил на второй день Илюша.
Больной тяжко стонал, метался в бреду, и Пиапон мысленно прощался с ним.
«Если человек так и так умирает, зачем ему резать живот? — думал он. —
Может, они хотели, чтобы он скорее умер? Это тоже не по-человечески».
Но, к его удивлению, больной к вечеру проснулся, перестал стонать, на
следующее утро разговаривал с соседями, ел, пил со всеми вместе, а через
несколько дней встал с кровати и неуверенно прошел по палате. Пиапон не
верил глазам, ему казалось, что честный и правдивый Илюша на этот раз
соврал. Прошло еще несколько дней, Пиапон познакомился с «распоротым
животом», как он назвал незнакомца, и тот начал рассказывать, как все
выздоравливающие, историю своей болезни, показал большой красный шов. Пиапон
был потрясен. «Ох и русские! Какие у них головы!» — восхищался он врачами.
Он давно поверил силе русских докторов, которые намного лучше шаманов
вылечивают всякие болезни, сам видел, как лечил больных его друг доктор
Харапай, но он никогда не думал, что эти же русские доктора вылечивают
больных при помощи ножа, пилы, отсекая этими предметами болезни от здорового
тела.
«Да, для этого надо быть настоящим мужчиной», — думал Пиапон, не
подозревая о том, что эти же операции проводят нежные женские руки.
«Распоротого живота» звали Гаврилой. Он тоже стал другом Пиапона.
— В городе чума! — принес известие Илюша-всезнайка и объяснил Пиапону,
что эта болезнь косит людей как траву. И Пиапон вспомнил рассказы стариков о
гибели стойбищ от страшных болезней, вспомнил корявое лицо Поты, его рассказ
о гибели стойбища Полокан на горной реке Харпи.
В городе объявили карантин, для борьбы с чумой вызвали опытных врачей и
фельдшеров из соседних губерний.
Однажды, прогуливаясь по коридору, Пиапон неожиданно столкнулся с
доктором Харапаем. Они обнялись.
— А ты почему здесь? — обрадовался встрече Пиапон.
— Я приехал помогать людям, в городе чума.
— Ты всем помогаешь, Харапай. Где только людям плохо, ты туда бежишь.
— Такая у меня работа. А как ты сюда попал, Пиапон?
— Ты сам помогать людям приехал, а меня добрые люди привезли. Долго
рассказывать, давай сядем.
Харапай вытащил из нагрудного кармашка массивные серебряные часы,
взглянул на них и заторопился.
— Некогда мне, Пиапон, сейчас. Не обижайся. Как только освобожусь
немного — приду.
Василий Ерофеевич пожал руку Пиапона и быстро зашагал по коридору.
«Не мог усидеть дома, услышал — люди умирают и приехал, — думал
Пиапон, глядя вслед доктору. — Что за человек, что за люди эти русские!
Настоящие друзья!»
Почти месяц находился Пиапон в больнице и за это время ни разу не
перекинулся с кем-нибудь нанайскими словами. Так соскучился по своему языку,
что удалялся в укромное место и тихо начинал говорить по-нанайски. Вот
приехал Харапай, поговорил с ним совсем немного по-нанайски, и Пиапон будто
проехал по тихим речкам на берестяной оморочке, будто вдохнул аромат тайги,
послушал пение таежных птиц. Никогда Пиапон раньше не знал, что его родной
язык так крепко связан с его родными реками, протоками, тайгой, ключами и
пением птиц, запахами цветов и трав, просто он никогда не задумывался над
этим. Оказывается, чтобы полюбить еще крепче, чем ты любил, место своего
рождения, надо немного, совсем немного побыть вдалеке!
И Пиапон вдруг стал по ночам видеть сны, где стрелял в зверей, гонялся
за соболями, ловил крупных осетров и громадных, величиной с лодку, калуг. И
случилось что-то непонятное, Пиапон перестал чувствовать боль в затылке,
будто совсем не было никакой раны, в ногах появилась сила, и они стали
пружинисты и легки. Пиапону казалось, что он, пожалуй, пешком прошел бы всю
тайгу, на оморочке поднялся бы по горной бушующей речушке.
— Здоровый я, домой пускай, — напоминал Пиапон доктору при каждой
встрече.
— Коса еще не отросла, — смеялся в ответ доктор.
На третий день пришел Харапай. Он был бледен, глаза впали, нос
заострился, лицо стало землисто-серым. Он поздоровался с Пиапоном, передал
ему какие-то свертки, пачку табаку.
— Ненадолго освободился, — сказал он, присаживаясь на скамью.
— Ты похудел, Харапай, какой-то не такой. Не заболел? — с тревогой
спросил Пиапон.
— Нет, доктору нельзя болеть, — засмеялся Василий Ерофеевич. — Я
просто ночь не спал. — Тут он показал на бумажные свертки. — Я тебе
кое-что принес, ешь и табак кури. Ну, как тебе здесь нравится?
— Хорошо, Харапай, очень хорошо. Видишь, чистую одежду ношу, на белых
материях сплю, руками, ногами не шевелю, а кушать всегда есть. Я думаю,
наверно, так богатые люди живут. Харапай, хорошо мне здесь, чисто здесь,
нравятся эти яркие, как солнце, пузыри, которые загораются вечером, еда
вкусная, но я больше не могу здесь оставаться. Спокойная жизнь всегда тянет
к болезням, вот что я тебе скажу. Ты и своим больным так говори: «Чем больше
будешь двигаться, тем быстрее болезнь уйдет от тебя».
Потом он рассказал о своей поездке в Сан-Син, о нападении хунхузов и как
он, с помощью эндури, оборвал косу и уполз в густую траву.
— Я обещал зарезать черную свинью, принести в жертву эндури, и коса моя
оторвалась, будто ее кто ножом отрезал, — рассказывал Пиапон. — Вернусь
домой, куплю свинью л принесу в жертву.
Василий Ерофеевич молча выслушал Пиапона, не перебивая его, не
переспрашивая.
— Ты, Пиапон, сильный человек, ты без эндури сам оборвал свою косу.
— Нет, Харапай, это эндури помог. Разве человек сможет оборвать косу?
Даже десять человек с одной стороны, десять человек с другой стороны будут
тянуть и то не оборвут. Ты просто не веришь эндури.
— Да, не верю.
— Потому, что ты русский, ты веришь только своему Христо.
— И Христу не верю, потому что нет никаких богов, ни эндури, ни Христа.
— Ты же русский, Харапай, — пробормотал изумленный Пиапон. — Почему
не веришь в бога? Все русские верят.
— Нет, Пиапон, не все русские верят в бога, много, очень много русских
людей, которые совсем не верят в бога. Я тоже не верю, потому что я знаю,
что бога нет ни на земле, ни на небе. Ты там от хунхузов спасся сам, а здесь
тебя от смерти спасли доктора. Верно?
— Да, Харапай, верно. Они даже вспарывают у людей животы и ножом
отсекают болезни.
— Вот видишь, ты уже во всем разбираешься, а говоришь, что боги
помогают. Какие тут боги, тут человеческий ум помогает.
Пиапон задумался. Василий Ерофеевич тоже замолчал, решил дать другу
обмозговать услышанное.
— Харапай, значит, ты и бачику (Бачика — поп.) не веришь? — после
длительного молчания спросил Пиапон.
— Они такие же обманщики, как и ваши шаманы.
Пиапон отчасти был согласен с Василием Ерофеевичем, он сам недолюбливал
и не очень верил молодым шаманам, признавал только великих шаманов. А что
касается попов, он, как и все нанай, не понимал их учения и потому не корил
им. Но признаться в этом он все же не осмелился бы.
Василий Ерофеевич опять вытащил свои массивные часы и взглянул на них.
— Харапай, что ты в них видишь? — спросил Пиапон, надеясь, что его
вопрос уведет неприятный разговор на другую стезю. Он не ошибся. Василий
Ерофеевич начал рассказывать о часах. Пиапон и раньше видел карманные часы,
но теперь впервые держал их в руке.
— Красивая вещь, — сказал он.
— Нужная вещь, — добавил Василий Ерофеевич. — Время мое иссякло, я
должен идти. Загляну в другой раз.
— Ты мне радость приносишь, амурский ветерок, запах тайги приносишь.
— В следующий раз Малмыжский утес принесу, — засмеялся Василий
Ерофеевич.
В конце сентября рана Пиапона совсем затянулась, и его отпустили домой.
Пароход увозил Пиапона в родное стойбище, впервые в жизни он ехал по
родному Амуру, не работая веслами, сидя на скамейке, сложа руки на коленях.
Он осмотрел весь пароход, наблюдал за работой паровой машины и удивлялся, с
какой легкостью двигались тяжелые многопудовые детали двигателя.
«Вот бы такую лодку для рыбалки заиметь, — размечтался он под гул
машины. — Объединиться нескольким стойбищам вместе, сшить несколько
неводов, и можно ездить куда душа пожелает. Эта лодка, пожалуй, и двадцать
рыбацких лодок может потянуть. Есть же такие умные люди, что придумали такую
лодку».
Большую часть дороги Пиапон простоял на палубе. Он любовался Амуром,
островами, синими сопками и нарядной осенней тайгой. Чем ниже спускался
пароход по Амуру, тем бледней и бледней становился цвет тайги: густые
холодные туманы, буйные ветры срывали осенний наряд тайги.
В полдень пароход приближался к Малмыжу. Вдруг Пиапона охватило
беспокойство, тревожно забилось сердце.
На берег высыпали малмыжцы, дети, взрослые, даже седобородые степенные
деды: не часто пароходы посещают Малмыж. С парохода спустили шлюпку, и
Пиапон с двумя незнакомцами занял в ней место. Он жадно разглядывал
малмыжцев, разыскивал худую жилистую фигуру Митрофана.
— Гляньте, гляньте, няргинский охотник вернулся! — воскликнул кто-то
из встречавших.
— Живой возвернулся, а думали, сгинул.
— Митрофан убивается по нему.
— Пиапон! Живой? — Это Саня Салов, молодой малмыжский торговец. —
Тебя оплакивают, а ты живой, даже улыбаешься.
Пиапона окружили.
— Живой, живой, — улыбается Пиапон, пожимая руки знакомых.
— Дядя Пиапон! Дядя Пиапон! Пошли, вот тятя обрадуется, — тянул
Пиапона за рукав тринадцатилетний Иваша, сын Митрофана.
По дороге Иваша пытался что-то рассказать про Калпе и отца, но Пиапон
ничего не разобрал, а переспрашивать не стал.
Дом Митрофана был, как и все соседние, огорожен плетнем. На огороде
чернела земля, хозяин выкопал картошку. Розовая толстая свинья, с
облепленными комьями грязи боками, усердно рыла пахучую землю и, разыскав
картофелину, с хрустом грызла ее, приподняв пятачок к небу.
Когда Пиапон вошел в избу, у него к горлу подкатил твердый комочек, и он
не мог вымолвить ни слова. Первым спохватился Митрофан.
— Пиапон, может с тобой что неладно?
— Медведь ты, истинный медведь! — набросилась на мужа Надя. — Может,
какая рана на нем, а ты тискаешь.
— Нет, раны нет, все хорошо, — бормотал Пиапон.
— Раны нет, тогда чего не показывался? — теперь Надя наседала на
Пиапона.
— Ты собери на стол, видишь, голова у него перевязана, выходит,
ранен, — говорил Митрофан. — Собери на стол, он же голоден. Собери,
собери, после все узнаем.
Надежда засуетилась, забегала, принесла квашеной капусты, соленых
огурцов, копченой кеты, затопила печь, и вскоре на сковородке зашкворчало.
— Оплакивают тебя, поминки будут делать сегодня или завтра, — сообщил
Митрофан. — Эх, мать честная, грамотешка была бы у тебя, разве ты не
сообщил, что жив, мол, здоров, нахожусь там-то и там-то.
Пиапон слушал Митрофана и улыбался.
— И что тебя потащило в эту Маньчжурию? Говорил тебе, нечего там
делать, хочешь повидать свет, езжай в Николаевск. Говорил? Говорил.
— Надо было, Митропан. Правильно я сделал, что съездил. Я сразу увидел,
как живут русские, маньчжуры, китайцы, корейцы, солоны. Разве где в другом
месте я увидел бы все это? А самое главное, я увидел своих нанай, которые
возле города и в самом городе Хабаровске живут. Нет, Митропан, я не зря
съездил, я за это лето столько узнал, сколько мои деды за всю жизнь не
знали. Я много думал все это время, какой я все же глупый был. Закрою глаза
и думаю: вот родился Пиапон в глухой тайге, живет, растет, сил набирается,
зверей бьет, рыб ловит. Кругом высокие кедры растут, виноград и кишмиш
сплели над Пиапоном шатер, темно. Однажды пришел Митропан с отцом, говорит,
ты, Пиапон, все время здесь живешь, тесновато тут, пошли, тут рядом сопочка
есть, поднимемся на нее, посмотрим вокруг. Собрался Пиапон и пошел на ту
высокую сопку, дошел, взобрался на вершину, взглянул кругом и столько
увидел, сколько никогда не видел.
— Ты как-то очень ловко, как по писаному, начал говорить, — сказал
Митрофан.
— Много думал, потому легко говорится.
Надежда решительно поднялась с табуретки, на которой сидела возле печи,
сняла с огня сковородку с яичницей и поставила на стол.
— Пиапон, обижайся ты, не обижайся, а я тебе так скажу, — сердито
проговорила она. — Ты вернулся издалека, вернулся, может, с того света. А
ты как зашел, так и начал опять по-своему тараторить. Ты же знаешь, я не
понимаю твоего языка, я женщина любопытная, тоже хочу послушать твой
рассказ...
— Наденька, Надя, — перебил ее, усмехаясь, Митрофан, — он еще ничего
не рассказывал, он только...
— Тебе всегда так: «только, только», — передразнила мужа Надежда. — О
чем тогда так долго вы говорите?
Пиапон засмеялся и тоже подтвердил, что рассказ о поездке в Сан-Син у
него впереди, что это была только присказка. А Митрофан вытащил из-под полы
бутылку водки.
— Какая же встреча без водки? А какая такая выпивка без разговору? —
говорил он, раскупоривая бутылку.
— Митропан, я маленько только выпью, — сказал Пиапон.
— Нельзя, что ли?
— Домой надо, ты отвези меня, там выпьем.
— Правильно, Пиапон, жинка твоя все глаза выплакала. Митрофан ездил к
ней, — сообщила Надежда. — Шибко убивается твоя жинка.
— Мы маленько подкрепимся, я соберу ребят и отвезу тебя. А теперь давай
за твое возвращение, брат мой!
Выпили по чарочке, и Митрофан послал за отцом.
Илья Митрофанович не заставил себя долго ждать, он медведем ворвался в
дом, обнял Пиапона, похлопал по плечу, будто проверяя, выдержат плечи
Пиапона тяжесть его ладоней.
— Жив, жив, окаянный! — гремел своим басом Илья Митрофанович. — Хоть
умудрился бы весточку подать, язви тебе в бок. А отец твой убивается,
похудел, меньше ростом стал. На рыбалке я его встретил, всплакнул Баоса.
Я-то думал, скорее камень слезами зальется, ан нет, Баоса тоже плачет. Такое
тут. Да.
Опять сели за стол, и Пиапон начал рассказ о своей поездке в далекий
маньчжурский город Сан-Син, о нападении хунхузов, о лечении в Хабаровске.
Долго рассказывал Пиапон, потом спохватился, заторопился. Илья Митрофанович
с удовольствием послушал бы о житье-бытье маньчжуров и китайцев, но не стал
расспрашивать, разгладил бороду и встал из-за стола.
Митрофан быстро нашел себе напарника, и вскоре легкая лодка с двумя
гребцами и кормчим — Пиапоном выехала из Малмыжа. По дороге в Нярги
Митрофан рассказал о поездке Калпе в Хабаровск, о том, как тот разыскивал
Пиапона, но умолчал и не сообщил о своих запросах в губернский город.
Митрофан окончил только сельскую церковноприходскую школу и, не надеясь
на свою грамотность, обратился к одному ссыльному, которого недавно поселили
в Малмыже. Звали ссыльного Курков Иван Гаврилович.
— Твою просьбу, Митрофан Ильич, мне несложно выполнить, — ответил
Курков, выслушав Митрофана. — Но это бесполезно. Прежде всего мы напишем
полицмейстеру уезда, пропал, мол, гольд по фамилии Заксор, по имени Пиапон,
житель стойбища Нярги, Верхне-Тамбовской волости. Посмотрит полицмейстер на
бумагу, отдаст другому, чином поменьше, тот еще другому. Этот третий
подошьет бумагу куда следует, поворчит: «Велика беда, исчез один гольд», и
на этом все кончится. Не веришь?
Митрофан не верил. Ведь человек потерялся, не собака, должны они его
разыскать. Большого труда не стоит запросить военный отряд, который
преследует хунхузов.
«Обижен на полицию, тебя за что-то сослали в наше дальнее село, потому и
сердишься на них», — подумал Митрофан.
Тогда Митрофан еще не был близко знаком с Иваном Гавриловичем, да и Иван
Гаврилович не очень откровенничал с малмыжцами. Только позднее Митрофан
сдружился с Курковым, ловил вместе с ним кету, охотился на гусей. Иван
Гаврилович оказался отчаянным охотником, метким стрелком.
— Проверим, проворим, — бормотал Иван Гаврилович, приготавливая
бумагу, чернила. Он написал письмо в губернскую полицию, в инородческую
управу канцелярии губернатора и при Митрофане сделал телеграфный запрос. До
сих пор Митрофан не получил ответа на эти письма и потому не рассказал об
этом Пиапону.
Малмыж остался далеко позади. Лодка подошла к черным скалам. Вода в
бешеном потоке бурлила у этих скал, пенилась, крутилась в водовороте.
Митрофан с напарником приналегли на весла, и лодка медленно обогнула утес. В
это время солнце скрылось за синими горами.
— Митропан, как ты думаешь, кто создал небо, землю, эти высокие скалы,
Амур и все, все, что есть на земле? — спросил Пиапон, когда лодка вышла на
более тихую воду.
Митрофан усмехнулся и спросил:
— Волнуешься, да?
Пиапон на самом деле волновался и хотел чем-то отвлечься.
— Отвечай, — попросил он.
— Бог создал, — ответил Митрофан и подумал: «Другой стал человек. Ить,
о чем спрашивает».
«Митропан тоже верит в бога, — подумал Пиапон, — один Харапай не
верит. Когда его слушаешь, ему веришь, один останешься — в эндури веришь».
— Митропан, мне надо черную чушку. Где можно купить? — спросил он.
— В Малмыже купишь.
Пиапон направил лодку наискосок течению, и вскоре она была на ловом
берегу протоки, а еще через некоторое время уткнулась носом в мягкий песок
напротив дома Пиапона. Митрофан с напарником вытянули лодку. Пиапон поднялся
на ноги и почувствовал слабость во всем теле. Опираясь на весло, он вышел на
песок.
— Приехали, — вполголоса проговорил Митрофан.
Родное стойбище Нярги! Пиапон сделал шаг, другой и остановился: за его
домом на берегу озерка полыхал костер, зарево поднялось к небу, освещая
половину стойбища. Шаман гулко бил в бубен, но песни его не было слышно.
Потом донесся пронзительный женский крик, и одновременно завопили сразу
несколько женских голосов.
Пиапон бросил весло и медленно пошел к дому, обогнул угол и увидел у
летнего очага несколько молодых женщин, среди них была и Идари. Все они
смотрели на берег озерка, где горел большой жертвенный костер, а вокруг него
сидели и стояли няргинцы, подбрасывали в огонь вещи Пиапона. Пахло паленой
шерстью, горелой материей.
«Вот так, наверно, покойники наблюдают, как им делают поминки», —
подумал Пиапон. Он еще ближе подошел к очагу, и в это время обернулась
Идари. Сперва она мельком взглянула на Пиапона, но вдруг выпрямилась, глаза
ее расширились от ужаса. Она только раскрывала и закрывала рот, но закричать
не могла, как бывает во сне. Пиапон, не спуская с нее глаз, сделал шаг, и
тут Идари взмахнула руками и закричала:
— А-а-г-а!
Она медленно стала падать на очаг. Пиапон подбежал к ней и поднял на
руки.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Быстро промелькнули веселые дни, когда все стойбище Нярги гуляло и
радовалось возвращению Пиапона. Эти дни совпали с осенним праздником,
окончанием кетовой путины. Пиапон мог бы повременить с жертвоприношением
эндури, но он был растроган вниманием и любовью няргинцев и решил в эти же
праздничные дни принести обещанную черную свинью в жертву всемогущему
эндури.
Празднества продолжались несколько дней. За это время Пиапон получил
столько подарков, сколько все жители большого дома не получали за всю свою
жизнь. Охотники приносили куску дабы на зимние халаты, другие материи для
легких нижних халатов, женщины несли вышитые унты, теплые рукавицы, меховые
и ватные чулки, обувь из рыбьей кожи, наколенники. Пиапон принимал подарки и
смущался, отказываться он не смел, охотники, чтобы самим скрыть свое
смущение, совали подарки ему в руки и говорили:
— Голый собираешься ходить?! Ах ты... Вещей никаких не осталось...
Бери, когда дают!
Все вещи Пиапона, по обычаю, Дярикта сожгла на поминках, и муж ее
остался, в чем приехал из Хабаровска.
Многие женщины помогали Дярикте шить Пиапону новые халаты. Идари,
приехавшая с мужем на поминки, все дни просиживала за шитьем.
Пострадало у Пиапона и охотничье снаряжение, были сожжены
луки-самострелы, разломаны нарты и ружье.
Баоса, обрадованный возвращением оплакиваемого сына, заявил, что он
больше уже не охотник на крупных зверей и ему не понадобится пулевое ружье,
и подарил Пиапону свою винтовку с боеприпасами. Полокто подарил новые,
сделанные для себя, нарты; Дяпа, Калпе, Улуска отдали по нескольку
луков-самострелов. Так Пиапон в один день нашел все то, что было уничтожено
и сожжено на огне во время поминок.
Прошли веселые дни. Разъехались родственники, приезжавшие на поминки,
выехали из стойбища охотники, которые по воде решили добраться к месту
соболевки. Они спешили, потому что была уже середина месяца петли (Месяц
октябрь.), удобное время охоты на соболя.
Баоса не спешил, он нынче зимой решил не идти на охоту, потому что
соболя в тайге стало совсем мало, перебили его. А в некогда лучших
охотничьих участках Сихотэ-Алиня в южной его части, в верховьях Кэвура
(Кэвур — Тунгуска.), безобразничали хунхузы, они охотились за
соболятниками. В этих угодьях в прошлые годы разыскали исчезнувших
соболятников с пулевыми ранениями,
— Я недалеко белковать буду, — сообщил Баоса охотникам свое
решение. — Как только белка ляжет в спячку, я тоже лягу, — смеялся он.
— Так уж и ляжешь, — сомневались его собеседники.
— Домой вернусь, из дома стану охотиться за колонками, лисицами, такова
наша стариковская доля. Потом хочу научить внука осетров и калуг ловить, при
удаче тоже можно прокормиться. Вот мой помощник, должен стать удачливым
калужатником, — говорил Баоса, любовно глядя на Богдана.
Весь остаток месяца петли Баоса с внуком провели на рыбалке и на охоте.
В тайге они выслеживали барсуков; если попадались их норы с хитрыми
переплетениями ходов, вскрывали их и перелавливали всех барсуков.
Баоса охотился не только на барсуков, барсучье сало высоко ценилось
нанай, но ценилось и сало енота, а мясо его, хоть и имело запах, было
довольно вкусно, шкуру принимали торговцы. Чем не зверь для охоты?
Ночью Баоса тихо плыл по берегу заливчиков и прислушивался к звукам.
Чоп. Чоп. Чоп. Чьи-то лапы ступают по воде. Чап. Чап. Чап. Теперь идут по
грязи. Остановился. Прислушался. Баоса с Богданом тоже притихли, затаили
дыхание.
Лапки побежали дальше, и оморочка охотников заскользила вслед за
невидимым зверьком, он совсем рядом ловит рыбу в воде. Баоса прицеливается,
прислушивается к всплеску воды и стреляет. Есть! Зверек засучил ногой, бил
по воде.
— Ухом, ухом целься, потом умом, — поучал Баоса внука.
Богдан оказался способным учеником, он научился метко бросать острогу,
стрелять в енота беззвездной ночью.
После ночной охоты на енота они затапливали в палатке жестяную печку,
заваривали чай и обогревались им. В это время Баоса любил поговорить, часто
рассказывал о чудовищах, которых сам не видел.
— На кладбище ты пошел бы один? Нет? Страшно ночью, иные и днем не
пойдут. А мужчине нельзя бояться, если ты с детства испугаешься чего-нибудь,
то всю жизнь будешь пугливым. Это уже плохой охотник.
Однажды он остановился недалеко от старых могил и сообщил Богдану, что
здесь лежат дальние родственники Баосы. Наслушавшись рассказов деда, Богдан
решил испытать себя и тайком от Баосы ночью сходил к могилам. Когда он
вернулся, Баоса сделал вид, что не замечает, как его бьет нервный озноб.
Только днем он как бы мимоходом сказал, что ночью, куда бы ни шел человек,
лучше всего прихватить с собой ружье, в случае чего выстрелишь, и на душе
становится легче. Мальчик понял, что дед знает о его посещении могил.
Однажды Богдан вспомнил о Токто.
— Разве тебе, нэку, со мной скучно?
Баоса пытался проговорить эти слова твердо и непринужденно, но против
воли голос выдал его, он дребезжал, будто он, Баоса, говорил в берестяной
разбитый манок, которым осенью вызывают лосей.
— Нет, — ответил Богдан.
— Я же твой дед, я тебе все делаю, а ты скучаешь по Токто, который тебе
совсем чужой человек.
— Он не чужой, он любит меня, и я его люблю.
Баоса опять закурил и после долгого молчания ответил:
— Твое дело, нэку, кого хочешь, того и любишь, кого не хочешь, того не
любишь.
— Дедушка, я тебя тоже люблю, ты хороший и не такой, как о тебе говорил
папа.
— Он на меня сердит, твой папа, он и виноват передо мной, сильно меня
обидел. За такую обиду в старые времена только кровью расплачивались. Я
простил его, и он должен был за это отдать мне тебя, ты должен был стать
человеком нашего рода, рода Заксоров. Твой отец не выполнил этого...
— А как папа обидел тебя? Как расплачиваются кровью?
— Ты еще мал, подрастешь еще немного — расскажу. А теперь прямо скажи,
как настоящий охотник. Ты не уйдешь к отцу, не откажешься быть человеком
рода Заксор?
Мальчик растерянно опустил голову и стал похож на таежную птичку в
ненастье.
«Что это со мной? — с поздней жалостью подумал Баоса. — Зачем пугаю
мальчонку?»
— Не говори сейчас, подрастешь — ответишь, — как можно мягче
проговорил Баоса.
Больше Баоса не поминал об этом разговоре, и ему казалось, что Богдан
забыл о нем. Но перед самым выездом в тайгу на белкование, по настойчивой
просьбе Ганги, он отпустил Богдана переночевать ночь в его фанзе. Наутро,
когда Баоса, накинув на себя теплый халат, сидел на еще не прибранной
постели, в фанзу зашел Ганга. Он вприпрыжку подбежал к Баосе, сел на край
нар и зло спросил:
— Тебе мало всех этих внуков? Тебе мало того, что у тебя живет дочь
моего сына Гудюкэн?
Баоса даже не взглянул на раннего гостя; в последнее время не проходило
и дня, чтобы они не ругались из-за Богдана.
— Ты... — Ганга задохнулся от гнева и от сознания своего бессилия.
— Жадный, — подсказал, не разжимая зубов, Баоса.
— Да, да! Ты жадный...
— Я отобрал у тебя сыновей.
— Да! Да! Ты отобрал у меня сыновей! Оставил меня одного, как старую
крысу в заброшенном амбаре. У тебя нет сердца. Но Богдан не останется у
тебя, я его отвезу к отцу. Ишь чего задумал, старый волк, нашего рода
человека сделать Заксором. Тебе мало внуков? Эх, эндури, почему ты не
нашлешь на этого человека смертельную болезнь...
Не закончил Ганга свое проклятие, Баоса пнул его в бок, и он мешком
свалился с нар на твердый глиняный пол. Пристыженный, в великом гневе, Ганга
молча покинул большой дом. А немного погодя вернулся Богдан и заявил, что с
этого дня он будет жить у другого деда, на охоту тоже пойдет с ним. Баоса
подозвал его к себе, посадил рядом.
— Ты обидел моего деда, — строго, по-взрослому, проговорил Богдан. —
Его обидели папа и отец Гудюкэн, они покинули его. Ты хочешь, чтобы я стал
человеком рода Заксор...
— Я только сказал, думай, — спокойно ответил Баоса, хотя был немало
встревожен заявлением внука, он знал, что ему сейчас надо быть, как никогда,
собранным, вдумчивым, малейшая ошибка могла привести к непоправимой беде.
«Принесло мне в соседи этого хорька, — думал он с горечью. — Жил бы
хоть в другом стойбище, не пришлось бы тогда делить внука. Погорячился зря,
можно было без пинка выпроводить Гангу».
— Я думал, — ответил Богдан.
— Но ты не знаешь еще вины своего отца.
— Не знаю, он виноват, с него спрашивай.
— Не сердись, нэку, и не разговаривай со мной так.
— Не сердись, не сердись. Зачем вы делите меня? Зачем ругаетесь из-за
меня? — у Богдана на глазах выступили слезы.
Баоса лаской кое-как успокоил любимца, признался, что погорячился в
разговоре с Гангой, и попросил позвать его на завтрак. Ганга, как и ожидал
Баоса, отказался прийти, и ему самому пришлось идти мириться, прихватив
бутылку водки.
Рассерженный Ганга ни за что не хотел мириться, не принимал поднесенную
чарку водки и с ненавистью сверлил маленькими глазами стоявшего перед ним
Баосу. Гордый Баоса, никогда не моливший прощения, не пригибавший ни перед
кем колени, теперь ползал перед Гангой на коленях и вымаливал прощение.
«Терпи, Баоса, ради внука терпи», — успокаивал он ущемленную гордость.
Водка сделала свое дело, любивший это зелье Ганга вскоре сдался, но за
нанесенную обиду по закону нанай потребовал железный предмет. Обрадованный
примирением, Баоса отдал ему капкан.
Два дня мирились старики, договорились, что внук Богдан останется у
Баосы, что Баоса будет отпускать его к Ганге, когда тот только захочет.
После перемирия старики разъехались на охоту. Баоса с Богданом —
белковать, Ганга с напарниками — соболевать. Зима выдалась малоснежная,
удобная для охоты на любого зверя. Но белок оказалось мало из-за неурожая
кедровых орехов, и через месяц Баоса вернулся в стойбище, чтобы приняться за
лов калуги. Сразу по возвращении домой Баоса с внуком отвез пушнину
малмыжскому молодому торговцу Саньке Салову.
— Молодой совсем, на моих глазах вырос, — хвалил Баоса Саньку, —
читать, писать, считать научился, теперь, видишь, после смерти отца его
заменил. Мозговитый. Вот бы тебе, Богдан, научиться считать, как Саня, тогда
мы ездили бы вместе сдавать пушнину и ни один торговец не смог бы нас
обмануть.
— Дака, разве я смогу тебя обмануть, — взмолился Саня, — у меня
скорее руки отсохнут! Это китайцы только обманывают, а мы не обманываем.
— Кто тебя знает? Ты сам цены устанавливаешь, сам только умеешь
считать. Хоть и умеешь считать, можешь по молодости ошибиться. Вот и
получится обман.
Саня уверял старика, что он в торговых делах учился у покойного отца и
превзошел его.
— Это я знаю, хотя не умею считать, — усмехнулся Баоса. — Отец твой
по-нашему не умел говорить, а ты меня уважительно зовешь — дака. Это уже
приятно мне, старику. Потом я думаю так, коли ты превзошел отца в торговле,
выходит, ты хитрее его, умнее, — он обернулся к внуку. — Видишь, он какой,
мы с тобой не понимаем по-русски, а он по-нашему говорит. Ты тоже учись их
языку.
Молодой торговец привлекал охотников своей вежливостью, обходительностью
и самое главное — знанием нанайского языка. А самых уважаемых стариков
Санька никогда не отпускал без подарков внукам, не угостив хлебом-солью, не
напоив чайком. Баосу с внукам он тоже пригласил к себе.
Богдан впервые попал в русскую избу и с изумлением рассматривал высокий
стол, стулья, резную деревянную кровать, икону в углу. Но больше всего его
поразили висевшие на стене фотографические карточки семьи Салова. На
карточке он нашел и юного Саньку. Когда Саня сел за стол, на котором уже
дымились тарелки с картошкой и соленой кетой, стояли огурчики с помидорами и
бутылка водки, Богдан робко спросил, как и кто так искусно изобразил хозяев
дома.
— Э, анда (Анда — друг.), я тебе, хотя и грамотный, толком не смогу
рассказать. Эти карточки сделали нам в городе Хабаровске, куда мы ездили
несколько раз по торговым делам, — охотно начал рассказ Саня. — Нас
посадили перед черным ящиком на тонких ножках, потом хозяин ящика то ли
засунул в ящик голову, то ли просто через него посмотрел на нас — это я
тоже не понял, потому что он вместе с ящиком укрывался черной материей.
Потом он попросил смотреть на ящик, снял с него стекло, взмахнул, опять
надел стекло и сказал: «Готово». Через несколько дней он отдал нам эти
карточки. Точь-в-точь. Там так, если закроешь глаза, получишься с закрытыми
глазами, откроешь рот, получишься с открытым ртом.
— Умные люди вы, русские, — сказал Баоса. — Ты, Саня, тоже умный.
Польщенный похвалой, Саня зарделся, взял бутылку и разлил по стаканам.
После водки Баоса совсем опьянел, собрался к своему другу Илье Митрофановичу
Колычеву, но Саня удержал его, сообщив, что Колычевы повезли почтовый груз
вниз по Амуру.
Богдан погрузил продовольствие на нарты, закрепил, посадил засыпавшего
деда рядом с собой и погнал упряжку в свое стойбище. Всю дорогу у него не
выходил из головы черный ящик, который сам делает человеческое изображение.
Баоса очнулся возле стойбища, огляделся еще пьяными глазами, узнал родной
остров.
— Совсем опьянел, — сказал он. — Правда, хороший умный народ эти
русские, а? — И услышал утвердительный ответ внука.
В последующие дни Баоса готовил снасти на калуг и осетров. У него было
около двух десятков острых хватких крючков, надо было их подточить, заменить
поводки, поплавки. Но Баоса нынче решил выставить несколько снастей и потому
обратился к работнику Холгитона Годо, он мог бы попросить сделать осетровые
и калужьи крючки и нанайского кузнеца из стойбища Мэнгэн, но ему не хотелось
терять драгоценное время на поездку.
Годо повертел в руках крючок и улыбнулся.
— Это сделать можно.
Годо вытащил из огня кусок огненного металла и ожесточенно начал стучать
по нему молотом.
Крючья Годо понравились взыскательному Баосе, он их подточил поострее,
закрепил самыми крепкими поводками, заготовил красивые поплавки.
Все приготовления были закончены. Нетерпеливый Богдан несколько раз уже
начинал расспрашивать, как ставятся снасти, наживляют ли эти большие крючья
и чем наживляют, но Баоса отделывался от внука шутками.
— Терпи, нэку, только терпеливые люди становятся великими охотниками и
рыболовами, — отвечал он. — В тайге самый умный — медведь, на Амуре —
калуга с осетром.
Наконец он в полдень объявил, что сегодня вечером они пойдут на рыбную
ловлю, и потребовал, чтобы Богдан об этом не проболтался никому в стойбище.
Богдан не находил себе места, чтобы не сказать лишнего своему другу Хорхою,
он встал на лыжи и ушел проверять петли, выставленные на зайцев. Вернулся,
когда большое красное солнце садилось за голыми тальниками. Баоса лежал на
своем месте и дремал. Богдан обиделся, он решил, что дед разыграл его, что
они никуда сегодня не пойдут. Куда же идти, когда за окном сгущались
сумерки, наступала скорая зимняя ночь. Мальчик разделся и лег рядом с дедом.
Вскоре Баоса поднялся, разбудил Богдана и потребовал есть. После
плотного ужина он сам: наложил пшенную кашу в котелок, сунул туда же
несколько кусков юколы и начал одеваться. Женщины не спрашивали, куда
собрался старик, глядя на ночь; собрался, значит, надо ему идти.
Вышли на морозный ночной воздух. Баоса остановился возле дверей,
прислушался, огляделся вокруг. Богдан тоже оглянулся вокруг, но ничего не
увидел. Старик все еще прислушивался, а мальчику казалось, что дед его даже
принюхивается. Баоса передал котелок с кашей и юколой внуку, подошел к
сушильне, взял пешню и сачок и, не говоря ни слова, пошел на берег. Мальчик
побежал вслед за ним, его захватила вся эта таинственность подготовки к
ловле калуг и осетров.
— Дедушка, почему крючки не взяли? — спросил он шепотом, догнав Баосу.
— Сегодня они не нужны. Ты никого не видел? — тоже шепотом спросил
старик.
— Никого.
Баоса остался доволен и быстро зашагал по дороге, вверх по реке. Богдан
еле поспевал за ним, спотыкался о ледяные глыбы, ноги разъезжались по
обнаженному льду, и он боялся упасть и рассыпать содержимое котелка. Мальчик
видел впереди спину деда, белый снег вокруг, а дальше такая темень, будто
кто завесил весь мир черным материалом. Наконец Баоса остановился, опять
прислушался, принюхался, отошел в сторону от дороги и начал пешней прорубать
лед.
«Как он видит? — удивился Богдан. — В такую темень ногу проткнешь
пешней».
Но Баоса уверенно продолжал долбить лед. Когда Богдан начал убирать
сачком ледяное крошево, то убедился, что прорубь получилась круглая, ровная,
без выступов. Лед был толст, вся железная часть пешни уже исчезала в
проруби, а до воды еще не добрались.
Богдан вспотел, догоняя деда, а теперь на морозе быстро остывал. Чтобы
не замерзнуть, он прыгал, хлопал руками, потом взял у деда пристегнутый за
его пояс топорик и нырнул в густую темноту.
— Ветвистую сруби, — вслед ему крикнул Баоса.
«Ветвистую говорит, а разыщу я, где тальники или нет?» — подумал
мальчик. Он постоял, прислушался. Дед продолжал долбить прорубь, мороз
трещал в тальниках, то там, то тут оружейным выстрелом ломался толстый лед.
Мальчик наугад срубил ветку тальника, на ощупь проверил, много ли ветвей, и
поволок ветку к деду. Прошел немного, остановился, прислушался — с
верховьев реки по дороге ехали люди, скрипел снег под санями, копыта лошади
цокали по льду. Деда не было слышно. Где он, как его найти? Сани
приближались. Богдан шел наугад, надеялся выйти к дороге.
— Дедушка, где ты? — негромко окликнул он.
— Здесь я, — откуда-то спереди справа откликнулся дед.
Мальчик зашагал к голосу и вышел на дорогу. В это время внезапно из
темноты на белый снег выбежала лошадь с санями и остановилась.
— Эй, ты! — спросили по-русски. — Далеко до стойбища Нярги?
Богдан понял только последние слова, догадался, о чем спрашивали, и
признался, что сам не знает, далеко или близко до Нярги.
Баоса, как невидимый дух, появился возле внука и недовольно спросил:
— Что нужно?
— Я хотел спросить, далеко до Нярги?
— Нет, рядом тут.
— А вы не туда идете?
Баоса помедлил с ответом, взял у внука топорик, заткнул за пояс и
сказал:
— Собрались идти.
— Садитесь, вместе поедем, места хватит, — добродушно пригласил тот же
голос.
Баоса сходил за пешней, сачком и котелком с кашей и юколой, сел в сани,
и лошадь потрусила дальше.
— Тут, бари (Бари — друг (найхинский говор).), не скажешь, у кого
большой дом, где могли бы мы вдвоем остановиться? Мой товарищ русский.
«Говорит бари, из Найхина родом, — сразу же разгадал Баоса. —
Новостей, наверно, много везет».
— Можешь у меня остановиться, у меня места хватит на двоих, — ответил
он.
В большом доме не уснули еще, когда вернулись рыболовы с гостями.
Женщины тут же соскочили с нар, захлопотали у неостывшего очага, приветили
приезжих. Теперь только при свете двух жирников Баоса разглядел ночных
гостей, а гости — хозяина большого дома. Русский оказался высоким, худым,
без традиционной бородки клинышком и усов, нанай — полная противоположность
ему, невысокого роста, коренастый, с быстро бегающими живыми глазами.
Женщины накормили, напоили чаем гостей, постелили постель рядом с Баосой
и Богданом. Так вечером Баоса и не узнал, кто такие его ночные гости, куда и
зачем едут. «Носит их куда не следует», — сердито думал он. Только утром
приезжий нанай сообщил, что едут они в стойбище Болонь, русский учитель там
откроет школу и будет учить грамоте нанайских детей, а он на первых порах
помогает русскому как переводчик, потому что учитель не понимает нанайского
языка.
«Это что же такое? Какая учеба получится, когда дети не понимают
русского, а русский не поймет детей, — подумал Баоса и усмехнулся: — Это
одно и то же, что бурундук стал бы учить мышь лазить по деревьям, прыгать с
ветки на ветку».
Звали нанай Ултумбу Оненко, он окончил в Найхине туземную
церковно-приходскую школу, одним из первых нанай научился писать и читать.
Баоса с восторгом смотрел на Ултумбу, он прямо-таки гордился им, как родным
сыном. Да. Это большое дело, сын рыбака-охотника научился читать и писать!
Выходит, у нанай тоже есть способности, они тоже могут овладеть грамотой!
— Пошли в Болонь своих внуков, пусть они учатся, — неожиданно
предложил Ултумбу. Баоса сразу замолчал, прикусил язык.
— Нет, Ултумбу, Богдана не могу отдать в школу, — ответил он после
длительного раздумья. — Не могу. Мне легче сердце из груди вырвать, чем
внука отпустить от себя.
— Он же станет грамотным человеком!..
— Не могу я его отпустить. Не могу.
Гости позавтракали и выехали в Болонь, а Баоса лег на свое место,
закурил неизменную трубку и задумался. Он вспомнил, как двадцать с лишним
лет так же ездили по стойбищам русские и приглашали детей в тот же Болонь
учиться в школе. Баоса не поверил русским, старые мудрые люди говорили, что
русские хотят собрать в одну кучу всех детей нанай, чтобы потом легче их
было увезти к себе и сделать их русскими. Баоса прихватил с собой обоих
сыновей — Полокто и Пиапона — и убежал в тайгу на охоту. Ищите охотника в
тайге!
Позже русский поп начал собирать детей в Малмыж, якобы тоже учиться в
школе. Но Баоса уже имел опыт убегать с детьми от русских учителей и попов,
прихватил он на этот раз Дяпу и убежал в тайгу. Теперь опять открывают школу
в Болони, опять приехал русский учитель, который не понимает нанайского
языка. Чему он научит? Ведь дети не понимают его. Раньше в Болони тоже
учились нанайские дети, но они так и не научились ни писать, ни читать.
Какой толк в такой учебе? Правда, Богдан смышленый мальчик, может и на самом
деле научиться писать и читать. Конечно, грамотный Богдан помогал бы ему
сдавать пушнину торговцам, и те бы не стали при нем обманывать. Но намного
ли обманывают торговцы? Ведь охотники тоже обманывают их, желтого соболя
сажей покрывают и сдают, вырежут у рябчиков мягкие грудки, а вместо них
приморозят белое мясо погибшей после нереста кеты, поймают кабарожку с
маленькой струей, наполнят струю калом этой же кабарожки, сдают калужьи
хрящи торговцу, напихают вместо спинного мозга гальки, чтобы тяжелее стал,
что ни говори, нанай тоже хитрый становится. Правда, хитрых охотников мало,
из десяти человек один найдется такой, но они мстят торговцам за других
девятерых.
— Дедушка, когда мы пойдем на рыбалку? — перебил размышления деда
Богдан.
— Молчи, как вчера молчал. Сегодня пойдем.
— Почему мы вчера вернулись?
— Потому что люди встретились, когда люди встречаются — никогда не
будет удачи. Вот почему надо уходить из стойбища так, чтобы ни один глаз
тебя не увидел, ни одно ухо чтобы не услышало.
С наступлением ночи Баоса с Богданом вновь украдкой вышли из стойбища и
пошли к недорубленной проруби. Баоса молчал, пока не удалились из стойбища,
потом придержал шаг, остановился и торжественно сказал:
— Нэку, в жизни я для себя ничего не хочу, запомни это. Я хочу только,
чтобы ты был до моей смерти рядом со мной. До моей смерти ты станешь
Заксором. Как только откроется в Нярги школа, ты пойдешь учиться. Я хочу,
чтобы ты не отставал от людей, мой внук не должен быть хуже других. Понял?
Это все, что я хочу.
Баоса продолжал свой путь, он наконец высказал внуку свои мысли, и с
него словно свалился тяжелый груз, который он нес с того дня, как появился
Богдан в большом доме. Что же ответит мальчик? Молчит. Пусть молчит, пусть
думает, времени еще много, Баоса не собирается скоро умирать, он еще
дождется, когда внук станет грамотным человеком, как Утумбу Оненко.
Ночь выдалась опять темная, непроглядная, дул с низовья пронизывающий
ветер. Богдан, ежась от холода, отыскал оставленную ветку тальника, приволок
охапку сухих плавников, собранных на ощупь. Он думал, что дед просил плавник
для костра, но старик не обратил внимания на них и продолжал очищать прорубь
от мелких льдин. Закончив очистку, он воткнул возле проруби палочку —
тороан, напротив — ветвь тальника.
— Подойди сюда, — позвал он Богдана. — Опустись на колени, повторяй
то, что я буду делать.
Баоса опустился на колени перед тороаном, поклонился ему и начал
моление:
— Отец Мангбу (Мангбу — Амур.), все его братья Сунгари, Уссури, Кэвур,
Анюй, Симин, Харпи и Хунгари, молюсь вам, прошу помощи вашей. Мангбу,
кормилец наш, ты нас кормишь, даешь нам сазанов, амуров, муксунов,
верхоглядов, ленков и тайменей, нельм и карасей, кету и красноперку, в
голодные годы подбрасываешь касаток и чебаков, если бы не твоя доброта, то
не размножился бы нанайский народ на твоих берегах, если бы не твоя
щедрость — потухли бы огни в наших очагах. Мангбу, кормилец наш, ты не
только кормишь, но и одеваешь нас, если бы ты не посылал осенью своей щедрой
рукой косяки кеты, то мы перемерзли бы зимой на морозе без теплой обуви из
кетовой кожи, без теплых халатов из той же кожи кеты. Мангбу, отец наш
родимый, ты был всегда щедр к детям своим, не откажи и сейчас нам. Прошу
тебя, дай мне несколько штук твоих осетров и калуг. Не от хорошей жизни
прошу я тебя, а от плохой. Состарился я, в тайгу уже не могу ходить — ноги
уже не те, подгибаются, глаза уже не те — смыкаются. Руки уже не те,
кочерыжками стали. Поверь мне, Мангбу, родной отец, даже гостинца от
бедности не мог тебе хорошего принести, — Баоса бросил в прорубь горсть
рассыпчатой каши и несколько кусков юколы. — Вот видишь, твоей же юколой
тебя угощаю. Мангбу-ама, помоги. Твои слова и моя просьба останутся только
тут, ни низовой ветер не разнесет в верховья, ни верховой ветер не унесет в
низовья, все наши слова зацепятся на верном моем страже, на этой ветви
тальника, они останутся у него вместо листьев.
Баоса щедро бросил в прорубь кашу и юколу, его примеру последовал
Богдан.
— Угощайся, Мангбу-ама, угощайся и не обижай своего сына, отдай мне
несколько своих калуг и осетров. Помоги!
Он кланялся несколько раз и ловким движением бросал в прорубь кучу
плавников.
— Мангбу-ама! Спасибо тебе! Тысячу раз спасибо тебе за твою щедрость!
Баоса ползал по краю проруби и крючком выхватывал из проруби плавники и
все благодарил щедрого Мангбу-ама, обещал принести ему такой же щедрый
подарок. Потом он зачерпнул котелком из проруби воду.
— Мангбу-ама, спасибо тебе, таких жирных осетров и калуг ты пригнал в
мои снасти, я котелком вычерпываю жир! Спасибо, Мангбу-ама.
Баоса поднялся на ноги, бережно понес котелок с водой, подобрал
плавники, вытащенные из проруби, связал веревкой.
— Какие толстые, какие тяжелые, какие жирные осетры. Спасибо тебе,
Мангбу-ама!
Богдан собрал пешню, сачок, топорик, крючок, все взвалил на плечи и
пошел вслед за дедом. Теперь Баоса шел своим молодецким шагом, он боялся
расплескать содержимое котелка.
В полночь они вернулись домой. Плавники сложили на сушильню, захватили в
дом один толстый обрубыш.
— Вставайте, женщины! Подвалило нам счастье, Мангбу-ама прислал нам
жирных осетров и калуг! — закричал Баоса, войдя в дом. Он положил обрубыш
возле очага, а воду из котелка вылил в глиняный большой жбан, где держали
питьевую воду.
— Смотрите, сколько у нас теперь жиру и какой вкусный жир! — продолжал
Баоса. — Попробуйте все, какой это вкусный жир.
Агоака зажгла жирник, и дом осветился тусклым светом. Баоса зачерпнул из
жбана кружкой, жадно выпил.
— Какой вкусный жир! Кто выпьет этот жир — сто лет проживет, —
продолжал он шуметь.
За ним выпил Богдан и сказал:
— Спасибо, Мангбу-ама!
Выпила Агоака и похвалила:
— Вкусный, жирный жир!
Попробовали Исоака и Далда, заявили:
— Только щедрый Мангбу-ама мог прислать нам такой вкусный жир. Спасибо
ему.
Проснулся Хорхой, колупнул пальцем один глаз, другой, сполз с нар, выпил
глоток и прохрипел спросонья:
— Чего обманываете, это же вода.
Но никто не слышал воркотни Хорхоя, кроме Богдана. Богдан подошел к нему
и прошептал:
— Так надо, утенок, понял? Говори, что это осетровый жир.
— Сам говори, сам ври. Это вода. А ты брехун.
Богдан усмехнулся, мол, что разговаривать с сосунком, который не знает
даже обыкновенной молитвы. Сам он две зимы находился в тайге и видел, как
отец и дед просили удачи у хозяина тайги.
На второй день, хотя и поднялся крепкий низовик, Баоса выехал ставить
снасти. В этот день Богдану впервые за всю зиму пришлось по-настоящему
потрудиться. Белкование он не считал особым трудом, там требовалось больше
ловкости, сноровки, зоркости и внимательности, а тут ему пришлось продолбить
три проруби в саженной толще льда, и каждую прорубь дед очищал сам, потому
что Богдан по неопытности, выпустив воду в ледяной колодец, решетил дно
колодца, но не мог убрать спайки, выступы.
Три проруби измучили Богдана, он, как никогда, почувствовал усталость,
онемели руки, дрожали ноги, болела поясница. В этот день выставили две
снасти, на следующий — еще две снасти, но на этот раз Богдан рубил
увереннее, в руках чувствовал силу, только поясница предательски побаливала.
— Это наше, заксоровское место, — рассказывал Баоса, когда
обогревались чаем возле жаркого костра. — Здесь мой отец ловил осетров и
калуг, меня научил, и я здесь впервые поймал калугу. Твои дяди учились
здесь, теперь твой черед. Запомни, это заксоровское место, —
многозначительно закончил Баоса.
Богдан смотрел на громоздившиеся в беспорядке торосы на правом берегу
реки, он нисколько не удивился, что дед передает ему это заксоровское место
лова калуг и осетров, потому что в последние дни Баоса по всякому поводу
вдалбливал ему, что он Заксор и все заксоровское его.
Богдан сам не против был назваться Заксором, потому что род Заксоров это
большой род, про который рассказывают легенды и сказки, он сам много раз
слышал легенду, как появился первый шаман, а он был Заксор. Про свой род
Киле он тоже, конечно, знает, знает, что Киле от слова килэр, а килэрэми
нанай называют тунгусов; выходит, род Киле пришельцы, они не коренные нанай.
Тогда Заксоры тоже не коренные жители этих мест. Богдан сам своими ушами
слышал легенду о рождении родов, там рассказывается, как Заксоры плыли на
плотах и их прибило к берегу где-то в этих местах.
Все перепуталось в голове мальчика, и он махнул рукой: какая разница —
Заксор или Киле, как дед захочет, пусть так и будет. Но вслух, о своем
решении он не заявил.
Снасти проверяли на третий день после выставления. Выдолбили крайние две
проруби, и когда освободились поводки, Баоса разрешил внуку проверить,
попалась в снасть рыба или нот. Богдан взял в руки туго натянутый поводок,
поводок вибрировал под тугим напором воды. Снасть молчала, она не подавала
признаков жизни, всякая рыболовная снасть жива, если в нее попадется рыба.
— Ну что? Нет? — спросил Баоса.
— Молчит, — прошептал почему-то Богдан. Ох, знал бы дед, как ему
хотелось в это время, чтобы поводок дернулся, потащил в сторону! Но рыбы не
было.
— Вода прибывает, потому не разгуливается рыба.
Богдан никогда не слышал, чтобы вода могла прибывать зимой; летом,
понятно, бывают дожди, реки разольются, и Амур наполняется, но зимой чтобы
прибывала вода — откуда она может появиться и как дед узнал, что она
прибывает?
— Прибывает вода, и зимой прибывает, — ответил Баоса, — видишь, лед
приподнялся немного. Амур дышит.
Как ни приглядывался Богдан к береговой полосе, но никак не мог заметить
какого-либо поднятия льда.
— В прорубь тогда гляди, — посоветовал дед, — на воду гляди, как она
клокочет.
И вода в проруби ничего не сказала мальчику, она так же, как и в прошлый
раз, крутилась в водовороте, рвалась из-подо льда.
— Все примечать надо, нэку, все. Наша жизнь такая, нэку, мы ко всему
должны приглядываться, примечать, запоминать. Вот ты в прошлый раз сильно
устал с непривычки и ничего не приметил, все пропустил мимо. Это уже
нехорошо. Вода прибыла, об этом она сама тебе рассказывает на своем языке.
Ты должен понимать язык ветра, звезд, листьев и травы, всяких зверей, птиц и
букашек. Все это тебе требуется для твоей же жизни, удачной охоты и рыбной
ловли, безопасной поездки и хорошего сна.
Все это Баоса говорил, пока шли по другой снасти. Очистив проруби,
освободив поводки, он опять попросил внука проверить ее. Богдан взял поводок
и сразу почувствовал слабый рывок, потом еще, еще. Рывки были настолько
слабые, что синявка, летом попавшая на крючок, куда сильнее дергается.
Мальчик ждал более сильных рывков.
— Что, нет? — подсел рядом с ним на корточки Баоса.
— Слабо дергает, как пескарь.
— Проверим твоего пескаря, — усмехнулся Баоса и, широко расставив
ноги, начал вытягивать снасть. Крючья он складывал в правую сторону подальше
от ног, клал их так, чтобы они не зацеплялись друг за друга, не спутывали
поводок. Один крючок, второй, третий, пятый. И вдруг в проруби мелькнул
острый хвост осетра, ударил по воде, забрызгав Баосу и Богдана. Баоса не
опустил поводок, он напружинился, удержал поводок в руке.
— Крюк подай, — попросил он, Богдан принес из нарты крюк,
прикрепленный на коротком черенке.
— Небольшой, но не пескарь, — улыбнулся Баоса. — Это уже касатка.
Теперь смотри внимательно. Самое главное и самое трудное дело это уговорить
его повернуться к проруби. и к тебе головой. Быстро уговоришь — быстро
вытянешь. Не уговоришь — не вытянешь. Если он забушует, то может сорваться
и исчезнуть, изорвет бок или оторвет твой крючок. Сам в это время всегда
будь осторожнее, смотри, чтобы крючки острием не к руке твоей были, а
наружу, может случиться, дернет он, а крючок хвать за руку и утащит тебя или
руку разорвет. А еще пуще следи за ногами и за теми крючками, которые у
твоих ног.
Баоса, не отпуская поводка, крюком попытался повернуть голову осетра к
проруби. Долго он возился, осетр упорно рвался под лед, прятал голову.
Крючок вцепился в двух вершках от хвоста. Баоса видел, что крючок впился в
мясо и осетру не вырваться, как бы он ни бился. Наконец осетр сдался, словно
нехотя изогнулся, и на мгновение показался в голубой проруби острый его нос.
Этого мгновения было достаточно, чтобы Баоса ловким движением подцепил
крюком под жабры.
— Вот и все, — сказал он облегченно. — Любой осетр, любая калуга,
даже если она длиннее твоей лодки, никуда не денется, если ты вот так поддел
его крюком, — объяснил он Богдану. — Большую калугу, какой бы ни был
сильный человек, ни тремя, ни четырьмя крюками не вытащить, сил не хватит.
Потому, поддев ее крюком, надо обвязать под жабрами веревкой и тащить.
С этими словами Баоса легко вытянул из проруби длинного изящного осетра.
Рыба забилась на снегу.
— На крючок Годо попался, — сказал Баоса, отцепляя осетра. — Это
будем считать твой первый осетр. Хорошо?
— Но я не вытащил его, — возразил мальчик.
— Но ты смотрел, — засмеялся довольный уловом Баоса.
На счастье Богдана, на предпоследний крючок попался другой осетр. Баоса,
проверив, крепко ли крючок держит его, убедился, что осетр не вырвется, и
разрешил внуку самому вытащить добычу. На удивление, Богдан тут же повернул
голову осетра к проруби, подцепил крюком и двумя руками, поднатужившись,
вытащил. Осетр был ровно с сажень.
— Молодец. Будешь добычливым калужатником, — сказал Баоса. — Смотри
ты, как он быстро послушался тебя, чувствует, что твоя рука — это рука
калужатника.
Богдан сам отцепил осетра и готов был прыгать от радости. Теперь он мог
сказать, что этот осетр добыл сам, своими руками, потому что ставил снасти,
уговаривал осетра вынырнуть из проруби, отцепил его от крючка. Есть первый
осетр! Богдан ликовал как и тогда, когда увидел упавшего от его пули лося.
В этот день рыболовы поймали четыре осетра и небольшого калужонка. В
следующую проверку добыли еще больше, и Баоса отвез по осетру своему другу
Илье Колычеву, его сыну Митрофану и молодому торговцу Сане Салову.
До возвращения охотников из тайги калужатники добыли около сотни калуг и
осетров, продали болоньскому торговцу У десятки килограммов хряща. Всех
охотников, вернувшихся домой, Баоса угощал жирной вкусной осетровой талой, а
те к свою очередь несли ему лучшие куски лосятины, медвежатину, сваренную и
нанизанную на палочки.
Когда вернулся Ганга, Баоса отправил ему с Богданом саженного осетра.
Ганга обрадовался, даже прослезился, обнимая удачливого внука; сам он на
своем веку не поймал больше двух десятков осетров. Неудачливый человек в
жизни был Ганга.
«Дружить надо с Гангой, мы два деда, мы должны быть дружны, — думал
Баоса, выпивая с Гангой за встречу. — Если мы вдвоем с ним будем отбирать
Богдана, то Пота не устоит, отдаст нам сына. Как же ему не отдать? У меня он
украл дочь? Виноват? Виноват. От отца убежал? Убежал. Виноват? Очень даже
виноват… Поэтому мы, два деда, будем требовать, чтобы за все свои грехи он
отдал нам сына».
На третью осень Баоса оставил Богдана у себя. Мальчик сам уже не рвался
на Харпи к родителям, он настолько привык к деду, к дядям и их женам,
подружился с Хорхой и другими мальчиками Нярги, что стал забывать родителей,
Токто, друга детства Гиду.
Богдан теперь привязался еще к Пиапону, любил часами слушать его
житейские рассказы о поездке в маньчжурский город Сан-Син, умные рассуждения
о жизни, явлениях природы, повадках зверей. Пиапон разговаривал с ним всегда
как со взрослым, и это очень пришлось по душе мальчику.
Богдан привязался не только к жителям большого дома, он всем
мальчишеским сердцем полюбил Амур, амурскую тайгу. Когда он выезжал на Амур
широкий, то сердце его опускалось куда-то вниз к желудку, дух его
захватывало от великого простора, от головокружительного течения.
Нравилось ему жить в Нярги еще и потому, что сюда часто наведывались
русские друзья Баосы и его сыновей. Богдан выучился русскому языку и теперь
на радость деда довольно бегло говорил. Приезжали в Нярги и совсем
незнакомые люди, гости соседей, появлялся русский бачика — поп, говорил
какие-то непонятные слова, будто даже не русские, все охотники при нем
крестились, а когда он уезжал, смеялись над ним и никто больше не крестился.
В год раз приезжали полицейские чины, приглядывались, принюхивались и,
выкурив по свернутой в бумагу трубке-папиросе, уезжали. Долго они не
задерживались, много, как поп, тоже не говорили, а чаще даже, не сказав
слова, уезжали. Зачем они приезжали, что им нужно было — никто не знал. Не
знал даже сам Холгитон, который все еще считался старостой стойбища.
— Приезжают, только людей шугают, да собакам лишняя забота лаять на
них, — ворчал Холгитон.
— Да тебя еще отрывают от молитвы мио, — смеялись охотники.
— Помолиться мио — не грех, — серьезно отвечал Холгитон.
Жизнь в Нярги была намного оживленнее и интересное, чем на Харпи, и
потому Богдан совсем не хотел уезжать отсюда. Когда отец с матерью приехали
за ним, он ничего не ответил им, только слушал, что говорили два его деда и
что отвечал им отец. За дедов заступились дядья, и Поте пришлось отступить.
Так Богдан остался в большом доме на третий год и третью осень ловил с дедом
кету.
Осень выдалась в этом году дождливая, серая, но кета по Амуру
поднималась обильно. Многие няргинцы в эту осень заключили подряды с Санькой
Саловым на лов кеты и сдавали рыбу его засольщикам.
— Ловкий ты, Саня, — говорил молодому торговцу Баоса. — Мне помнится,
твоему отцу никак не удавалось уговорить нанай ловить ему кету, а ты быстро
их уговорил. Это потому, что знаешь нанайский язык.
— Да, дака, верно говоришь, — улыбался Санька.
— Времена другие подходят, — возражал Пиапон. — Да и ты, Саня,
торговец уже не тот, что был отец, у тебя, я вижу, другой размах. Не крути
головой, молод, чтобы меня обкрутить. Сам ведь все понимаешь, верно? Нанай
ведь тоже другие уже, верно? Только мы сами этого не замечаем.
Баоса отходил, когда Пиапон, как он говорил, начинал умничать. Но
Богдана в это время ничем нельзя было отвлечь, он не отходил от беседующих,
пока они сами не расходились. Любил Богдан наблюдать и работу засольщиков
кеты, подружился с ними. Засольщики тоже привязались к смышленому мальчику,
учили его засаливать кету, а икорный мастер ему первому давал пробовать свою
новую продукцию.
— Хорошо? Вкусно? — допытывался он, будто от ответа Богдана зависела
судьба нового засола.
Услышав утвердительный ответ, он пускался в пляс, начинал
скоморошничать, смешить товарищей и рыбаков. Веселый, неунывающий человек
был икорный мастер.
— Я тебя, Богдан, научу солить икру, прибыльное дело, — говорил он. —
Не веришь, спроси у молодого хозяина. Он хоть и молод, но чувствую, собаку
съел в вашем деле.
— Как собаку съел? Собачье мясо? — удивлялся Богдан, чем приводил
засольщиков в неописуемый восторг.
Часто навещал засольщиков и учился их ремеслу и Полокто. Он подолгу
беседовал с Санькой, когда появлялся на тонях. А к концу путины он удивил
всех няргинцев, купил у Ворошилина три бочонка и засолил сам около двух
сотен кетин. На вопросы любопытных только отмахивался, говорил, что сам
будет зимой питаться соленой кетой.
— Правильно, на Амуре воды хватает! — смеялись одни няргинцы.
— Смотри, желудок просолишь, — говорили другие.
Кета прошла, закончилась горячая осенняя пора, наступили праздничные
дни. Баоса впервые за последние годы забрал себе родовую святыню —
хулусэнский священный жбан.
— Смотри, пэку, это наш заксоровский жбан, — сказал он внуку, когда
привез жбан счастья в Нярги, — ни один род не имеет такого священного
жбана, ни один род не может его сделать, потому что у них не было великого
шамана, который смог бы изготовить такой жбан. Ты Заксор, и это твой жбан!
Священный жбан с двуликим бурханом поставили в угол, и Баоса начал
праздновать осенний праздник. К нему приходили соседи, друзья, родственники,
не обошли и дети, Полокто с Пиапоном. Потом начали приезжать на молитву
охотники из соседних и дальних стойбищ, привозили больных жен, детей,
матерей и отцов, всем хотелось выпросить счастья, здоровья у священного
жбана, все спешили, потому что многие собирались во второй половине месяца
петли уйти в тайгу.
Молился и Бата Бельды, охотник из стойбища Чолчи, он просил удачи в
зимней охоте. После молитвы он передал Баосе завернутый в тряпицу серебряный
рубль. Баоса был крепко выпивши, он удивленно повертел в руке рубль,
усмехнулся и оставил на столике между рыбьими и утиными костями.
Второй охотник из стойбища Джоанко подал ему уже три серебряных рубля.
Баоса на этот раз был трезвее, он поднял с пола кланявшегося охотника и его
слепнущую мать.
— За что даешь деньги? — спросил он у оторопевшего охотника.
— За молитву, — пробормотал охотник.
— За молитву?
— Да, маме лучше стало, вот я и приехал поблагодарить священный жбан за
исцеление.
— Лучше стало?
— Лучше, лучше, — ответила старушка за сына.
— Я молился священному жбану в Хулусэне, там с меня потребовали три
рубля, сказали, такая цена за глаза.
— Кто сказал?
— Тамошние хозяева.
— Какие же это хозяева! Это сволочи! — закричал Баоса помолодевшим от
негодования голосом. — До чего дожили, за деньги уже молятся священному
жбану, за деньги вымаливают здоровье! Что же это происходит на Амуре? Кто у
тебя брал деньги?
— Турулэн.
— Турулэн?!
Баоса еще раз переспросил и сел на край нар, свесив ноги, чего никогда
не делал с малолетства. «Турулэн сам берет деньги за моление? Турулэн...
Самый старейший в рода Заксоров! Турулэн».
Нет, Баоса не мог представить, как это старейший Заксор, уже глядя одним
глазом в буни, мог дойти до того, что начал собирать деньги за молитву
родовой святыне. «Нет, здесь что-то не то, не может Турулэн этого делать.
Почему он промолчал об этом, когда отдавал жбан? Постеснялся? Совесть
грызет? Нет, Баоса не может брать деньги за молитву и никогда не возьмет,
водка, купленная на эти деньги, будет жечь его нутро, крупу, купленную на
эти деньги, не переварит желудок. Как может Баоса брать деньги со своего
брата, который пришел к нему за помощью? Как он может лишить его этих денег,
добытых кровью и потом? И за что брать? За то, что священный жбан дарует
здоровье человеку!»
— Здоровье, счастье, совесть не покупаются и не продаются, — тихо
проговорил он и вернул деньги охотнику. — За молитву священному жбану
оскорбительно платить и брать деньги.
Баоса вспомнил про вчерашний рубль, оставленный на столике, и начал
искать его, но так и не разыскал. Тогда он достал из своей кожаной сумки,
где хранились пушнина, деньги большого дома, серебряный рубль и вернул
чолчинскому охотнику. А ночью, когда большой дом уснул крепким пьяным сном,
Баоса зажег жирник, поставил перед священным жбаном, поклонился три раза и
затих.
— Ты великий, ты священный жбан, — прошептал он после долгого
молчания. — Тебя создал шаман, равного которому нет на земле, он создал
тебя, чтобы ты помогал его роду Заксор выжить на земле и размножиться. Ты
помогал нам на охоте, на рыбной ловле, приносил достойным счастье, больным
здоровье. Ты честно исполнял желание великого шамана. Потом люди других
родов, умиравшие от болезней, начали просить помощи, и ты щедро дарил и
людям других родов счастье и здоровье. Ты был щедр, ты был добр ко всем, и
тебя признали все нанай Амура, Сунгари и Уссури. Ты был честен, как и твой
отец, великий шаман, за щедрые угощения ты щедро выполнял просьбы молящихся
и, кроме угощения, ты никогда и ничего не требовал. Если бы ты потребовал,
то кто-нибудь из нас услышал твое требование. Ты не требовал, да и требовать
не мог. За то, что даруешь человеку радость выздоровления, счастье зачатия
детеныша, счастье обретения зрения, ты разве осмелишься попросить
какое-нибудь вознаграждение? Нет, не можешь. Ты честен, священный жбан, но
тебя пятнают нечестные люди. Как это ты терпишь? Почему не разразишься
гневом на них? Или, может, тебе так и хочется, чтобы люди деньги платили за
исцеление? — Баоса выжидательно замолчал, поклонился и спросил: — Где же
твоя прежняя честность, священный жбан? Если Турулэн берет деньги с
молящихся с твоего согласия, то я все равно не буду их брать. Я сейчас лягу,
усну, и ты мне все объясни, я хочу знать правду.
Баоса потушил жирник и залез под одеяло. Спал он плохо, ворочался с боку
на бок, тревожные мысли о священном жбане, Турулэне рассеивали сон. Утром он
проснулся с тяжелой головной болью, ломило поясницу, ныли ноги — вернулась
старая болезнь.
При больном хозяине дома неудобно было молиться священному жбану,
поэтому жбан и двуликого бурхана перенесли в дом Полокто.
Баоса заболел не на шутку, поясницу ломило так, что нельзя было глубоко
вздохнуть, кашлянуть. Агоака прикладывала к пояснице мешочек с горячим
песком, но это не помогало. Старик лежал на спине и боялся делать лишнее
движение, чтобы не вызвать боль. Рядом с ним постоянно находились Богдан с
Хорхой, они приносили ему все новости, и Баоса знал все, что делается в
стойбище.
«Не попраздновал как следует, — с горечью думал старик. — Не успел
даже счастье внуку вымолить. — И опять его охватывала тревога, которая
пришла в то утро болезни. — Неужели это проделки священного жбана? Может,
он рассердился за мою резкость?»
А мальчишки не понимали тревог деда и наперебой пересказывали все
услышанное и увиденное.
— Хунгаринский охотник привез такую смешную чушку, что все смеялись над
ней, черная сама и с желтыми полосами, — похохатывал Богдан, вспоминая
полосатую жертвенную свинью.
— А я видел, как двое палками дрались, — сообщал Хорхой, — они даже
не пьяные были. Ох, ловко дрались! Трах! Тах, тах тах, тах! Так ловко, так
ловко, надо нам, Богдан, научиться так драться.
— Дедушка, я видел, как мэнгэнский охотник деньги совал Ойте, чтобы он
передал отцу. Ойта отказался, не взял. А в это время отец Ойты вышел и взял
деньги.
— Это было сегодня? — хриплым голосом спросил Баоса.
— Да, сегодня.
Баоса сбросил с себя одеяло, медленно сел, от натуги и боли у него
струился пот с желтого лица. При помощи внуков надел теплый халат,
подпоясался, попросил принести какую-нибудь палку и, когда Хорхой принес
половину галтухина (Галтухин — жердь, на которую нанизывают юколу для
вяления.), он, опираясь на нее, встал на ноги и заковылял к выходу.
На улице дул холодный низовик, высокие волны со снежным гребнем катились
по реке, по небу низко плыли растрепанные лохматые куски черной тучи.
Баоса на улице зашагал увереннее, даже пнул ногой вертевшуюся под ногами
суку. Осторожно взобрался на крыльцо деревянного дома Полокто, открыл дверь
и вошел. Среди пьяного шума, толкотни Полокто все же заметил отца и подбежал
к нему. Баоса молча размахнулся палкой-гултухин и ударил по плечу сына.
Когда тот согнулся от боли и подставил спину, посыпались удары по спине.
— За что, отец? За что бьешь, при народе срамишь?! — кричал Полокто,
увертываясь от ударов.
— Это ты посрамил меня! — выдыхал тяжело Баоса. — Это ты посрамил мое
честное имя! Ойта, Дяпа, Калпе, Пиапон и ты сам, собачий сын, сейчас же при
мне вынесите на берег священный жбан, погрузите на большой неводник и сейчас
же отвезите в Хулусэн. Быстро двигайтесь! А ты все деньги, у кого брал за
моление, верни. На моих глазах верни!
— Я не брал, отец, не брал! — закричал Полокто, но тут же получил удар
по голове.
— Верни, собачий сын! Не доводи меня до греха! — молодецким голосом
закричал Баоса.
Полокто дрожащей рукой вытащил из грудных кармашек халата две тряпицы и,
не глядя ни на кого, положил деньги на край нар.
Охотники и их жены, ошеломленные расправой Баосы над старшим сыном,
молчали и перешептывались между собой:
— Ошалел совсем, спятил старик.
— Это просто не пройдет, он ведь выгоняет священный жбан.
— Попробуй ему ответь, отец ведь.
— Говорили же, он болен, пошевелиться не может.
— Правильно делает, за что деньги платить?
Тем временем Пиапон с Калпе выносили священный жбан из дому, за ними
Дяпа с Ойтой несли двуликого бурхана. Вскоре они выехали на бушевавший Амур.
Баоса вернулся домой, взобрался на нары, лег и больше не мог встать. Он
пролежал до ледостава.
Стойбища опустело, все охотники ушли в тайгу, остались только старики,
женщины да малолетние дети. Остался в стойбище и Ганга, он тоже побаливал и
потому решил охотиться из дому. Он часто навещал больного Баосу, подолгу
просиживал рядом и молчал. Старики теперь не ссорились из-за внука, хотя
Баоса при Ганге твердил Богдану, что он никакой не Киле, а Заксор. Ганга
помалкивал и только однажды решился уточнить, можно ли Богдана женить на
девушке из рода Киле. Баоса, конечно, понял подвох и сказал, что девушек для
Богдана можно разыскать сколько угодно из других родов, кроме Киле. На этом
закончился этот щекотливый разговор: оба старика понимали, что, к какому бы
роду они ни причисляли Богдана, отец его выходец из рода Киле и потому их
внук не имеет права жениться на девушке Киле.
Ганга изо дня в день слышал от Баосы, что Богдан должен остаться в
большом доме, потому что Дяпа и Калпе давно мечтают построить себе
деревянные дома и только ждут смерти отца, чтобы уйти из большого дома.
Может, останется Улуска, но он не Заксор, он Киле, а наследовать большой дом
должен Заксор. Богдан должен стать Заксором.
Ганга совсем смирился со своей судьбой, он не возражал Баосе, если хочет
Баоса, чтобы Богдан стал Заксором, то пусть будет Заксором.
Когда Баоса поднялся на ноги, он сразу же принялся за ремонт снасти.
Богдан радовался выздоровлению деда и с нетерпением ожидал начала лова
осетров и калуг. Баоса не заставил внука долго томиться, в два дня выставил
на прежних местах снасти. Теперь им помогал Хорхой. На первой же проверке
рыболовы поймали большую калугу; чтобы вытащить этого царя амурских рыб, им
пришлось вдвое расширить прорубь, к веревке, которой вытаскивали гиганта,
запрягли упряжку собак. На льду калуга возвышалась горой. Хорхой сел на ее
горбушку, и ноги не достали до льда. У Богдана ноги тоже не достали до льда.
— Ух калуга, так калуга! — восторженно кричал Хорхой. — А силы в ней,
как у железной лодки, верно?
— Дедушка, а как мы ее домой повезем? — тревожился Богдан.
Хорхой любил есть сырые жабры осетров и калуг, и его беспокоило, сумеют
ли его зубы грызть жабры этого гиганта.
Калугу, как толстое бревно, вагами закатили на нарты и осторожно повезли
в стойбище. Хвост ее волочился по снегу. Нарты скрипели и стонали под
тяжестью калуги, и Баоса боялся, как бы они не рассыпались на части.
Когда подъехали к Нярги, все стойбище сбежалось посмотреть на чудовище:
не каждый день попадаются такие громадные калуги. Баоса разделал рыбу,
раздал по куску всем женщинам стойбища, а на следующий день отвез большие
куски неизменному другу Илье Колычеву, сыну его Митрофану и молодому
торговцу Сане Салову.
Прошло полмесяца, как Баоса выставил снасти, а в амбаре уже лежало около
двадцати осетрин и куча желтого жирного хряща калуги. Баоса предвкушал
хороший заработок.
«Одного себя да внука сам прокормлю без охоты на соболя, — думал он. —
Белка, колонок, выдра — тоже не плохие шкурки имеют. Можно без соболя
прожить».
На эти размышления наводили упорные слухи, ходившие по Амуру. Говорили,
что власти хотят запретить лов соболей на несколько лет.
Охотники сами видели, что добыча соболей с каждым годом сокращается.
Соболь исчезал в тайге.
«Мы — калужатники, калугу и осетров будем продавать», — думал Баоса.
Однажды вечером возле большого дома остановилась упряжка собак, приехал
из Хулусэна старший сын Турулэна Яода. Как только Баоса увидел гостя, сердце
его сжалось в предчувствии тягостного разговора. Глава большого дома давно
уже ждал посланца Турулэна.
— Бачигоапу сагди ама (Здравствуй, дед.), — поздоровался сам уже
пожилой, рано поседевший Яода. Баоса обнял и поцеловал племянника, посадил
возле себя. Агоака подала раскуренную трубку. Яода рассказал хулусэнские
новости, порасспросил о житье-бытье в Нярги. Подали столик, еду, разогретую
водку.
— Отец послал меня к тебе, — начал Яода после первой чарочки водки. —
Отец говорит, жизнь с каждым годом становится дороже и дороже, с появлением
денег жизнь стала совсем тяжелая...
— Честно жить, своими руками, ногами, глазами кормить себя всегда было
тяжело, — недовольно перебил Баоса.
— Верно, верно, — поспешно согласился Яода. — Отец говорит, приезжие
стали мало привозить с собой продуктов, а их кормить надо, откуда брать
столько муки, крупы? Поэтому ничего зазорного нет, что мы берем деньги, на
них мы кормим их же хозяев.
— Они привозят сколько свиней, куриц, водки, разве этого мало? Этого
всегда хватало!
— Отец говорит...
— Пусть что хочет говорит, он обманщик, так ему и скажи. Сам ведь тоже
зарабатывал эти серебряные рубли, знает, каких трудов и пота требуется для
этого. И как он смеет требовать от своих же братьев и сестер денег?
— Отец сказал...
— Я сказал, если он будет еще брать деньги, я отказываюсь больше брать
этот жбан. Он опоганен вами!
— Опомнись, это же священный жбан.
— Был священный, да вы опоганили!
Разговор не клеился, рассерженный Баоса кричал на весь дом, не давал
говорить Яоде. Потом лег в постель, укрылся одеялом и заснул. Утром он
холодно попрощался с Яодой и уехал с внуками проверять снасти. Всю дорогу он
молчал, блуждающим взглядом осматривал окрестность, низкие берега, тальники,
тянувшуюся цепочку телеграфных столбов. Богдан попытался разговорить его,
расспрашивал о том, о другом, и дед был вынужден отвечать. Постепенно Баоса
разговорился.
— Знаю, вы хотите, чтобы я что-нибудь рассказал, — усмехнулся он. —
Ну, слушайте. Вон, видите, столбы стоят, а на них железные нити. Много
нитей. Для чего их натянули?
— Для разговора, — враз ответили мальчики.
— Умные вы, все знаете.
— Дяди нам рассказывали, да и ты сам говорил.
— Может, говорил, может, нет. Русские-то знали, зачем они нити те
тянули, а я тогда совсем молодой, как Хорхой, был и не знал. Иду однажды на
охоту на уток, смотрю, летит большой табун шилохвосток, летит прямо на эти
нити. Долетели — и один, два, три — посыпались, как кедровые шишки зимой.
Это ловко русские придумали, — думаю я, — какую ловушку для уток натянули.
Длинная ловушка, долго собирать добычу. Я подобрал уток, положил на видном
месте, чтобы русские сразу нашли свою добычу. Потом я вернулся туда же через
дней пять, смотрю, утки лежат там же, где я их положил. Конечно, уже
попортились, вороны поклевали мясо. «Эх, русские, русские! — закричал я от
обиды. — Какие вы нехорошие люди, натянули ловушку, погубили столько уток,
а сами не подбираете добычу. Разве охотники так поступают? Зачем же вы
губите столько уток, если они вам не нужны?» — возмутился я. Дома рассказал
другим охотникам, те тоже рассердились на русских. Потом только мы узнали,
что по этим ниткам русские друг с другом разговаривают. Чудеса! «До чего
умный народ», — подумал я тогда. Ты, Богдан, правильно делаешь, что учишь
их язык, правильно. Ты, Хорхой, тоже учись, тебе с ними жить всю жизнь, их
ум, мысли не постигнешь, не зная их языка.
Подъехали к первой снасти. Баоса не спешил, он закурил трубку и
наблюдал, как внуки долбили проруби с обеих сторон снасти. Когда они
закончили работу и стали проверять, попалась ли на крючки рыба, он подошел к
ним.
— Есть, дедушка, дергает, — радостно сообщил Богдан.
— Да, да, дергает, дергает! Ух, как сильно дергает! — кричал Хорхой.
Баоса сел на корточки, подтянул поводок и подтвердил, что попалась
небольшая касатка. Всех средних осетров он называл касатками.
Он опустил поводок, рассеянно посмотрел вокруг и ни с того ни с сего
сказал:
— Богдан, ты Заксор, но никогда не бери к себе в дом священный жбан. Не
бери, он осквернен, опоганен. Понял?
С этими словами он засунул дымящуюся трубку под пазуху.
— Дедушка, халат сожжешь! — вскрикнул Богдан.
Баоса удивленно посмотрел на него, и только тогда, когда мальчик
повторил предупреждение, он вытащил трубку, сбил горящий остаток табака.
— Посмотрим, посмотрим касатку, — твердил Хорхой, притопывая ногой. Он
держал наготове крюк, чтобы подать деду по первому его знаку.
Баоса медленно подтягивал поводок, из воды один за другим выпрыгивали
поплавки, черные крючки с сверкающим острием. Богдан с удивлением заметил,
что дед в беспорядке кладет крючки, они цеплялись между собой, запутывались
в поводке, ложились рядом с ногой деда.
«Что же он так небрежно собирает? — подумал Богдан. — Запутаются
крючки, поводок, потом распутывай их».
Сзади калужатников зарычали собаки, потом кинулись в драку. Баоса
выпрямился, разогнул спину, оглянулся назад:
— Я вам! Кончайте! — прикрикнул он на собак и добавил, обращаясь к
Богдану: — Палкой их накажи.
Богдан пошел исполнять приказ деда, схватил остол — палку с тяжелым
наконечником и начал бить зачинателя драки. Собаки перестали драться,
забились под нарты. И тут Богдан услышал испуганный крик Хорхоя, обернулся и
остолбенел от ужаса: Баоса по грудь находился в проруби и правой рукой
пытался ухватиться за кромку льда, но тут же исчез под водой, как поплавок
удочки исчезает в момент поклевки. Он не успел даже вскрикнуть, как был
втянут каким-то водяным чудовищем. У Богдана словно приморозились ноги ко
льду, он не мог сдвинуться с места. А Хорхой, охваченный страхом, с
недетским воплем побежал по дороге в стойбище, споткнулся о льдину, упал,
поднялся и опять побежал. Тут только Богдан пришел в себя, подбежал к
проруби, схватил поводок и начал бешено подбирать. На другом конце доводка
тяжело бились человек и рыба. Потом страшная сила вырвала поводок из слабых
рук мальчика, он отступил на шаг назад и закричал:
— Дедушка!! Дедушка!! Спасите дедушку!
Слезы брызнули из глаз Богдана, он опять подошел к проруби и опять
бессознательно, как во сне, начал подтягивать поводок. Поводок шел легко
сажень, две, пять, появились крючки. Один... три... десять. Поводок,
казалось, струился сам, выталкиваемый из воды непонятной силой. Сажень...
две... пять. Из воды выпрыгнул зверем камень-грузило. Конец снасти.
Богдан ослепшими от слез глазами смотрел на черный, докрывавшийся
стеклянной коркой льда камень и никак не мог понять, откуда он появился
перед ним.
И тут он прозрел — это конец снасти! Мальчик с ужасом взглянул на
черный камень и бросился бежать за Хорхоем.
ЧАСТЬ 2
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Приват-доцент Государственного Дальневосточного института Валерий
Вениаминович Ломакин ехал в свою третью экспедицию по Амуру к гольдам.
Неводник плыл по середине тихой быстрой реки, вода вокруг сверкала, как
отполированный ветрами лед, и Ломакину казалось, что на самом деле он
катится на санях по льду. Только нещадно палившее солнце, скрип весел,
стремительные оводы, кружившие над головой, возвращали его к реальности.
Валерий Вениаминович еще плохо владел гольдским языком и потому
использовал каждую возможность для пополнения своих познаний.
— Чем вы зимой занимаетесь? — спросил он гребцов.
— Как чем? Охотимся, — удивились гребцы.
— Вот у меня записано, с первого февраля 1913 года по пятнадцатое
октября 1916 года запрещается охота на соболя. Нынче 1915 год, два года вам
запрещается ловить соболей.
— Ловят, втихомолку ловят, — ответил кормчий, сидевший за спиной
Ломакина.
— Большинство нанай белок, колонков, выдр, лисиц промышляют, — добавил
гребец. — Соболя только смелые охотники добывают.
— А ты что делал зимой?
— Сперва белковал, потом пошел в лес пилить и рубить.
— Хорошие заработки?
— Ничего. Только трудновато в лесу, на охоте легче.
— Веселее, скажи, — подсказал кормчий. — Когда охотишься или
рыбачишь, все от тебя зависит, сплоховал — упустил добычу. А в лесу — что
там? Вали дерево, сучки обрубай, и все время боишься — то дерево на тебя
свалится, то сучок отлетит да глаз выбьет. Плохая работа в лесу.
— А ты сам работал? — не оборачиваясь, спросил этнограф.
— Нет, с голоду умирать буду — не пойду.
— Почему?
— Я говорил тебе — плохая, неинтересная работа. Когда за зверем
гонишься, у тебя сердце бьется, ты весь дрожишь от нетерпения, быстрей
догнать, быстрей. Зато, когда поймаешь — какая радость захватывает тебя,
тебе хочется прыгать, кричать, вот какая радость. А ты сам-то охотился?
— Нет, не охотился.
— Чтобы понять охотника, самому надо быть охотником.
«Что ни говори, смышленый кормчий, — подумал Валерий Вениаминович. — Я
всегда говорил, что гольдов природа не обидела умом».
— А что надо делать, чтобы безбедно жить? — спросил он после раздумья.
— Торговать, — с серьезным видом ответил кормчий.
— А кроме торговли, чем еще жизнь можно улучшить?
— Кто его знает... У нас только торговцы хорошо живут.
— Может, вам коров завести, как русские крестьяне.
— То русские, они не такие, как мы, они даже коровье молоко пьют, а мы
не можем, противно, не сладкий и не соленый, тошноту вызывает.
— Могли бы тогда лошадей содержать.
— У нас собаки есть. Чем они хуже лошадей? На санях лошадь не может без
дороги идти, а я на собаках проеду. Охотиться в тайгу лошадь не возьмешь, а
я собаку возьму, она мне поможет соболя догнать, белку выследить. Для лошади
надо корм летом готовить, сено косить, зимой его привозить, а я собаке юколу
приготовлю, в тайге вместе мясо едим. Если не будет еды, лошадь подохнет, а
собака может сама прокормиться. Лошади дом надо строить, а собаки без дома
проживут или у меня под нарами переспят. Собака выгоднее лошади.
«Да, на все у него есть ответ, аргументированный, доказующий ответ», —
подумал Ломакин.
— Выходит, жизнь никак нельзя изменить, улучшить? — спросил он.
— Так всю жизнь живем.
«Поразительная инертность и безынициативность. Бессовестное подчинение
року», — отметил про себя Валерий Вениаминович.
— Пока в тайге есть звери, в Амуре гольды будут жить, — продолжал
кормчий. — Во время таяния снегов нанай голодает, а как Амур вскроется, он
ползком добирается до берега и наедается рыбой. Амур — наш кормилец, мы его
дети, он нас не оставит голодными.
— Но людей ваших много умирает.
— Камень вон какой твердый и то раскалывается, рушится, водой и ветрами
обстругивается, а человек — он из мяса и кости, должен умирать.
— Гольдов умирает слишком много, народ исчезает, вы это знаете?
— Чего же не знать? Сказки и легенды слышали. Раньше нанай на Амуре
столько было, что если все столкнут свои лодки и оморочки и рассядутся в
них, то Амур выходил из берегов. Если все нанай одновременно разжигали
костер, то пролетавшие по небу лебеди чернели от сажи. Вот сколько было
нанай!
Валерий Вениаминович восхищенно поцокал языком, вытащил записную книжку
и записал слова кормчего.
В Нярги приехали к вечеру. Встречать приезжих вышли и млад, и стар.
Валерий Вениаминович вежливо отказался от предложения остановиться в
чьей-либо фанзе, он страшно боялся блох, и поставил свою походную палатку на
верхнем конце стойбища. Молодые охотники, подростки мигом перетащили все его
вещи в палатку и расселись возле нее в ожидании услышать новости от
русского, который приехал из самого города Хабаровска и который
разговаривает на их родном языке. Гостя, правда, требовалось угостить по
нанайским обычаям, но так как он остановился в своей собственной палатке,
надо принести свежего мяса или рыбы. Свежая рыба нашлась в большом доме, и
Калпе принес Ломакину среднего сазана на уху.
Валерий Вениаминович расставлял вещи в палатке, распаковывал узлы и
прислушивался к разговору. Он не любил таких больших сборищ охотников, ему
приятнее и легче было беседовать с двумя-тремя людьми. Когда, распаковав
вещи, он вышел из палатки, сел на горячий песок, к нему подошел Холгитон.
— Ты какой начальник? — спросил он, ему как старосте стойбища хотелось
уточнить, кто такой приезжий, какое у него занятие, что он собирается
делать.
— Я не начальник, — рассмеялся Ломакин и рассказал о своем занятии.
— А, понимаю, — закивал седой головой Холгитон. — Пять лет назад по
Амуру ездил один русский старичок, с бородкой, в очках, мы тогда с Пиапоном
ехали в Сан-Син, встретили его в Сакачи-Аляне, он тоже интересовался жизнью
нанай, зачем-то покупал одежду, обувь. Приятный такой старичок был.
Ломакин старался припомнить, кто из этнографов мог проехать по нанайским
стойбищам пять лет назад. Из членов приамурского отдела русского
географического общества, кажется, никто не совершал путешествия по Амуру.
Арсеньев? Владимир Клавдиевич не спускался по Амуру ниже Анюя. Может,
топографов имеют в виду? Но топографы зачем стали бы докупать халаты, обувь?
И вдруг Ломакин вспомнил: так это же был знаменитый этнограф Лев Яковлевич
Штернберг! Он проехал в 1910 году по гольдским стойбищам.
Няргинцы разошлись. Валерий Вениаминович сварил уху, поел и с
наступлением сумерек лег спать. Утром он пошел по стойбищу, знакомился с
людьми, если приглашали, заглядывал в фанзы, зашел в один из четырех
деревянных рубленых домов.
Пиапон, лежавший на нарах, при появлении Ломакина сел и закурил.
— Болеешь? — спросил этнограф.
— Нет, так лежу, — ответил Пиапон.
— Нечего делать?
— Да.
Валерий Вениаминович отметил про себя скупость на слова хозяина дома и
стал разглядывать внутреннюю обстановку дома. Нары. Очаг, сложенный из
камней. Шкафчик для посуды. И все. Все в точности, что в глиняных фанзах.
Валерий Вениаминович попрощался и вышел. Пиапон опять лег, прикрыл глаза: у
него болел раненый затылок, ломило голову.
«Пиапон будет контрольным человеком, — решил Валерий Вениаминович,
выходя на улицу. — Проследим, сколько часов он будет в день заниматься
полезным трудом».
Потом этнограф побывал в доме Холгитона, смотрел, как Годо ковал
острогу.
— Где ты научился так ловко ковать? — спросил он кузнеца.
— Он мой работник, — не выдержал и похвастался Холгитон. — Хороший
работник, все умеет делать. Нанай тоже занимаются кузнечным делом. Ты
легенды и сказки любишь? Даже записываешь? Хочешь послушать, как у нанай
появились мех кузнечный, молот и наковальня? Было это давным-давно, когда
было — никто не помнит, ни самый старый ворон, ни самая старая черепаха, ни
самый толстый, высокий кедр. Однажды вдруг подул сильный, пресильный ветер.
Дует день, два, три, месяц, два, год. Людям не выйти из дома, зверям — из
тайги. Начали люди голодать, все запасы юколы, сушеного мяса съели. Тогда
нашелся среди нанай Мэргэн-Батор, он один выходил на рыбную ловлю, один
охотился на зверей и подкармливал всех нанай. Но сколько может охотиться и
рыбачить один человек? Сколько он может кормить весь народ? Решил
Мэргэн-Батор убить этот проклятый ветер. Пошел на Амур, наловил вдоволь
рыбы, пошел в тайгу, принес вдоволь мяса. «На, родной народ, ешь и жди
меня!» — говорит он. Идет Мэргэн-Батор против ветра, идет день, два, три,
месяц. По дороге он встречает стойбища, города с высокими каменными дамами,
а в тех стойбищах и в городах никого нет на улице, тоже прячутся от ветра за
каменными стенами. Даже железные лодки на Амуре попрятались между островами,
не могут выйти на реку. Идет Мэргэн-Батор дальше, и вдруг ветер еще сильнее,
еще жестче начал бить его в грудь, прямо валит с ног. Пригнулся Мэргэн-Батор
и шагает все вперед, все вперед. Ветер все сильнее и сильнее, свистит в ухо
так, что Мэргэн-Батор начал глохнуть. Посмотрел Мэргэн-Батор, откуда этот
свист, а ветер бьет в глаза. Но все же он успел заметить большую дыру в
черной скале. Из этой дыры и дул ветер. Обвязал голову Мэргэн-Батор кабаньей
шкурой и полез в эту дыру. Лез он лез, полз он полз и вдруг чувствует, нет
ветра, кончился ветер. Снял он с головы кабанью шкуру, огляделся и видит
перед собой большой кузнечный мех, возле него наковальня, на наковальне
молот. А перед наковальней стоит большой, весь черный человек.
— Ты чего тут куешь? — спрашивает Мэргэн-Батор.
— Сыну игрушку, — отвечает черный человек.
Рассердился Мэргэн-Батор и говорит:
— Ты тут ребенку игрушку куешь, ветер такой поднял на весь Амур, люди
из дома не могут нос высунуть, умирают люди от голода. Кончай баловаться,
сломай мех!
— Нет, не сломаю. Мне еще три года надо ковать игрушку. А до твоих
людей мне нет дела, будут они живы или замрут все, — отвечал черный
человек.
Еще больше рассердился наш Мэргэн-Батор и говорит:
— Тогда будем драться! Я не могу допустить, чтобы ты погубил мой народ.
За три года, пока ты будешь эту игрушку ковать, на Амуре ни одного человека
не останется в живых.
Начали драться. Дрались день, дрались два. Устали. Сели против друг
друга, стали плеваться друг в друга. Плеваться тоже устали. Начали драться
глазами, один зырк, другой зырк. Глаза тоже устали. Тогда Мэргэн-Батор
вспомнил, что оставил запасов рыбы и мяса своему народу на год, а год уже
иссякает. И откуда у него набрались силы, он взял молот и расколол им голову
черного человека. Потом отдохнул, набрался сил, взвалил на плечи наковальню,
мех и молот — под мышки и пошел обратно. Так у нанай появились кузнечный
мех, наковальня и молот.
Холгитон набил трубку, закурил.
— Хорошая легенда, — похвалил Валерий Вениаминович. — Только откуда
появились железные лодки? Это, видимо, пароходы?
— Кто их знает, может, и пароходы, может, какие и другие лодки, —
невозмутимо ответил Холгитон. Он не только этнографу, но и своим
друзьям-слушателям не признался бы, что про железные лодки и высокие
каменные дома он добавил от себя: впрочем, няргинцы давно уже заметили, как
после поездки Холгитона в Маньчжурию сказки его приобрели другую окраску и в
них появились неведомые раньше города с высокими красными каменными домами,
железные лодки, пагоды и церкви.
Время подходило к полудню, когда Валерий Вениаминович, записав еще одну
легенду Холгитона, вышел из кузницы. На улице стояла жара. День выдался на
славу, на небе ни облачка, солнце палило так, что на песок нельзя ступить
босой ногой.
— Холгитон, я хочу с тебя фотоснимок делать, — сказал Валерий
Вениаминович и для наглядности вытащил из кармана несколько старых
фотокарточек: девушки-гольдячки, шамана, охотника — и показал Холгитону.
Старик взял фотокарточки, внимательно посмотрел на молодую девушку.
— Кто это? — спросил он.
Валерий Вениаминович рассказал, когда и где он фотографировал девушку.
Холгитон вытащил из-под первой фотокарточки вторую и замер.
— Это же Ива-мапа, — пробормотал он. — Это же шаман, Ива-мапа.
— Да, это шаман, — подтвердил Ломакин.
— Я его знал, это он, точь-в-точь он, я видел, как он камлал, в этой
одежде видел.
— Тебя тоже так точь-в-точь сделаю.
Холгитон окинул этнографа блуждающим взглядом и покачал головой.
— Нет, со мной это не выйдет, я не шаман.
— А вот с девушкой вышло, она не шаманка.
— Девушку я не видел, не знаю, может, она какая другая.
— Ну вот что, пока я схожу за аппаратом, ты надень красивый халат.
«Зачем красивый халат? — думал Холгитон, глядя вслед этнографу. — А-а,
какой я недогадливый! Шаман на бумаге появился, потому что был одет в
шаманскую одежду, девушка тоже разукрашена, даже на носу повесила украшение,
как на празднике: может, и мне нарядный халат поможет...»
Холгитон вбежал в фанзу, заставил Супчуки достать самый красивый халат и
обувь, та поспешно сбегала за нарядом в амбар. К приходу Ломакина Холгитон
был разнаряжен, как на большом празднике касан.
Весть о том, что приезжий русский собирается изобразить Холгитона на
бумаге точь-в-точь, какой он есть, облетела стойбище со скоростью осеннего
низового ветра. Все жители стойбища столпились возле Ломакина с аппаратом.
Холгитон весенним, разнаряженным селезнем стоял среди сородичей.
Ломакин укрепил на треноге свой громоздкий аппарат, и в это время кто-то
из мальчиков, приблизившись к объективу, увидел себя, стоящих позади его
взрослых и закричал:
— Уже, уже все получилось! Как в зеркале получилось. Я один свое лицо
вижу, а вы все маленькие!
Валерий Вениаминович поспешил закрыть крышкой объектив.
— Да, да, как в тусклом зеркале! — отвечал мальчик на вопросы
товарищей.
Тут некоторые охотники, бросившие неотложные дела, начали расходиться.
— Что мы, в зеркале себя не видели, что ли? — рассуждали они.
Сделав три снимка, Ломакин попросил Холгитона запрячь упряжку собак.
— Зачем? — удивился Холгитон.
— Я сделаю твой снимок с упряжкой собак, — ответил этнограф.
— Мы собак запрягаем только зимой.
— Я сделаю сейчас, летом.
— Мы не запрягаем, понимаешь? Если ты меня сделаешь с упряжкой собак,
люди будут смеяться, скажут, что Холгитон на старости лет спятил с ума,
летом поехал на нартах. Нет, я не хочу, чтобы надо мной смеялись.
— Травы не будет видно, — сказал Валерий Вениаминович после раздумья.
— Хорошо, ты говоришь, травы не будет, — наступал Холгитон. — Но ты
разве не видишь, что я в летнем халате? Как я на нартах поеду в летнем
халате? Опять это вранье, опять про меня скажут нехорошее.
Ломакин уже собирался отказаться от своей затеи сфотографировать
Холгитона на нартах, как из толпы вышел Ганга и заявил, что он согласен
ехать летом на нартах. Поднялся хохот, люди смеялись, ухватившись за животы.
Но Ганга, не обращая внимания на них, запряг собак и спокойно уселся на
нарты. Валерий Вениаминович, к несказанному удовольствию Ганги, сделал
несколько снимков, потом его же, уже в знак благодарности, заснял на
оморочке.
— Теперь давай бумагу, на которой я точь-в-точь вышел, — потребовал
Ганга, как только сошел с оморочки.
— Я сейчас не могу тебе ее дать, — бодро ответил Ломакин, не
подозревая о надвигающемся скандале.
— Мне тоже отдай, — потребовал Холгитон.
— Не могу я отдать, это сразу не сделаешь... Надо в растворе солей
обмочить...
— Что, соли у тебя нет? — спросил Ганга.
— Да не такая соль, солей других много...
— Ты обманщик! Только для чего ты нас обманул, не пойму.
— Выслушайте, охотники, — уже тверже заговорил Ломакин. — Я здесь
только снимаю, а на бумаге делаю дома, потому что, чтобы сделать карточки,
требуются не только всякие соли, но и аппараты, сильный свет, какой горит в
городах, вы видели их на пароходах. Я сделаю это в городе, а привезу вам в
следующий раз.
Валерий Вениаминович вытащил все фотокарточки: девушки-гольдячки,
охотника, сушильню юкол со свежими юколами, амбар на четырех ногах, хомаран,
будто бы сшитый из черно-белой бересты. Охотники разглядывали фотоснимки,
удивлялись их точности изображения.
— Я поверил тебе, Холгитон тоже поверил, — сказал Ганга. — Только
смотри, привези такие бумаги, где я буду точь-в-точь. Скажи, а мои собаки
тоже точь-в-точь получатся?
Услышав заверение этнографа, что его собаки будут изображены такими,
какие они есть, Ганга остался доволен.
— Ты только смотри, первая собака, это мой вожак, любимец мой, ты его
не перепутай с другими, — предупредил он.
— Она будет первой, — ответил Ломакин.
— Ай, как хорошо! — Ганга обернулся к Холгитону: — Ты слышал, мой
Курен тоже на бумаге получится. Вдвоем мы с ним получимся.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Большая вода затопила низкое правобережье озера Болонь, на левом берегу
узкие кромки у мысов Большой и Малый Ганко не годились для поселения, и
поэтому Токто с Потой решили остановиться в небольшом стойбище Джуен,
который стоял в глубине озера. Из Джуена можно было с ночлегом выезжать на
рыбную ловлю, выставив сети, ночью сторожить в заливах между мысами
выходящих на кормежку лосей и изюбрей. Удачливые охотники частенько по утрам
возвращались с богатым уловом сазанов, карасей, сомов и привозили туши лося.
А кто охотился только на лося, выезжал из Джуена в полдень и не спеша
поднимался по горной речушке Сэунур, которая петляла до головокружения и
напоминала, если взглянуть на нее с высокой сопки, утиную кишку; к вечеру
охотник добирался до мари, а утром возвращался с добычей.
— Место хорошее, можно жить, — говорили джуенцы, и Токто с Потой
соглашались с ними: им тоже приглянулся Джуен, но про себя подумали, что
Харпи не променяли бы ни на какое другое место. Кэкэчэ с Идари тоже
разделяли мнение мужей, и только Гида с Богданом, которым надоела жизнь в
стойбище, невзлюбили Джуен: им хотелось пожить уединенно в летнем хомаране,
а Джуен — это все же стойбище с фанзами, с дымовыми трубами, с сушильнями
юкол.
Молодые охотники, имевшие собственные берестянки, каждый день вдвоем
уезжали на рыбную ловлю с ночевкой. Так как они не соглашались
присоединяться к родителям, то нередко Токто в шутку бился с ними по
рукам — кто утром вернется с большей добычей — и часто Гида с Богданом
привозили полные оморочки рыбы, намного больше родителей.
— Молодые, ничего не скажешь, — смеялся Токто. — Запросто за пояс
заткнули.
— Куда нам старикам, — поддакивали Какэчэ с Идари.
Токто и Пота любовались сыновьями: Гида вытянулся, раздался в плечах,
был по-юношески гибок и строен; Богдан на три года моложе товарища, в таком
возрасте, когда, как говорят нанай, окрепли только крупные кости, а
мелкие — еще хрящи. Богдан тянулся вверх, как молодой тальник весной
тянется к жаркому солнцу, и был по-мальчишечьи худ и голенаст. И кто бы мог
подумать, что этот рано повзрослевший мальчик в пятнадцать лет уже определил
свою жизнь. Он только год как живет с родителями, но ни отец, ни мать не
знают, останется он с ними или вернется обратно в Нярги в большой дом: после
смерти Баосы они пытались было привезти его на Харпи, но мальчик наотрез
отказался вернуться в родную семью и два года жил в большом доме.
Ни Пота, ни Идари не знали, что пережил их сын во время гибели деда, они
были страшно удивлены, когда при первой же встрече Богдан заявил им: «Вы
обманщики, вы никогда не любили дедушку, говорили про него только плохое, а
он был хороший. Он был лучше всех!»
И сам Богдан никому и никогда не рассказывал, что с ним произошло в день
гибели Баосы. На всю жизнь запомнил он мельчайшие подробности этого дня.
Помнит, как без звука исчезла в проруби голова деда и как, выбрав снасть,
побежал вслед за Хорхоем, но пробежав саженей двадцать, остановился, будто
наткнувшись на стену: он вспомнил, что, кроме основной проруби, есть другая,
по другую сторону сети, она очень маленькая, эта прорубь, но бывают же на
свете чудеса. И Богдан хотел верить им, хотел, чтобы свершилось чудо.
Мальчик бросился назад к проруби, заглянул в одну, потом в другую, а
прорубях сердито бурлила вода. Богдан встал на колени и начал молиться
эндури, как молился в тайге на охоте, но тогда он просил удачи на промысле,
теперь умолял всемогущего эндури совершить чудо и спасти деда. Он бил
поклоны и смотрел с надеждой в прорубь, ему казалось, что вот-вот вынырнет
из-подо льда дед, тряхнет головой, протянет руку. Проходило время, вода
продолжала бурлить в проруби, и никакого чуда не свершилось. Обессиленный,
потрясенный Богдан упал на снег и затих, но тут же поднялся, подполз к краю
проруби и закричал:
— Дедушка! Дедушка! Я буду Заксором, дедушка, я буду Заксором, я
останусь в большом доме, только ты вернись! Я буду учиться, я буду Заксором!
Дедушка, вернись!
Вода продолжала бурлить в ледяном окне, безмолвная белая тишина висела
над Амуром. Богдан теперь только понял, что дед никогда не вернется к нему и
он не услышит его голоса, не ощутит его скупой ласки; он уткнулся в снег и
заплакал.
Подъехали упряжки с охотниками, его подняли и посадили на нарты. Двое
мужчин перебрали застывшие поводки крючьев.
— Шестого крючка нет, — сказал один из них, — поводок порвал и ушел с
крючком.
— Какую силу надо иметь, чтобы порвать такой поводок, — сказал другой.
— Это не калуга, это черт был.
Дальше они молча перебирали крючки.
— Который крючок его подцепил, не найдешь теперь, — сказал первый.
— Из рассказа Хорхоя я понял, что крючок цапнул его за ногу, — сказал
другой. — Выходит, он под водой успел сам отцепить его.
— Да, отцепил. Сильный человек! Кремень!
Остальные мужчины и женщины ниже по Амуру долбили лунки, чтобы забросить
невод. Но невод вытянул только немного рыбы, утопленника не было. Тогда
мужчины еще ниже выставили несколько снастей.
Домой Богдан вернулся со вторым дедом, Гангой. Большой дом был обнесен
веревкой, мальчик знал, что это делается для того, чтобы не развалился дом
после смерти хозяина. Весь вечер Богдан просидел на нарах, возле постели
деда. В большом доме было душно, жгли десятки жирников. Ночевать Богдан
пошел к Ганге.
— Смерть никого не щадит, — сказал Ганга, когда вошли в его низкую
прокопченную фанзу. — Вот мы и остались вдвоем, я один теперь твой дед.
Старик вытащил из-за пазухи жирник и зажег его.
«Зачем он плошку с жиром таскает за пазухой?» — подумал Богдан.
— Я один твой дед, — повторил Ганга и добавил, глядя на мигавшее
пламя: — Может быть, к концу жизни я стану богатым и хорошо заживу.
— Не знаю, дедушка, — немного подумав, ответил Богдан. — Для меня дед
всегда останется живым, я ему дал слово стать Заксором. Ты тоже, дедушка,
считай меня Заксором.
Ганга долго и сокрушенно молчал, потом сказал:
— Так не годится, Богдан, ты сын моего сына, а я Киле, и ты потому
должен быть Киле. Только так.
— Нет, дедушка, я выполню слово, я сказал деду. Если школу откроют,
пойду в школу учиться.
Больше Ганга ничего не сказал, но Богдан видел, как он был недоволен и
сердит.
На следующий день с раннего утра начались поиски тела Баосы. Из Малмыжа
приехали друзья его: Илья Митрофаныч Колычев, сын его Митрофан и еще
несколько человек. Они тоже стали неводить, но не могли найти утопленника.
Четыре или пять дней подряд люди искали тело Баосы, продолбили сотни
прорубей, десятки раз заводили невод под лед, ставили крючковые снасти, но
так и не нашли. Тогда женщины сшили из шелка мешок, формой напоминающий
человеческое тело, набили ветками черемушника и положили на усыпальню,
сложенную из юкольных палок.
Вернулись из тайги вызванные нарочными Полокто, Пиапон, Дяпа, Калпе,
Улуска, они и похоронили шелковую куклу, набитую черемушником, по всем
обычаям. Через семь дней сделали поминки и отправились вновь в тайгу.
Богдан за это время привязался к Пиапону и ушел с ним в тайгу. Вместе с
Пиапоном в аонге (Аонга — охотничье зимовье.) находился Калпе, с ним тоже
подружился Богдан.
Два года прожил в большом доме Богдан, и никто ему худого слова не
сказал. За эти два года большой дом совсем распался, начались ссоры между
женщинами, и вскоре они стали готовить еду каждая своей семье; в амбаре
каждая семья держала в своем углу запасы продовольствия, юколу.
Богдан спал на своем месте рядом с пане (Пане — деревянный бурханчик,
воплощающий в себе душу умершего. Вырезается из дерева после смерти
родственника. Хранится в семье, по вечерам его укладывают в предназначенную
постель, во время еды перед ним ставят все блюда, какие подаются на стол.)
деда, чаще кормился из котла Калпе, но, кроме Далды, его кормили и Агоака, и
Исоака. Жил Богдан, не зная забот, все дяди и тети, несмотря на ссоры, с
любовью относились к нему, в каждую поездку к малмыжскому торговцу привозили
ему материи на одежду, и вскоре у него появилось несколько новых халатов,
несколько пар унтов, торбасов.
Богдан добыл восемь соболей, две выдры, около трехсот белок, и все эти
ценные шкурки лежали в старой кожаной сумке Баосы, под его же постелью. Дяди
не разрешали Богдану сдавать пушнину, они решили: пусть копит на выкуп за
будущую жену.
— Богатый жених, на всем Амуре такого не сыщите, — говорили дяди. —
Скоро отцы сами начнут тебе предлагать своих дочерей.
Богдан смущался, краснел и отмалчивался. А когда женщины начинали
спорить, какая из няргинских девочек лучшая невеста, Богдан убегал из дома,
шел к Пиапону. Шумливая жена Пиапона, Дярикта, тут же сажала его за
маленький столик и подавала есть.
— Столько женщин в большом доме, а накормить одного молодого охотника
не могут, — ворчала она. — Вечно голодный ходит, только языками умеют
болтать, а вкусного супа не смогут сварить. Все молодые женщины такие, в
руках иголку не умеют держать, юколу не могут провялить, всегда она у них
вонючая, собакам только годится.
Богдан давно уже привык к воркотне Дярикты, он не возражал, не защищал
женщин большого дома: стоит ему вымолвить слово, Дярикта ответит десятью и
обрушится бранью на молодых женщин. Мальчик ел через силу и, заметив улыбку
Пиапона, отворачивался, чтобы не засмеяться. А Пиапон с той же улыбкой
говорил жене:
— Правильно говоришь, мать Миры, эти молодые женщины такие, сами едят,
а мужей заставляют голодать. И Богдана не кормят, видишь, какой он худой. В
тряпье еще одевают, ты бы ему новый халат сшила.
Дярикта никогда не понимала подшучивания мужа, бегло оглядев почти что
новый халат Богдана, она принималась рыться в берестяном коробе, где хранила
ткани, дабу, сукна.
— Будь, Богдан, на твоем месте другой человек, перессорил бы всех
женщин большого дома, натравил бы на них мою жену и каждый день одевал бы
новый халат, — смеялся Пиапон. — Каждая из них волосы на себе рвала бы и
последнее отдала, чтобы не посрамиться перед другой. Эх, женщины, женщины!
Пиапон, не имевший сыновей, всю жизнь мечтавший о них, с любовью принял
первого зятя, мужа Хэсиктэкэ, сразу полюбил и Богдана; мальчик тоже
привязался к нему и вскоре начал звать его дай ама (Дай ама — дедушка.
Большой отец (дословно).), как звал Баосу.
— Я же не дед, дед твой отец Ойты, он самый старший (Кроме Баосы,
старший его сын по нанайской родословной приходился Богдану дедом.), —
говорил Пиапон. Но Богдан редко встречался с Полокто и почти не разговаривал
с ним. Полокто единственный из всех дядей не обращал внимания на племянника,
и Богдан, чувствуя его отчужденность, сторонился.
За год, пока жил с родителями, Богдан совершенно забыл лицо Полокто, но
стоило ему закрыть глаза, как перед ним всплывали дедушки Баоса и Ганга,
дяди Пиапон, Калпе и другие няргинские родственники. Он не мог без улыбки
вспоминать ворчливую Дярикту, молодых женщин большого дома, как они
расхваливали приготовленную пищу, когда приглашали его поесть.
А маленький дедушка Ганга почему-то появлялся перед нам с жирником,
который он носил за пазухой. Баоса в первое время почти каждую ночь снился
Богдану, он делал все, что делал при жизни: охотился, рыбачил, поучал
житейской премудрости. Однажды он появился, как наяву, Богдану казалось, что
он слышит его дыхание. Когда наутро он рассказал об удивительном сне, Идари
погрустнела и сказала, что это посетил их дом дух деда, что дед скучает о
них. Вечером, когда Богдан собрался с Гидой выехать с ночевкой на рыбную
ловлю, Идари подозвала сына в сторонку и спросила:
— Ты часто вспоминаешь деда и большой дом?
— Там жил дед, он и мне наказал в нем жить. Ты же знаешь, я теперь
Заксор.
Идари взглянула в светлые глаза сына, и Богдан впервые заметил мелкие
морщинки вокруг глаз матери.
— Никогда дети не отказываются от фамилии отца... Отец тебе ничего
худого не сделал.
— Я не говорил...
— Но ты переходишь в род Заксоров, в мой род.
— Так велел дед, об этом знает и другой дедушка, отец папы.
Идари долго не находила слов, потом с надеждой в голосе спросила:
— Но ты не покинешь нас, не уедешь в Нярги?
— Не знаю, мама, я пока ничего не знаю.
Богдан сел в оморочку и отъехал от берега. Рядом ехал Гида и пел
протяжную песню без слов. Когда берестянки далеко отъехали от берега, подул
слабый низовик, юноши натянули свои квадратные паруса. Оморочки, как
белокрылые чайки, полетели вперед: ветер усиливался, озеро взбугрилось
волнами, и берестянки заскользили с волны на волну.
В Дэрмэн рыбаки добрались мокрые от брызг волн. Пристали с подветренной
стороны, разожгли костер и начали сушить халаты. Гида находился под
впечатлением лихой езды и продолжал горланить песню. Потом вдруг спросил:
— Ты чего такой грустный?
— Не могу пополам разделиться, потому невеселый.
— Ну и оставайся с нами. Чем здесь хуже? Те же звери, та же рыба, кроме
калуг и осетра.
— Низовик всегда дует с низовьев Амура, верховик — с верховьев. Даже
ветры не изменяют свое направление.
— Сказал тоже, то ветры, а ты человек.
Халат Богдана высох, он накинул его на плечи и сел на песок. Гида сидел
с другой стороны костра.
— Я тебя слушался, Гида, — сказал Богдан. — Потому что ты старше
меня...
— Вот, вот, я старше тебя! — воскликнул весело Гида. — Я говорю тебе,
оставайся с нами, я очень хочу, чтобы ты с нами жил. Ты знаешь, почему я
несколько раз не выезжал с ночевкой из Джуена? Нет, ты молод еще, ты не
догадываешься. Я, Богдан, анда, нашел девушку, она такая красивая, такая
хорошая, она лучше всех, и другой такой нет. Я женюсь на ней, обязательно
женюсь!
Богдана нисколько не затронуло признание Гиды, наоборот, он обиделся и
подумал: «Я от него совета жду, а он о женитьбе говорит».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Четвертый день жил Валерий Вениаминович в Нярги. За это время он
заполнил несколько своих блокнотов, записывал свои мысли, описания изделий,
срисовывал орнаменты, учился ставить самострелы, одним словом, он стал в
стойбище своим человеком.
Особенно его интересовали в Нярги кустарные изделия, нигде в других
стойбищах он не встречал таких искусных вышивальщиц, как в Нярги, их
орнаменты на халатах поражали своим своеобразием, законченностью рисунка,
подбором цветов. А какие встретил здесь красивые берестяные изделия, разного
рода круглые и квадратные коробки для хранения продуктов и одежды, туески
для сбора ягод!
«Эх, если бы видели горожане эти вещи! Глаза разгорелись бы. И все это
богатство остается в стойбище, оно неизвестно никому, — думал Валерий
Вениаминович. — Нашелся бы торговый посредник, мог бы возникнуть весьма
прибыльный промысел у гольдов».
«Чтобы заниматься другими промыслами, гольды должны научиться
рационально тратить время», — рассуждал он. В каждом стойбище он
устанавливал наблюдение за охотниками, тщательно, по часам записывал их
световой день. В Нярги следил за Пиапоном. За четыре дня Пиапон только
дважды выезжал на рыбную ловлю, остальное время лежал на нарах, дремал,
курил, баловался с внуком, даже не ремонтировал сети и орудия охоты.
Валерий Вениаминович несколько раз пытался с ним побеседовать, но Пиапон
оказался крайне неразговорчивым человеком. Сегодня Пиапон наконец-то
забрался под амбар и в тени вырезал из коры бархатного дерева поплавки для
сети.
Ломакин около часа сидел возле него, но разговор между ним и Пиапоном не
завязывался: Пиапон все еще чувствовал сильную боль в затылке, и от этого
временами темнело в глазах.
— Скажи, мог бы ты сейчас какой-нибудь работой заработать деньги? —
наконец задал Ломакин свой коронный вопрос.
— Нет, — ответил Пиапон.
— Но как же? Мог бы пойти к русским, пилить дрова, например.
— Нет.
— Вот сейчас затопило луга, сена трудно заготовить крестьянам. Мог бы
пойти косить?
— Я, нет.
— Почему?
— Не умею.
«Какой надоедливый, как муха, которая не дает спать, — подумал
Пиапон. — Грамотный человек, а душу человеческую не понимает. Кроме
болезни, у меня душа не лежит сено косить, понимаешь?»
«Целыми днями лежит, а такой здоровый, — думал Ломакин. — Эх, матушка
лень! А подойдет осенью кета, тогда проснешься, тогда глаз не сомкнешь.
Научить тебя надо каждый день трудиться. Но какая тебе работа подойдет —
бог его знает».
Еще с полчаса продолжалась эта странная беседа и прервалась только с
появлением нового гостя. Пиапон сидел спиной к берегу и потому не заметил,
как пристала напротив его дома просмоленная остроносая лодка с одним
гребцом. Гребец подтянул лодку и направился в дом Пиапона. Собаки,
бросившиеся ему навстречу, завиляли хвостами.
— Ах вы, разбойники, что же вы такие худые! — сказал приезжий
хрипловатым голосом. — Хозяин не кормит?
Пиапон, услышав этот голос, обернулся и вылез из-под амбара.
— Здравствуй, Пиапон, все еще хандришь? — сразу стал допрашивать
гость. — Митрофан велел кланяться, отец его тоже.
— Здоровы они все? — спросил Пиапон, пожимая руку приезжему.
— Здоровы, все здоровы, и дети, и телята, и поросята, — но тут гость
заметил выползавшего из-под амбара Ломакина и замолчал.
— Всегда приятно встретить русского в гольдских стойбищах, — сказал
Ломакин, подавая руку.
Приезжий протянул руку и спросил:
— С кем имею честь разговаривать?
— Ломакин Валерий Вениаминович, приват-доцент Дальновосточного
института. А вы, видно, тоже по служебным делам?
— Глотов Павел Григорьевич, пока без службы, но с осени собираюсь здесь
открыть школу.
— Благородное дело собираетесь делать, сударь.
— Только собираюсь, но что из этого благородства выйдет — не знаю.
— Да, да, школы в стойбищах весьма трудная проблема, я бы сказал, даже
труднейшая. Вы, конечно, имеете опыт работы в инородческих школах?
— Представьте, нет.
— Значит, вы первый год будете работать?
— Совершенно верно.
— Но вы раньше работали в...
— Не пришлось, не работал я в школах.
Ломакин удивленно смотрел в серые, улыбчивые глаза Глотова.
— Не удивляйтесь, господин приват-доцент, — продолжал Глотов, — так
уж вышло в жизни.
— Да, да, время такое не постоянное, господин учитель, — растерянно
проговорил Валерий Вениаминович.
Пиапон воспользовался наступившей паузой и пригласил гостей в дом,
Дярикта накормила их обедом, напоила чаем. После обеда гости Пиапона
разговорились.
— Вам придется очень трудно, Павел Григорьевич, — продолжал Ломакин
начатый за столиком разговор. — В основном из-за денежных средств будете
испытывать трудности. Сколько школ закрывали из-за отсутствия средств. Вот у
меня статистика некоторая, — Ломакин достал из кармана записную книжку. —
Видите ли, у меня тут некоторые данные, всегда под рукой. Так вот, в 1906
году закрыты школы в Нижних Халбах, в Вознесенском, в 1909 году в Троицком,
в этом же году закрыли в Диппах из-за оспы, умерло девять детей.
— Могу дополнить, в прошлом году закрыли школу в Болони, — сказал
Глотов.
— Да, да. А еще трудность, охотники весьма неохотно отдают детей в
школу.
— Специально по этому делу приезжаю сюда.
— Вы разве рядом живете?
— Совсем рядом, в Малмыже. Езжу на своей лодке, и за это меня
прозвали... Как меня прозвали, Пиапон?
— Кунгас, — улыбнулся Пиапон.
Вскоре Ломакин раскланялся и вышел из дома. Пиапон усмехнулся и сказал,
что не встречал еще такого странного русского, как этот Ломакин. Потом между
ним и Глотовым пошел разговор об учениках, которые будут заниматься в школе.
— Я тебе говорил, Кунгас, — сказал Пиапон. — Учи детей летом, летом
они все дома, нечего им делать, и учиться охотно будут. Потом тебе надо
учиться по-нанайски говорить.
Павел Григорьевич обошел вместе с Пиапоном четыре фанзы и уговорил
родителей отдать в школу своих детей. Родители не возражали, но сами
сомневались, будут ли дети учиться. Покончив с переговорами и обговорив с
Холгитоном о ремонте старой фанзы под школу, Глотов пошел к Ломакину.
Этнограф сидел возле палатки и что-то записывал в толстую тетрадь. Увидев
Глотова, он отложил тетрадь и поднялся навстречу гостю.
— Милости прошу, господин Глотов, — сказал он и, когда гость сел в
тени тальника, продолжал: — Проехал несколько стойбищ, расспрашивал многих
охотников, на какие средства они живут, говорят, живем. Но на что они живут?
— Вы знаете, я давно заметил, гольды очень гордый народ.
— О да, да, но этот гордый, талантливый народ вымирает. Это ужасно!
Придумали еще всякие запреты на охоту соболя. До петрова дня не стреляй, по
насту не гоняй, а ведь от загнанного лося иногда зависит жизнь всей семьи,
целого рода. Вы согласны?
— Да, господин приват-доцент, в основном. Не согласен вот с чем,
соболи — это украшение нашей тайги, это наша национальное богатство. Я
слышал, что их катастрофически уничтожают. Если не запретить вовремя охоту
на них, то через несколько лет в тайге не останется ни одного соболя.
— Что нам соболи, когда целый народ вымирает!
— А нельзя сохранить и соболей, и народ?
— Как вы хотите это сделать?
— Этому народу дать другую жизнь, научить их вести хозяйство, приучить
их земледелию, животноводству.
— Но согласитесь, господин Глотов, земледельцы и животноводы все же
стоят на более высшем уровне культуры, чем охотники и рыбаки. Следовательно,
нужно поднимать их культурный уровень.
— Для этого открываются школы.
— Все это верно, я сам много размышлял над этим. У меня уже сложилась
своя концепция. Чтобы спасти гольдов, надо отвести им территорию, на которой
они могли свободно жить, охотиться, рыбачить. Такие территории, подобные
территориям северо-американских индейцев.
— План ваш хорош, Валерий Вениаминович, — сказал Глотов, — но вы сами
мне сегодня твердили, что система господина Ильминского хороша тем, что она
требует русского языка, чтобы через них гольды сближались с русским народом,
приобщились к русской культуре. А ваш план требует отделения гольдов от
русских в отдельных территориях, резервациях. Как вы думаете, здесь нет
противоречия?
Ломакин мгновенно ответил:
— Нет, никаких противоречий нет. Гольды очень набожный народ, глубоко
религиозный, они считают себя слитыми с природой в один грандиозный
комплекс. Если русские отняли у них шаманство, то должны его чем-то
возместить. Я полагаю, что никакой первобытный народ нельзя вовлечь в
европейскую культуру, не обратив его в христианство. А что касается
резервации, туда должно проникнуть христианство...
— Следовательно, гольды потом, приняв христианство, вернутся к нам из
резерваций?
— Зачем? Их территория остается неприкосновенной.
«Ох и путанник, действительно странный человек», — подумал Глотов.
— Господин приват-доцент, а без этих резерваций, без христианства
нельзя спасти гольдов от вымирания?
— В данных условиях невозможно.
— А если будут другие условия?
— Какие условия? Что вы имеете в виду?
— Например, революцию.
— При чем тут ваша революция? Вы где-то там в России играете в
революцию, за это ссылаетесь в дальние края, губите молодость, а гольды тут
при чем? Они еще дикари, и ваша революция и никакая другая революция их
сразу не сделает культурным, цивилизованным народом. Вы социал-демократ.
— Допустим.
— Так вот, до вашего социализма им так же далеко, как от Земли до Луны.
Когда победит ваш социализм, к этому времени гольды, если не вымрут, то
только научатся четырем действиям арифметики.
— Вы, оказывается, не такого уж высокого мнения об опекаемом вами
народе.
— Я вам говорю историческую правду.
— Да, история, история, — вздохнул, поднявшись с земли, Павел
Григорьевич. — До свидания, Валерий Вениаминович, мне было очень интересно
побеседовать с вами.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Кэкэчэ с Идари чистили наловленную сыновьями рыбу, тонкими пластами
снимали мясо на летнюю юколу, костяк нанизывали на шест-гултухин и
подвяливали для собак. Идари, мастерица изготовления рыбьего жира,
вытапливала жир сазанов, муксунов, амуров, а Кэкэчэ отваривала рыбу, чтобы
потом из нее приготовить таксан (Таксан — нанайское блюдо из рыбы.). После
полудня вся рыба была убрана, ровными рядками на сушильне вялились юкола
нескольких сортов, костяк для собак, а большой толстый амур с распоротым
брюхом висел отдельно в тени.
«Любимые его бингси (Бингси — пельмени.) приготовлю», — думала Кэкэчэ,
отмахивая от амура толстых зеленоватых мух.
— Сегодня он обязательно вернется, вот увидишь, он сегодня к вечеру
вернется, — сказала Кэкэчэ. — Когда его оморочка покажется на мысе Сиглян,
я начинаю крошить рыбу на бингси, а ты готовь тесто.
— Хорошо, эгэ (Эгэ — сестра.), — ответила Идари. — Сегодня он
вернется, не может без дела так задерживаться. Отец Богдана тоже
беспокоится.
Кэкэчэ не находила себе места, она несколько раз ходила на озеро за
водой и подолгу простаивала, глядя в сторону Амура, на синеющие болонские
сопки. Она ждала Токто, он уехал всего на два дня в Болонь и задержался там.
Что с ним могло случиться? Заболел? Кэкэчэ привыкла к тому, что Токто
никогда не болел в жизни, и не могла представить его больным. Встретился с
друзьями и пьет? Он никогда не пил по три-четыре дня, как пили некоторые
охотники. Кэкэчэ даже в мыслях не могла представить, чтобы с ее мужем могло
случиться несчастье: Токто каждый год попадал в такой переплет, из которого
другой не вышел бы живым. Только за зиму и весну этого года дважды находился
у порога к буни: зимой добивал ножом разъяренного медведя, а весной попал в
полынью на Харпи, утопил половину продуктов, которые вез из Болони, но сам
все же выбрался на крепкий лед, спас всех собак, вытащил нарту.
«Нет, с ним ничего не может случиться, — шептала Кэкэчэ. — Сильного
ветра не было, озеро не бушевало, если бы оно бушевало, то ехал бы по
берегу — впервые разве он ездит по озеру?»
Только к вечеру, когда солнце уже цеплялось за вершины деревьев на
острове Чиора, Кэкэчэ увидела оморочку, огибавшую мыс Сиглян.
— Едет, он едет! — обрадованно воскликнула она, молодо поднялась на
сушильню, сняла амура и начала разделывать.
Когда Токто причалил к берегу, Кэкэчэ заканчивала готовить фарш для
пельменей, она насыпала в фарш сушеной черемши, соли, торопливо ополоснула
руки в содо и побежала встречать мужа.
Токто вернулся усталый и молчаливый: Кэкэчэ взглянула на мужа и сразу
поняла, что с ним приключилась какая-то беда. Токто улыбнулся ей, поцеловал
Гиду и Богдана и спросил:
— Чего вы такие хмурые?
— Да вот, мама беспокоилась, — пробормотал Гида.
— Она женщина, что же ей больше делать, если не беспокоиться? Как
рыбалка? Какой зверь вам встречался?
Токто опять смеялся, шутил с Богданом и Гидой, подтрунивал над женой, а
когда поднялись в фанзу, его было не узнать, будто он не плыл больше
половины дня на оморочке и не греб двухлопастным маховиком, был свеж, силен
и весел. Кэкэчэ смотрела на повеселевшего мужа и тоже испытывала радость,
она забыла о недавней тревоге.
Токто тем временем рассказывал о новостях на Харпи, но о своей поездке в
стойбище Болонь ни одним словом не обмолвился. Его не торопили, все знали,
сколько бы ни прошло времени, Токто сам без их расспросов расскажет. Кэкэчэ
поставила перед мужчинами столик, Идари подала вкусно пахнущие горячие
пельмени. Мужчины стояли молча, изредка перебрасываясь словами, потом пили
горячил густой чай.
Наступили летние густо-синие сумерки, в фанзе стало жарко от выпитого
горячего чая, и мужчины вышли на свежий воздух покурить трубки перед сном.
Вслед за мужчинами вышли и Идари с Кэкэчэ.
— Поездка моя неинтересная была, — начал рассказ Токто, попыхивая
трубкой. — Торговец У всем жалуется, что торговля его все сокращается, что
русские не разрешают ему продавать водку, а без водки — какая торговля?
— Как же без водки обойтись? — возмутился Пота. — Мертвого не
похоронишь, поминки не сделаешь, касан не справишь, свадьбу не сыграешь. Как
же так?
— А если кто заболеет, шамана не пригласишь, — сказала Кэкэчэ.
— Про няргинских слышал, — продолжал Токто рассказ, — про твоих
братьев, Идари, всякое рассказывают люди, особенно про старшего, Полокто.
Говорят, он решил разбогатеть. Потом перед отъездом встретил Пиапона, он
приезжал в Болонь по своим делам. Все они здоровы, о вас расспрашивал. Тебе,
Богдан, просил передать, что приехал в Нярги русский учитель, будет детей
учить грамоте.
Богдан ничем не выдал своей радости, он сидел неподвижно возле Гиды, и
со стороны казалось, что он продолжает слушать рассказ Токто. Но на самом
деле Богдан уже ничего не слышал, в ушах у него звенело от волнения.
Учиться! Богдан должен учиться — так велел дед. И Богдан будет учиться!
Взрослые поднялись и пошли спать, а мальчик продолжал сидеть на месте.
— Ты на всю ночь тут останешься? — спросил Гида, дотрагиваясь до его
плеча. — Наверно, опять о Нярги вспомнил? Что же тебя туда тянет? Не
влюбился ли ты там в девчонку?
— Сам ты жених, — огрызнулся Богдан, недовольный вмешательством Гиды.
Гида поднялся, сделал несколько шагов, потом вернулся, сломал ветку с
куста и молча стал ее грызть.
— Богдан, не уезжай, я тебя сам, от себя прошу, — сказал он тихо. —
Мы с тобой росли вместе, мы росли как два родных брата.
— Мы с тобой братья, Гида, я хочу, чтобы мы всю жизнь оставались
братьями, — сказал Богдан. — Ты думаешь, мне не жалко отца и мать? Жалко.
И расставаться больно. Но я дал слово деду и обязан слово выполнить. Человек
всегда должен быть честным.
— Ну и оставайся честным.
— Ты взрослый, Гида, — продолжал задумчиво Богдан. — Я тоже скоро
стану взрослым, ты женишься, я тоже, наверно, женюсь, все это делают, —
смущенно добавил он и почувствовал, как загорелись уши. — Мы будем
взрослые, и кто знает, что станет с нами. Может, нам надоест Харпи и мы
переедем на Амур.
— Я никогда не перееду!
— Ты не переедешь, может, я перееду, кто знает. Это я говорю, что может
случиться в будущем, а сейчас я хочу учиться, хочу быть умным.
— А мы что, безмозглые, как касатки? У нас ума нет?
— Ум есть у всех, — Богдан не мог объяснить, почему одни люди умнее,
другие глупее, и потому перевел разговор на другое. — Я выполняю свое
слово, как честный человек. Я стану Заксором, как обещал деду.
— Хотел я, чтобы тебе лучше было, а ты... — Гида отвернулся и пошел к
фанзе своей возлюбленной.
Богдан проводил его взглядом, и вдруг ему стало грустно, он понял, что
не избежать тяжелого разговора с отцом и матерью, они опять будут
уговаривать, отец начнет сердиться, кричать, мать, конечно, зальется
слезами. Как тяжело смотреть, когда плачет мать!
«Надо крепиться, надо быть таким же сильным, какой был дед», —
подбадривал себя Богдан.
Токто с Потой в это время уже лежали под тонкими летними одеялами и не
могли сомкнуть глаз; каждого из них мучили свои думы. Как только Пота
услышал о русском учителе, он уже знал, что сын опять покинет Харпи и уедет
в Нярги. А что предпринять, чтобы удержать сына у себя, Пота не мог
придумать. И он начинал злиться на самого себя, на Баосу, который околдовал
его сына, на его русских друзей Колычевых.
«Старик Баоса и после смерти мстит мне», — думал он.
Вспомнился ему и первый разговор с Богданом, когда сын заявил, что он по
воле деда становится Заксором.
— Как это? — не понял Пота. — От своей семьи отказываешься?
— Да.
— Ты же мой сын, а я Киле.
— У меня много и заксоровской крови, так говорил дед. Я буду жить в
большом доме.
Пота рассердился. Он кричал, ругал на чем свет стоит покойного Баосу, и
тогда, впервые за все годы совместной жизни, Идари топнула ногой. Она так
швырнула об пол чугунный котел, что обломки посыпались во все стороны.
— Хватит! Не смей больше его трогать! — закричала она не своим
голосом.
Поте показалось, что это Баоса кричит на него, а не любимая жена. После
этого случая Пота больше не говорил ни с Богданом, ни с Идари о переходе
сына из рода Киле в род матери — Заксорам, но думать об этом постоянно
думал. Никогда Пота не слышал, чтобы сыновья отказывались от рода отца и
переходили в род матери, другие дело дочери, про них сами родители говорят:
«Это не наш человек».
Охотники, соседи Поты, услышав о решении Богдана, хмурились и качали
головой: «Как же он осмеливается бросить родителей?» «Родителей молодые и
раньше покидали», — как бы мимоходом замечали другие, и Поте казалось, что
они имели в виду его самого, Токто и Улуску. Токто — другое дело, его отец
просил бежать от кровной мести, а он, Пота, сам покинул отца с матерью из-за
любимой девушки; Улуска ушел от родителей, потому что не мог уплатить тори
за невесту. Да, Пота с Улуской покинули престарелых родителей. Пота вспомнил
короткие встречи с отцом, его неумелую, стыдливую ласку, и вдруг ему стало
казаться, что в потере старшего сына не Баоса виноват, здесь действуют
какие-то другие силы, скорее всего — злые духи, которые мстят за двух
обиженных стариков: Гангу и Баосу. Тогда Пота понял, что и ему в жизни
предназначены те же муки страдания, которые вынесли эти два старика.
Токто не спалось, он нащупал в темноте трубку и закурил. Горьковатый дым
всегда настраивал его на спокойный лад, вместе с ним будто улетучивались
тревожные думы.
— Что с тобой, отец Гиды? — спросила Кэкэчэ.
— Спи, ничего со мной не случилось, — ответил Токто и почувствовал
неловкость оттого, что сказал жене неправду. А Токто был встревожен не на
шутку. В день приезда Токто в стойбище справляли свадьбу. Молодой охотник с
реки Горин женился на болонской девушке. Токто много лет не встречался с
людьми с реки Горин, боялся выдать свое место пребывания. Но на этот раз не
сдержался. Он выпил и стал о себе рассказывать.
— Э, да я тебя знаю! — воскликнул пьяненький жених. — Наши деды и
отцы враждовали между собой. Я вспомнил это сразу, как ты назвал свое имя.
— Как звали твоего отца? — спросил Токто и почувствовал, как запершило
в горле.
Жених назвал имя своего отца. Токто сразу протрезвел.
— Тебя, Токто, ищут, — продолжал горинец. — Но мне до этого нет дела.
Привезу жену и буду жить. Пусть отец и дяди тебя ищут, это их дело. Верно я
говорю?
После этого разговора Токто потерял покой. На следующий день через
друзей достал немного водки и пошел к Лэтэ Самару, с которым однажды вел
переговоры о женитьбе сына.
У Лэтэ была дочь на выданье, белолицая красавица с рыжеватыми до пят
косами. В Болони говорили, что за нее уже сватались несколько юношей, но
Лэтэ запросил такой тори, что все юноши вынуждены были отступить.
После первой же чарочки водки Лэтэ стал жаловаться на жизнь, на новые
времена, на новые законы.
— Быстрее бы забрали меня в буни, — сказал Лэтэ.
«Он спешит в буни, а я жажду жизни, — подумал Токто. — Хочу, чтобы на
земле мой род продлился, хочу, чтобы в этой жизни и моя кровь бурлила, — но
тут же спохватился. — Моя ли кровь? Ведь сын все же не моей крови».
— Жизнь хороша, Лэтэ, какая бы она ни была — всегда хороша, — сказал
он вслух, — Новые законы не для нас, это для русских, потому что соболей
запрещают ловить, а ты ловишь, водку запрещают, а ты пьешь. Чего жаловаться
на жизнь? Я тебе сразу скажу, зачем пришел, ты меня знаешь — я прямой
человек. Я пришел за продолжением своей жизни. Чтобы продолжить себя, я
должен иметь внуков, для того, чтобы иметь внуков, мне требуется невестка. Я
пришел просить тебя...
— Ты уже просил, Токто, — перебил его Лэтэ. — Мне
охотнику-неудачнику, несмелому человеку лестно породниться с тобой. Держу
дочь для твоего сына. Видишь, я тоже прямой человек. Тори тоже большое не
попрошу.
Токто растрогался и пил весь день с Лэтэ, позвал друзей и пил второй
день.
Вернувшись домой, Токто не застал сына. Наступила ночь, а Гида все не
возвращался. Токто улегся в постель, но долго не смог заснуть. «Если молодой
горинец сказал, что его отец и дяди ищут его, — думал он, — то теперь
всегда должен быть осторожен. Но прежде всего ему надо быстрее женить сына и
быть уверенным, что род его, Гаеров, будет продолжен. Тогда он готов
сражаться с кровниками, если они этого хотят».
На следующий день он пригласил Гиду в лес. Они отошли подальше от фанз и
сели под раскидистыми ветвями дуба. Закурили.
— Рано ты поднялся сегодня, раньше меня, — сказал Токто.
— Я не ложился спать, — сознался Гида.
— На охоте был?
— Нет, — Гида густо покраснел.
— А, понимаю, сын, все мы были молоды.
Отец с сыном замолчали.
— Я тебя позвал, чтобы поговорить о женитьбе. В Болони есть девушка,
очень красивая, красивее ее трудно найти. Ты Лэтэ Самара знаешь? А его дочь
зовут Гэнгиэ. Вот я и решил ее тебе в жены взять. Отец согласен, мы можем
завтра же поехать и сосватать.
— Отец, может... — Гида поперхнулся дымом.
— Что ты хочешь сказать?
— Может, подождем.
— А чего ждать? Тебе уже много лет, ты можешь уже детей иметь.
Токто взглянул на сына и, заметив его смущение, подумал, что Гида
стесняется вести этот мужской разговор.
— Ничего, Гида, все будет хорошо, ты быстро привыкнешь к жене, ты ее
полюбишь, она тоже полюбит тебя, как же не полюбить такого охотника?
— Отец, я люблю.
— Правильно, в твои годы все влюбляются.
— Нет, отец, я люблю другую.
— Это ничего, это пройдет, поженишься, и пройдет.
— Отец, я не хочу другую.
Токто ошеломило упрямство Гиды, и он недовольно засопел трубкой. Как же
ему теперь поступить? Он с водкой упросил Лэту отдать дочь за его сына,
договорились о тори, о времени свадьбы. Что же ему теперь делать? А он,
Токто, еще думал, что здесь, под густой листвой дуба, он обрадует сына. А
потом они преподнесут эту радостную новость Кэкэчэ, Поте и Идари.
— Кто она, откуда? — сухо спросил Токто.
— Здешняя...
— Дочь Пачи?
— Да.
«Эх, сын, выбрал же ты невесту, — с горечью подумал он. — Эта разве
стоит Гэнгиэ?»
— Сын, родной мой, может, ты поедешь в Болонь, со стороны посмотришь на
Гэнгиэ, а? Увидишь, которая лучше.
— Я так знаю, мне не надо другой.
— Гида, я никогда не попрекал тебя ничем, всегда уступал и теперь
впервые я хочу пойти против твоей воли. Я договорился с отцом Гэнгиэ, дал
слово.
— Все равно я не хочу Гэнгиэ. Никто меня не заставит...
— Я могу, я твой отец! — впервые прикрикнул Токто на сына.
Гида упрямо сжал губы и тихо сказал:
— Нет, отец.
Токто медленно поднялся и, не говоря ни слова, зашагал в глубь душной,
шелестящей листвой, тайги. В висках тяжело стучало, и он шептал: «Чужая
кровь, чужая кровь. Разве своя кровь стала бы не слушаться... Чужая, чужая».
ГЛАВА ПЯТАЯ
Полокто много думал о богатой жизни, завидовал малмыжским торговцам
Салову и Ворошилину, болонскому торговцу У. Полокто хотел иметь лавку,
полную товаров, сундуки, полные добра, две или три жены и в придачу
спокойную, размеренную жизнь без хлопот и размышлений о завтрашнем дне. Он
хотел бросить беспокойную и полную опасностей жизнь таежного охотника и
амурского рыбака. Пока он выполнил только одно свое желание — заимел вторую
жену беспутную красавицу Гэйе. А богатство все не приходило, да и откуда оно
берется — Полокто толком не знал. Он приглядывался к жизни малмыжских
торговцев, пытался понять секрет их обогащения, но не мог разобраться в их
жизни, торговле, не мог открыть тайны обогащения.
Однажды он вдруг сделал открытие, что не разбирается в ценах товаров, в
разменных деньгах, и с болью в сердце махнул рукой на торговлю и перестал
думать о своей лавке с товарами. Ему казалось, что торговлей способны
заниматься только русские и маньчжуры. Но тут вернулся Пиапон и опять
взбудоражил брата. Оказывается, не только русские и маньчжуры могут
обогащаться, есть богачи и среди нанай!
Эта новость подхлестнула Полокто, подбодрила, придала уверенность в свои
возможности. Он теперь с усмешкой вспоминал о своих страхах перед товарными
ценами, денежными расчетами. «Не понимаю? Да, не понимаю. Но если другие
нанай научились торговать, то чем я хуже их? Научусь!» — думал он.
Первая торговая операция, которую задумал Полокто, принесла ему много
хлопот и переживаний. В год поездки Пиапона в маньчжурский город Сан-Син
Полокто с помощью русских мастеров засолил две бочки кеты. Все няргинцы
тогда потешались над ним.
Полокто не притрагивался к соленой кете, бочки стояли у него под
амбаром, чернели клепки, ржавели обручи.
Осенью Полокто несколько раз пытался продать обе бочки Саньке Салову, но
у того хватало своей рыбы, и он отмахнулся от нее. Но Полокто знал, как
тяжело бывает с едой ранней весной, пока не вскроется Амур, и он решил
подождать с продажей кеты.
К великому удивлению няргинцев, Полокто ранней весной продал обе бочки
кеты тому же Саньке Салову и заработал неслыханные деньги. Теперь настала
очередь Полокто посмеиваться над сородичами: мол, кто был прав, я или вы,
почему, мол, теперь не смеетесь. Осчастливленный Санькой, охотник не
догадывался, как был обманут молодым, но уже широко известным на Амуре,
торговцем. Следующей осенью Полокто вновь засолил кету, и ее оптом закупил
Санька. Полокто опять заработал немало денег.
Счастливое торговое восхождение Полокто продолжалось года два, за это
время он заработал невиданные охотниками деньги, но эти деньги не оседали на
дне берестяного сундучка, большая часть уплывала на закупку соли и бочек.
Торговля не принесла желаемого богатства.
На третий год торговой деятельности Полокто Санька развернул рыбный
промысел на Нижнем Амуре и перестал интересоваться мелкими барышами. Полокто
стал продавать рыбу Ворошилину, но тот платил так мало, что денег едва
хватало на соль. И Полокто махнул рукой на торговлю.
Но мысль о богатстве не покидала его, и он решился на новое предприятие.
Вместе с сыновьями он начал готовить дрова для пароходов. Ему помогали
родственники, братья: Пиапон, Калпе, Дяпа. Он решил, что заработает нужные
деньги, потом что-нибудь придумает, чтобы эти деньги выросли вдвое, втрое.
— У нас нет су богатства, но зато мы кое-что знаем, — говорил он с
таинственностью.
Но Полокто ничего не знал, просто его попечитель Санька Салов подсказал
заготовлять эти дрова и обещал при первой же возможности сбыть их. Салову
это ничего не стоило сделать, потому что он, видный рыбопромышленник,
фрахтовал суда на Амуре и эти же суда обеспечивал топливом. Полокто, правда,
подзаработал немного денег, на что, опять-таки по совету Саньки, начал
закупать у охотников соболей и перепродавать торговцам. Этот оборот немного
увеличил капитал Полокто, и он возгорелся желанием еще больше приумножить
его. Тут его наставник продал ему продольную пилу — давнишнюю его мечту.
Полокто часами сидел на берегу в Малмыже и смотрел, как русские пилили
доски. Ему эта работа казалась игрушечной. Стоит один пильщик наверху козел,
другой внизу и пилят: шорк, шорк, шорк — и не успеешь выкурить трубку —
доска готова. Есть один борт лодки! Покурили, отдохнули и опять: шорк, шорк,
шорк — готова вторая доска — есть второй борт лодки. Потом доска на днище
готова. Из одного бревна можно изготовить три, четыре двухвесельных или
одновесельных лодок. Это ли не мечта нанай!
Полокто смотрел, с какой легкостью русские пилили доску за доской.
Однажды он попросил, чтобы ему разрешили немножечко попилить.
— Попробуй, попробуй, — сказал нижний пильщик, снял большие
«лошадиные», как называли их нанай, синие очки и передал Полокто. — Евсей,
вот тебе новый напарник!
Полокто принял стойку пильщика, левая нога чуть впереди правой, тело
выпрямлено. Готово, можно начинать. Евсей вытянул пилу, теперь была очередь
Полокто тянуть вниз. Полокто потянул пилу на себя, острые зубья чуть задели
мягкое тело кедра, но не послышалось знакомого звука «шорк». Второй раз
Полокто резво дернул ее, всем телом подавшись вперед, зубья глубоко впились
в бревно, и пила завязла.
— Нет, с ним каши не сваришь, — сказал Евсей сверху.
— А ты погодь, не к спеху, — ответил его напарник. Он подошел к
смутившемуся Полокто, взял за ручку пилы и сказал:
— Ты не дергайся. Пила треба мягкости. На себя не тяни, да вперед
слишком не поддавайся, понял али не понял?
Полокто понял, что не надо тянуть на себя, не надо слишком вперед
поддаваться. Но как найти ту середину, когда пила с приятным шорканьем
опускается, брызгая мягкие ароматные опилки на твое лицо, когда от
удовольствия хочется смеяться, он не знал.
— Ничего, паря, не выйдет, понимаешь? — говорил Евсей, слезая с
козел. — Я уж и так и эдак приноравливался к тебе. Нет, ничего не выйдет. У
тебя души нет к ней.
— Душа, душа, будто ты сразу и стал пилить, — возразил его напарник.
— А ты как думал, Ероша? Душа должна петь, пила поет, и душа должна
петь. У него душа на охоте только поет.
Полокто поднялся на козлы, встал на бревно и почувствовал легкое
головокружение. Он еще раз взглянул вниз, в глазах зарябило, и он ухватился
за ручку пилы.
Но как он ни старался, как ни прислушивался к добрым советам Ерофея,
пила все же не подчинялась ему. Полокто сполз с козел, сел возле пильщиков и
закурил трубку: к горлу подступала неприятная тошнота.
«А он там пританцовывает, — думал Полокто, слушая советы Евсея. — Нет,
этому делу надо научить сыновей. Всем доски нужны, скоро люди начнут строить
деревянные дома, тогда доски, охо-хо, как еще понадобятся! Лодки всякие
нужны. Даже для гроба доски требуются. Нет, это хорошее дело!»
И вот давнишняя мечта сбылась! В руке Полокто держал свою собственную
пилу, новую, еще густо смазанную маслом.
На следующий же день Полокто отправил двух сыновей Ойту и Гару в Малмыж
на выучку к русским пильщикам. Несколько дней молодые охотники учились у
малмыжских пильщиков, но приловчиться к пиле, приобрести сноровку Евсея с
Ерофеем так и не сумели.
— Этому надо долго учиться, — сказал Ойта.
— Не интересное дело, — заявил Гара и разгневал отца.
Полокто все же решил распилить несколько бревен. Посыпались со всех
сторон заказы, многим охотникам требовались доски в хозяйстве, многие хотели
сделать новые лодки. Няргинцы, как всегда, дружно вышли помогать сородичу.
На таежной стороне поставили козлы, свалили три толстых кедра, и вскоре Ойта
с Гарой начали пилить.
Няргинцы столпились вокруг козел, покуривали трубки и смотрели на
молодых пильщиков. Ойта, стоявший внизу, часто опускал пилу, тер глаза,
плевался: он работал без защитных «лошадиных» очков. Протерев глаза, вдруг
заметил, что пила отошла от намеченной линии, и понял, что доска получится
искривленная. Доска и на самом деле вышла скособоченная, не ровная, но все
охотники остались довольны: это была первая доска, спиленная их сородичами.
— Ничего, хорошо! — подбадривали они Ойту с Гарой. — Хорошая доска.
Правда, не такая ровная, как у русских, но ничего, выучитесь. Маленько криво
вышло, какая сторона толще получилась, можно обтесать.
— Выдумщик этот Полокто, смотрите, какое нужное дело придумал, —
говорили охотники. — Теперь досок будет вдоволь, на всех хватит.
— Мне бы лодку надо, совсем моя прохудилась.
— А мне на нары.
— Я бы себе оморочку сделал, — сказал Пиапон.
— Тоже выдумщик, берестянки плохие, что ли?
Полокто слушал эти разговоры и был доволен, людям требуются доски, даже
оморочки решили из досок делать, если они получатся крепкими, не верткими,
то все охотники захотят их иметь. Охо-хо, сколько досок потребуется! Много.
А каждая доска — это деньги.
Охотники приезжали помогать Полокто, они свалили еще несколько кедрачей,
приволокли к козлам. Теперь на таежную сторону приезжали и женщины, и дети,
им тоже хотелось взглянуть, как из бревен распиливают доски. Ребятишки
неожиданно для себя обнаружили прекрасное место для игр, под козлами на
мягких пушистых опилках. Охотники сидели и смотрели, как кувыркались их дети
на опилках, и им самим становилось радостно: скоро они сколотят новые лодки
и на них выедут на осенний лов кеты. Каждый из них облюбовал себе доски, но
все знали, что Полокто прежде всего отдаст их своим братьям, родственникам.
Ну и что ж, так должно быть, он хозяин, он и распоряжается досками.
Через полмесяца доски подсохли, и Дяпа с Улуской попросили у Полокто три
доски на лодку; бесхитростный Дяпа даже подсушил мох, чтобы законопатить
лодку.
— Доски можете взять, — не глядя на брата, ответил Полокто, — но вы
все знаете, пила мне дорого обошлась, это же редкая вещь, ее нигде не
достанешь. Потом сыновья работали, пилили, это трудное дело, вы сами все
видели. Так что не обижайтесь, доски даром я не отдам, за деньги буду
продавать.
Стоявший тут же самый младший из братьев Калпе вдруг побледнел, схватил
старшего брата за руку и сказал:
— Ты, видно, ага, шутишь? Своему родному брату...
— Пила дорого стоила, я много за нее заплатил.
Калпе больше ничего не мог сказать, позвал Дяпу с Улуской и выехал
домой. Охотники приуныли.
— Это новая жизнь настала, — сказал один из них.
— Человек решил разбогатеть.
Охотники говорили беззлобно, вроде бы обсуждали самый безобидный
поступок Полокто. Так казалось только внешне, но на самом деле каждый из них
считал себя обманутым, ведь они все эти дни помогали Полокто, как
родственнику, как односельчанину, соседу — так ведется издавна. Когда было
видано, чтобы сосед не вышел на помощь соседу, который строил дом или делал
лодку. Если бы даже Полокто не пообещал всем досок, а просто попросил бы
людей помочь ему свалить кедрачи и перетащить их на берег, все няргинцы
пошли бы ему помогать без мыслей о вознаграждении. Но зачем же надо было
обманывать все стойбище, всем обещать доски, потом заявить, что доски будут
стоить денег. А где у охотников деньги? У них есть руки, ноги да честная
душа, но денег, чтобы купить доски, нет.
Охотники покурили и разъехались. Больше никто не приезжал помогать.
Тогда Полокто обратился к Холгитону, знатоку и распространителю новой
религии.
— Дака, помоги мне, — сказал Полокто и хотел дальше было изложить свою
просьбу, но Холгитон важно поднял руку и ответил:
— Тебе, Полокто, только эндури может помочь.
— Эндури? — удивился Полокто.
— Кто же, кроме него, может переделать душу человека.
— Это зачем? — возмутился Полокто.
— Ты в молодости был другой. Ты был вспыльчив, как отец, зол, любил
кричать, но был честен. Теперь ты совсем другой. Отец твой до самой смерти
оставался честным, А где твоя честность? Не обманывай людей! Забудь думать о
богатстве, не бей жен и детей, молись мио.
Холгитон отвернулся, Полокто понял, что разговор не вышел.
«Душу мою переделать, попробуй переделай, — думал он шагая домой. —
Нашелся тоже мудрец!! Над ним все стойбище смеется, что дети его от
работника пошли, а он мудреца из себя строит. Меня никто не переделает, если
сам не захочу, а сам я никогда не захочу».
Когда он вернулся домой, Майда с Гэйе сидели на нарах друг против друга
и вышивали. Жена Ойты Мида хлопотала на улице.
— Сидите? — спросил Полокто жен. — Вышиваете? А молодая одна
работает? Разленились!
— Вышивание тоже работа, — ответила старшая жена Майда.
— По вечерам, когда нечего делать, можете вышивать! Разговорчивые какие
стали!
Полокто подбежал к женам, схватил Майду за руку и сдернул с нар. А
проворную Гэйе ветром сдуло вслед за Майдой.
— Будешь язык распускать! — Полокто ударил Майду в спину, и та упала
на пол.
— За что бьешь?! За что? — заплакала женщина. — Всю жизнь мучаюсь с
тобой, хотя бы смерть пришла быстрее.
— Умри, сука! Будто кто тебя жалеет!
Полокто сел на нары и закурил. Гнев, наполнивший его душу при разговоре
с Холгитоном, стал рассеиваться, как рассеивается табачный дым.
Явился хмурый Ойта. Полокто сразу понял, в чем дело. Ойта с младенческих
лет был очень привязан к матери и всегда огорчался, если видел, что отец
обижает ее. Но Полокто сделал вид, что не замечает недовольство сына, и
строго сказал:
— Завтра начнем лодки делать. Иди, скажи Дяпе и Улуске, пусть забирают
доски, какие им понравятся, скажи, что я денег не беру за них. Пусть лодку
себе строят на той стороне рядом с нами, а потом нам помогать будут.
Лодки Полокто решил строить после того, как сородичи отказались покупать
доски. Русские крестьяне из Малмыжа и Вознесенского охотно покупали
нанайские, легкие, устойчивые плоскодонки, давали за них хорошую цену.
Полокто с сыновьями начал строительство лодок. Дяпа с Улуской закончили
свою лодку и стали работать на Полокто. Сам Полокто вывозил лодки в Малмыж,
за хорошую цену, как он считал, продавал Саньке и возвращался обратно с
бутылками водки, с едой, с подарками. Он поил сыновей, брата с зятем и
хвастался, что умеет зарабатывать деньги без охоты и рыбной ловли. Он
раздавал подарки Дяпе и Улуске, давал за работу немного денег и вскоре
совсем прибрал их к рукам. Так брат с зятем стали его работниками.
— Дяпа, ты же мой родной брат, а ты зять Улуска, — говорил Полокто,
когда выпивали, — зачем нам ссориться? Разве я желаю вам плохого? Я ведь
теперь самый старший после смерти отца, и вы должны меня слушаться. Ну,
скажите, где вы сейчас могли бы заработать деньги? Русским косили бы сено?
Так это же непривычная работа, зачем она? Лучше у меня, спокойная работа, да
и денег получаете. Верно говорю? Водку пьем. Верно? А вот другие не
понимают, сидят дома, а помочь мне не хотят. Безмозглые, как кочки на мари!
Тьфу! Кочки и есть, а не люди. Вы им покажите деньги, которые я вам дал,
материи на штаны и рубашки покажите.
Выпившие Дяпа с Улуской послушно пошли к соседям, побреньчали
серебряными рублями и заманили кое-кого. Когда набралось в артели человек
десять, Полокто опять принялся за пиление досок. Работа закипела: пильщики
шоркали пилой на козлах, рядом обстругивали доски, заколачивали борта,
конопатили готовые лодки.
Полокто был очень доволен. Дела у него шли, как никогда, хорошо. Когда
он возвращался из своей верфи домой, в Нярги, то с усмешкой смотрел, как
Пиапон с учителем Глотовым сколачивали большую лодку, точь-в-точь похожую на
кунгас Глотова.
«Вот безмозглые, кому нужна такая лодка, — думал Полокто. — Ее и с
места не сдвинешь».
Полокто подходил к строителям, садился рядом и курил трубку.
— Большая, глубоко будет сидеть, — замечал он.
— А у тебя все маленькие? — спрашивал Пиапон.
— Всякие.
— Нам большая потребовалась.
Братья всегда мало разговаривали между собой, даже когда жили вместе в
большом доме, а теперь после долгих лет жизни врозь, при встрече
перекидывались двумя-тремя словами, и каждый считал, что удовлетворил
братские чувства друг к другу. Полокто всегда с неприязнью относился к
брагу, и Пиапон знал это. Молчаливый по своему характеру, он при встрече с
Полокто превращался в великого молчальника.
Выкурив трубку, Полокто поднимался и, не прощаясь, шел домой,
посмеиваясь над кунгасом брата. Он не знал для кого брат строит эту
громоздкую неуклюжую посудину, но догадывался, что она предназначена
Митрофану Колычеву.
Вскоре, после того как Пиапон засмолил свой кунгас и увез в Малмыж,
Полокто отправился вслед за ним с тремя новыми лодками.
— Полокто, друг дорогой, — встретил его Санька. — Сколько еще лодок
построишь?
— Сколько хочешь, — похвастался Полокто.
— А они не нужны больше. Не хотят их покупать.
— Как не хотят? Ты же сказал, что можешь сколько угодно купить и
распродать.
— Тогда я так думал, теперь не то время, в других стойбищах тоже нанай
делают лодки и продают. Все русские уже имеют лодки.
— Что мне тогда делать? — растерялся Полокто.
— Может, другие лодки будешь делать?
— Какие другие?
— А вон такие, как у Митрофана.
— Они тяжелые, неходкие, на них против течения не поднимешься. Сколько
гребцов требуется, чтобы двинуть такую лодку!
— А ты умеешь их делать?
— Нет, не умею, — сознался Полокто и вновь начал охаивать творение
своего брата.
— Помолчи, — оборвал его Санька. — Если я говорю, что нужны такие
лодки, значит нужны. Ты слышал, я на озере Шарго лес пилю и из глины
камни-кирпичи делаю? Кирпичи надо вывозить оттуда. Для этого кунгасы нужны.
Будешь делать?
— Не знаю, они не такие, как наши лодки.
— Ладно, у меня в Шарго есть человек, который умеет делать такие лодки,
он тебя научит. Ты будешь делать из моих досок, я тебя не обижу, хорошо
заплачу.
— А как мои доски?
— Продай.
— Никто не покупает.
— Пусть полежат, если кому понадобятся — купит.
Через несколько дней Санька заехал к Полокто, и они выехали на озеро
Шарго. Там жило несколько семей русских промысловиков, занимавшихся охотой и
рыбной ловлей, заготовкой кедрового ореха. Не против были они побродить по
бесчисленным ключам и ручейкам с лотком в руке. Но сколько ни бродили они,
никто из них не нашел золотую жилу, хотя она находилась у них под боком.
Узнали об этом золоте только прошедшей весной, когда несколько артелей
старателей внезапно нагрянули на Шарго и начали бешено забивать шурфы за
шурфами, да совсем замутили светлый звенящий ручеек. Мутная грязная вода
стекала в озеро. За лето старатели подобрали все шаргинское золото и
исчезли, оставив к осени разрытую землю и опоганенную речушку.
Ванька Зайцев долго искал, кто навел старателей на шаргинское золото, но
так и не дознался. Говорили, будто он подозревает кого-то из своих соседей и
угрожает его застрелить.
Когда Санька с Полокто приехали в Шарго, Зайцев первый вышел их
встречать. Он был в коротких заплатанных штанах, босой, ворот мокрой от пота
холщовой рубахи был расстегнут.
— Здорово, здорово, медведь! — поздоровался Санька.
— Ведмеди не бывают рыжие, понял? — ответил Ванька. — На охоту надо
ходить, купчишка. Ружо-то хоть держал от роду? Знамо, не держал. Привез
водочки? Давай, а то жара душит, горло просохло.
— Ты мне скажи, как дела идут.
— Зеньки есть — увидишь.
— Что пилите?
— Лодки будут здесь делать, — ответил за него Санька.
— А-а, это они умеют.
Ванька Зайцев был старшим над пильщиками.
Полокто вышел из лодки и пошел по берегу, где стояли пять козел.
«Да, Санька и правда весь лес здесь распилит на доски, — подумал он с
завистью. — Столько досок, да какие они разные, эти, наверно, для пола, те
для крыши. А эти очень подходят для нанайских лодок».
Полокто ощупывал доски, гладил их шершавую поверхность, вдыхал кедровый
аромат и думал, что будь у него столько денег, сколько у Саньки, он нанял бы
не десять пильщиков, а двенадцать, и козел бы поставил шесть. Но почему
именно шесть, а не семь, не восемь, он сам не знал. Ему просто было приятно
от мысли, что он имел бы чуть больше, чем Санька. Заметил он и то, как
расширилось поселение русских, появились три новых дома, значит,
увеличивается население, прибывают новые люди. Это тоже, конечно, не без
Санькиных рук. Осмотрел он и печь, где обжигали кирпич, прошел по рядам, где
сушился сырец, потрогал на крепость готовый кирпич.
Когда он вернулся на берег, Ванька Зайцев разливал по кругу пильщикам по
второй кружке водки.
— А, вернулся, — закричал он, увидев Полокто, — давай выпьем! Только
позабыл я твое имя, помню твоих братьев: Пиапона, Калпе, а тебя позабыл.
— Полокто, — - подсказал тот.
— Вот, вот, Полокто, давай выпьем с нами. Ты хороший охотник, знаю,
хороший охотник. Слышь, други, он хороший охотник. Будем пить, — Ванька
подал Полокто кружку, наполовину наполненную водкой.
— О, Ванька, многа, многа! Моя так не могу, — запротестовал Полокто.
— Говорю пей, — потребовал Ванька.
Полокто опрокинул кружку в рот, вытер рот рукавом халата и смущенно
поставил кружку перед собой.
А Ванька больше не обращал на него внимания и кричал на Саньку:
— Купчишка, а купчишка, живот тебе распороть? А, спрашиваю тебя,
распороть? Ты не улыбься. Ты не улыбься. Ты кажи, почему мало плотишь?
Почему, а?
— Как рядились, Ваня, так и плачу, — улыбался Санька.
— Нет, ты нас омманул, ты плотишь нам мало, мы уговаривались не так. Ты
думаешь, ежели мы читать, писать не пендрим, то може нас товось, — Ванька
сделал пальцем замысловатую фигуру.
Долго в этот вечер кутил Ванька Зайцев со своей артелью пильщиков, по
тайге далеко разносилась матерная брань Ваньки. Утром он пошел к Саньке с
больной головой, с опухшими глазами.
— Я тебе, купчишка, лишнего не наговорил? — спросил он осипшим от
крика голосом.
— Говорил, — жестко ответил Санька. — Я тебя, рожа, от солдатни
оберег, в глухой тайге запрятал, а ты меня хаешь! Ты знаешь, что происходит
на фронте?
— Откуль нам знать? Мы люди таежные, в глухомани живем.
— Если бы тебя тогда обрили, голова твоя лежала бы где-нибудь на чужой
стороне.
— У других головы лежат, моя стала бы лишняя? Чево пужаешь? А войной ты
меня не пужал и не голоси громко, ты меня знашь, — хмуро проговорил Ванька
Зайцев, и Санька услышал угрозу. Он всегда побаивался Зайцева и потому
старался приблизить его. Назначил старшим в артели, привозил вдоволь водки и
пил иногда с ним. Ванька Зайцев тоже знал трусливую душонку торговца и не
против был иногда сыграть на этом.
— Ты меня тоже не пугай, не таковых видывал, — сказал Саня.
— Вот и обмозговали. Чо прикажешь делать?
— Тоже, что делал. Полокто помоги кунгас построить, чтобы на нем
кирпичи вывозить. Да быстрее пусть делает, кирпич всем нужен, а они тут
лежат, тысячи три уже есть.
Санька подал бутылку водки, и Ванька Зайцев нетерпеливо отхлебнул из
горлышка, крякнул и по привычке вытер рукавом рубахи губы.
— Запамятовал, Саня, спросить, как Митроша проживает. Здоров ли? —
спросил он отдышавшись.
— Живет, что с ним может случиться.
— Не разбогател?
— С чего?
— А-а, тот же, выходит, свойский. Ну, Саня, не обессудь, ежели чево не
так сказал. Чево ты сказывал — все сделаю. Но уговор, я твой работник до
осени, а зима подойдет — ищи ветра...
В этот день Ванька только сидел на сложенных досках да командовал
Полокто и двумя его сыновьями. На второй день сам принялся за дело, и вскоре
на земле лежал киль кунгаса с рядами шпангоутов. Потом строители обшивали
борта досками. Кунгас получился большой и неуклюжий. Полокто посчитал,
сколько времени они трудились над этой громадиной. Выходило, что за это же
время можно было построить не меньше трех нанайских неводников. Полокто,
хотя и не очень разбирался в арифметике, но прикинул, что строить кунгасы
ему не выгодно.
Закончив работу, он с сыновьями уехал домой, потом навестил Салова.
Санька расплатился с ним, для виду погоревал, что Полокто не хочет больше
строить кунгасы, а на самом деле был рад, потому что ему удалось
зафрахтовать небольшой пароходик с баржой, который одним рейсом мог вывезти
из Шарго и кирпичи и доски месячной выработки.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Строптивая Гэйе только в первые годы замужества не признавала первую
жену мужа Майду: она была молода, красива, ее любил Полокто, и этого было
достаточно, чтобы она измывалась над Майдой. Самые тяжелые, самые неприятные
работы в доме выполняла молчаливая Майда, она почти превратилась в служанку
Гэйе. Если Майда делала какое-нибудь замечание, то она жаловалась Полокто, и
тот, не задумываясь, начинал избивать старшую жену.
Потом произошло немаловажное событие в жизни Майды: в Нярги приехал один
из ее братьев и сурово поговорил с Полокто, пообещав забрать сестру вместе с
племянниками. Угроза эта подействовала, Полокто несколько присмирел, в
порыве злости он поднимал руку только на Гэйе. Не лишенная ума Гэйе поняла,
что она потеряла свое обаяние, что Полокто больше не любит ее, и в этом доме
она может получить поддержку только от Майды. Теперь она сама искала
расположения Майды, звала ее старшей сестрой.
— Эгэ, тебе хорошо, у тебя есть братья, они заступаются за тебя, —
сказала она однажды и заплакала. — И дети у тебя большие, заступники.
Мягкосердечная Майда обняла Гэйе и стала ее успокаивать.
С этого дня началась их дружба. Майда любила прибирать дома. Она была
первая нанайка, которая поняла все преимущества рубленого дома. Съездив на
дальнюю протоку, она привезла белой глины и ею обмазала стены. В доме сразу
стало светлее и уютнее. Майда мыла пол, натирала его песком и жесткой
хрустящей травой, и он становился чистым и белым, как стены. Майда приучала
к чистоте и невестку, жену Ойты. Гэйе, которая раньше не притрагивалась к
половой тряпке, теперь сама мыла пол, прибирала в избе.
В доме Полокто в отсутствие хозяина царила тишина и то спокойствие,
которое возможно только при большой дружба между членами семьи. Женщины без
слов понимали друг друга, и каждая знала свои обязанности, хотя никто
никогда не распределял их. А по вечерам при слабом свете жирника они сидели
друг против друга на нарах и шили халаты, обувь, вышивали узоры для них.
Майда с Гэйе давно заметили, как Полокто злится, когда видит их
дружескую беседу. Последнюю его выходку, когда он за косы стащил Майду с нар
и избил ее, Гэйе приняла, как собственную обиду. Она подняла Майду, вывела
на улицу и вымыла ей лицо холодной водой.
— Эгэ, я больше не могу на это смотреть, — сказала она. — За что он
тебя за косы таскал?
— Помолчи, Гэйе, а то за тебя примется.
— Пусть бьет! Пусть! — Гэйе кричала звенящим голосом.
Тут подошел Ойта, подсел к матери.
— Смотри, смотри, Ойта, что делает твой отец с твоей матерью, —
продолжала кричать Гэйе. — Ты скажи отцу...
— Ничего не говори, сын, — перебила Гэйе Майда. — Разве его уймешь
словами.
Майда знала, что сыновья не любят отца, а слушаются его только потому,
что он отец. Она знала, стоит ей сказать слово, как Ойта заступится за нее.
Что тогда будет в их доме, один злой дух знает. Ойта с братом с малых лет
были привязаны к матери. Когда отец избивал ее, они с громким плачем
обхватывали ее, пытаясь защитить, но безжалостная рука отца не щадила и их.
Так Полокто сам заслужил ненависть своих сыновей.
— Ну ладно, я сама ему отомщу, — сказала Гэйе. — Отомщу так, что все
будут над ним смеяться.
Гэйе сдержала свое слово. В эти дни в Нярги гостила семья из стойбища
Джоанко, откуда была родом Майда. Когда гости уезжали, Гэйе попросила их
передать братьям Майды, чтобы те, если они настоящие мужчины, приехали и
защитили свою сестру. Все это Гэйе сделала по своей инициативе, даже не
переговорив заранее с Майдой: она знала, что Майда ни за что не согласится
пойти на такой шаг.
Прошел почти месяц, как Гэйе передала весточку братьям Майды. За это
время Полокто построил несколько нанайских неводников, закончил кунгас для
Саньки Салова на озере Шарго, а братья Майды все еще не подавали весточки.
Наконец Гэйе не выдержала и все рассказала Майде. Майда молча выслушала
и, хотя внутри у нее все кипело от негодования, спокойно сказала:
— Ты, Гэйе, нехорошая. Чтобы обесчестить человека, ты готова на все.
Подумай, разве это хорошо?
— А ему хорошо нас избивать? — запальчиво спросила Гэйе.
— Такая наша доля. Тебе он, может, никто, а для меня он — отец моих
детей.
— Все равно дети не любят его.
— Не нам судить об этом. Сыновья взрослые, они сами знают, что делать.
Мы с тобой женщины, в дела мужчин не будем лезть.
Разговор женщин оборвался: вошел Полокто.
— Сидите? Языки точите? — спросил он, берясь за коврик, чтобы напиться
воды. — Бездельницы. За что я вас только кормлю?
— Без тебя прокормимся, — вдруг зло ответила Гэйе.
Полокто удивленно уставился на младшую жену.
— Что ты сказала? — спросил он.
— У тебя уши есть.
Полокто подошел к ней и выплеснул в лицо воду.
Гэйе рысью спрыгнула с моста, схватила в углу вэксун (Вэксун —
деревянный молоток, которым мнут кожу.) и метнула в мужа. Пополневший
Полокто все же успел отпрыгнуть в сторону, тяжелый вэксун ударился об стену
и отвалил большой кусок глины. Гэйе схватила подвернувшуюся под руку палку и
накинулась на испугавшегося Полокто.
— Если некому нас защитить, то сами будем защищаться! — кричала
разъяренная Гэйе. — На! На! Собака!
На Полокто посыпались удары, он прыгал, размахивал ковшом, пытаясь
достать до головы Гэйе. Наконец он изловчился, схватил палку, затем и саму
Гэйе, свалил ее и беспощадно стал бить той же палкой, которая только что
прыгала по его спине.
— Бей, собака, бей, — хрипела Гэйе, извиваясь под жестокими ударами.
Майда подошла к Полокто, схватила за палку двумя руками и крикнула:
— Ты же человек, отец Ойты! Опомнись!
Полокто вырвал палку, ударил Майду по спине и опять принялся за Гэйе. В
дом вбежали Ойта с Гарой.
— Ты не пьян, отец, — проговорил Ойта.
Полокто отбросил палку, поднял с пола выроненный им ковш, подошел к
жбану, зачерпнул и жадно стал пить.
— Вы что, пришли защищать? — спросил он, даже не взглянув на сыновей.
— Нет, пришли посмотреть и поучиться, — ответил старший Ойта.
— Ты как разговариваешь с отцом?
— Я тебе не Гэйе, — храбро ответил Ойта.
— Вот каких детей ты вырастила! — обернулся Полокто к Майде.
Полокто бочком между двумя рослыми сыновьями выскользнул на улицу.
Прошло несколько дней, о ссоре в доме Полокто напоминали только стоны
Гэйе, которая все еще не могла оправиться. Майда с молодой Мидой ухаживали
за ней, каким-то отваром отмачивали раны на спине, потом послали Ойту в
тайгу за пихтовой смолой и ею начали обмазывать раны. Гэйе просила, чтобы не
лечили ее, отказывалась есть, твердила, что хочет умереть. Она изводила
Полокто, как только могла. Стоило ему появиться дома, больная начинала его
проклинать, призывала всех злых духов, чтобы наслали на него самые тяжелые
болезни, просила эндури, чтобы он погубил его: утопил в воде, сжег в огне,
сбросил с высокой горы. Какой только кары не придумывала Гэйе!
Полокто хмурился, сперва отругивался, потом стал пропускать мимо ушей
проклятия, а затем начал избегать родного угла: уезжал на рыбалку или на
охоту. Все в доме удивлялись, почему он не трогает больше Гэйе.
«Совесть пробудилась», — решила Майда.
...Подходила осень. У рыбаков дел было по горло, они приводили в порядок
неводники, сети, невода.
И вдруг по стойбищу прошел слух, его как всегда принесли ребятишки:
«Сверху спускается большой неводник!»
Неводник внезапно появился на берегу Нярги. За веслами сидели восемь
гребцов, в середине около десяти сменщиков.
Неводник круто повернулся к берегу и кормой уткнулся в песок напротив
дома Пиапона.
— На свадьбу приезжают — кормой пристают, драться приезжают — тоже
кормой пристают, — говорили старики, — а этих не разберешь. Что им плохого
сделал Пиапон?
Крайне удивленный Пиапон неторопливо зашагал на берег.
— Эй, Полокто, выходи на берет! — закричал кормчий.
— Вы пристали против моего дома, — сказал Пиапон.
Его узнали, поздоровались вразнобой, кормчий, сконфуженный своей
ошибкой, столкнул лодку и пристал напротив дома Полокто.
— Эй, Полокто, выходи на берег! — вновь закричал кормчий.
— Тут без драки не обойтись, — сказали старики, — приехали братья
Майды, ее будут отбирать. А Заксорам свою честь надо защищать.
— Будем драться! — кричал Ганга. — Эй, люди рода Киле, готовьте
палки, шесты, свою сестру будем защищать! Побьем этих Заксоров!
— Ты бы хоть не лез, — уговаривал его Холгитон. — В твои ли годы
шестами драться?
— Тебе какое дело? Не ты защищаешь честь рода! Ух, отомщу я этим
Заксорам за все, ух, отомщу!
И Ганга, сразу помолодев, побежал к лодке за шестом. А тем временем
кормчий продолжал кричать:
— Выходи, храбрый Полокто, мы хотим посмотреть, какой ты храбрый! Нашу
сестру ты ловко бьешь, покажи, как это ты делаешь!
Полокто не торопился выходить, он не был уверен, пойдут за него в бой
другие Заксоры. Если они не выйдут на драку, то как ему одному справиться с
такими молодцами.
— Если боишься выходить, вынеси из дома приданое, выпусти из дома нашу
сестру, а вместе с ней и ее детей! Покажись, храбрый Полокто, наш аоси.
Из дома вышла Гэйе, плюнула на мужа и прохрипела:
— Чего прячешься за домом? Покажи теперь свою силу и ловкость. Майда
уже собирает вещи.
Майда не собирала пещи, она окаменевшая сидела у окна и смотрела на
берег. «Что же делать? — думала она. — Как быть? Уехать к братьям?» Но всю
жизнь она прожила с Полокто, нарожала от него сыновей, привыкла к нему, хотя
и не познала, что такое любовь. Как же теперь его бросить? Гэйе не будет с
ним жить, как только заживут раны, выпорхнет из этого дома. Как тогда один
останется отец ее сыновей? Может, самой выбежать на берег, сказать: «Братья,
спасибо, что приехали и гости, заходите в дом! Эй, отец Ойты, приглашай
гостей в дом!» Да, надо самой бежать!»
Но только Майда приняла это решение, как увидела толпу няргинцев,
медленно приближавшихся к приезжим. Впереди шел Полокто с шестом в руке.
Возле него шли его братья Дяпа и Калпе, за ними молодые Заксоры со всего
стойбища.
Ряды Киле тоже пополнились, к ним примкнули жители Нярги, хотя они жили
бок о бок с теми же Заксорами, с которыми собирались теперь драться, хотя
вместо рыбачили и охотились. Родовой долг, честь рода выше соседской жизни,
совместной охоты и рыбной ловли. Если твой род пошел против другого рода,
всегда становись в ряды своих сородичей. В Нярги нашелся только один Киле,
который так и не мог выбрать себе места — в какой ряд ему становиться. Это
был Улуска. Он из рода Киле, но он вошел в большой дом Заксоров, жил с ними,
кормился когда-то из одного котла с ними, жил с женщиной из этого дома. Что
же ему делать? Кого защищать? Пока Улуска решал эту тяжелую задачу, события
разворачивались.
Род Киле стоял напротив рода Заксоров. У каждого из рода Киле — в руке
по палке чуть короче сажени, а у Заксоров — только шесты. Но шестами не
переборешь две палки — это знает каждый мальчишка.
И вот в рядах Заксоров затрещали шесты. Охотники обломали свои шесты, и
у них тоже в руках уже по две палки. Ну, теперь держитесь, Киле!
А тем временем шла перепалка между старшим братом Майды и Полокто.
— Ты, Полокто, наш аоси, отдай миром нам сестру, — говорил брат Майды.
Брат Майды перестал кричать, казалось, что он согласен все решить миром,
да и держался он уже не столь воинственно, как сразу после прибытия.
— Ты от меня ничего не получишь, понял? Ничего не получишь, ни сестры,
ни ее сыновей, ни приданого!
Полокто горячился, он кричал во все горло. Крикнет и оглянется назад,
будто спрашивает у Заксоров, правильно он говорит или нет. Многие Заксоры
восприняли это как трусость. А на самом деле Полокто искал в своих рядах
сыновей. Но их не было видно ни среди Заксоров, ни среди Киле, они сидели
возле дома. Майда просила их не ввязываться в драку.
Полокто искал среди своих и брата Пиапона, но его не видно было среди
Заксоров.
— Зачем избиваешь нашу сестру? — спрашивал брат Майды.
— Я ее купил, я вам заплатил тори! — кричал Полокто.
Во время этой перепалки собирались люди из других родов: Бельды,
Ходжеры, Тумали и других. Они были очень встревожены. Ведь если начнется
такая драка, люди могут поубивать друг друга. Возглавлял эту группу
Холгитон, но так как сам он не знал, что предпринять, то решил обратиться за
советом к Пиапону.
Пиапону не правилось это сборище двух родов, ведь весь этот сыр-бор
только из-за одного Полокто, из-за его дурного характера. Пиапон в душе был
даже согласен, чтобы немного проучили старшего брата — может, после этого
поумнеет.
— Чего тут думать? — хмуро сказал Пиапон. — Если начнут драться, надо
нам всем встать между ними. Другого выхода я не вижу. Надо только выйти без
палок и шестов.
А на берегу тем временем разгорались страсти. Теперь кричали с обеих
сторон все враз, и никто уже никого не понимал.
Кричали прибывшие с братьями Майды молодые охотники, кричали няргинские
Киле и Заксоры. Все размахивали палками, но ни одна сторона не осмеливалась
нанести первый удар.
— Отец твой был вор! — визжал Ганга. Его можно было бы принять за
расшумевшегося подростка, если бы не белые волосы и не глубокие морщины на
лице. — Вор, вор! Он у меня украл обоих сыновей. Теперь отобрал внука
Богдана!
Ганга размахнулся своей короткой палкой, целя в голову Полокто, но тот
ловко подставил свои две палки. Он размахнулся еще раз, и на этот раз его
палка опустилась на правое плечо Полокто.
Удар Ганги послужил сигналом к драке. Раздались воинственные возгласы, и
зазвенели палки. Ганга продолжал орать, пока Полокто не сбил его с ног одним
ударом по голове. Старик со стоном свалился на песок, обхватил голову и
заорал диким голосом. На Полокто посыпались удары со всех сторон, правая
рука у него повисла плетью, чья-то палка опустилась на его голову, и он
упал, потеряв сознание.
А юноши тем временем изощрялись в мастерстве, они разделились на пары, и
их отполированные палки блестели на солнце сталью, грохот и звон несся по
Амуру.
Тогда люди во главе с Пиапоном бросились между дерущимися и стали их
разнимать. Вскоре драка прекратилась. Только Дяпа разъярился так, что начал
нападать на разнимавших, потом подбежал к лодке приезжих, перебил все
кочетки и начал ломать весла.
— Они отца нашего оскорбили! Зачем над мертвым глумитесь, собаки! —
кричал он.
Но и его утихомирили. Подняли Гангу, Полокто, одного из молодых приезжих
и отнесли по домам. Майда с плачем встретила братьев, обняла их, потом стала
вытирать кровь с лица Полокто, и ее горючие слезы падали на его побелевшее
лицо. Только одна Гэйе не унималась.
— Оказывается, ты трус, да и драться умеешь только с нами, — злобно
сказала она Полокто.
Полокто тяжело застонал и не ответил Гэйе.
Майда перевязала голову мужа чистой тряпицей, подала попить холодной
воды. Полокто стало чуть лучше.
— Где твои братья? — спросил он.
— Приходили, да ушли на берег.
— Что делают?
— Хомараны ставят.
Полокто попросил Ойту привести братьев Майды.
— Правда отберете сестру и сыновей? — спросил Полокто, когда в дом
зашли трое охотников.
— Заберем.
— Они согласны?
— Да, согласны.
Полокто закрыл глаза. Он, не открывая глаз, сказал:
— Раз никто в этом доме меня не любит и все согласны уйти от меня,
может, мне самому покинуть дом?
Но ему никто не ответил.
И вдруг губы Полокто задрожали, и из прикрытых глаз покатились слезы.
— Останься, Майда, я без тебя не смогу...
Майда испугалась, она никогда не видела, чтобы Полокто плакал.
— Как братья скажут... — проговорила она.
— Братья правы, я виноват... Вы поверите, если я дам слово.
— Ты уже давал слово, — сказал средний брат. — Слово у тебя, как пух
тополиный, куда ветер подует, туда и полетит.
— Даю слово, больше ее пальцем не трону. Поверьте мне, и уладим наше
дело без дянгианов.
— Сестра старше нас. Если она согласна остаться, мы ничего не скажем
против, мы тогда готовы мириться, — ответил старший из братьев. — Но ты
должен перед всеми признать себя виновным.
Полокто был согласен на все, лишь бы закончить побыстрее этот разговор.
Завтра он признает себя побежденным, признает себя виновным, большой кусок
материи, который называется «утиральней лица от стыда», он будет рвать на
лоскутки, вытирать лицо и отдавать эти лоскутки всем присутствующим. Это
очень стыдно, вытирать стыд лоскутком материи перед толпой. Но что делать?
Опозорился на весь Амур, теперь только об этой драке будут говорить по всей
великой реке. Стыд, какой стыд!
— Согласен, — выдавил из себя Полокто, — будем мириться.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
После побоища с Заксорами Ганга больше не поднялся, рана на голове на
четвертый день начала загнивать, и через несколько дней старик тихо и
спокойно «ушел в буни». На похороны отца приехал Пота с семьей. В маленькой
грязной фанзе Ганга всю ночь горели жирники. В изголовье покойника поставили
плошку с толстым фитилем.
Жирник горел ярко, пламя покачивалось из одной стороны в другую, как
голова змеи.
— Жил тихо и тихо умер, — говорили в фанзе.
— Заксоры его обижали, обоих сыновей...
— Да, от них же и смерть.
Пота слышал эти слова, ему хотелось возразить, сказать, что не Заксоры
виноваты, виноваты дети, он, Пота, и Улуска. Двое сыновей не смогли
прокормить одного старого отца. Разве это сыновья! Бывает, что одна дочь
кормит престарелых родителей, а двое сыновей, удачливых охотников, не
могли... При чем тут Заксоры? Сам Пота после примирения с Баосой мог
вернуться в Нярги и жить с отцом, а он вместо этого звал его к себе — на
Харпи. Да какой старик на старости лет покинет стойбище, где он родился,
женился, родил детей? И Улуска? Разве не мог после смерти Баосы уйти из
большого дома. А он вместо этого тоже упрашивал отца переселиться к ним.
После похорон отца Пота собрался домой, но пришлось ему задержаться на
день из-за Богдана, который решил остаться в Нярги.
— Пусть остается, зачем его принуждать, — сказал Пиапон, к которому
пришли Пота с Идари за советом. — Если человек хочет жить самостоятельно,
не надо ему мешать.
Пота в душе давно согласился оставить сына в большом доме, он знал, что
насильно увезти Богдана ему не удастся, потому что за мальчика заступятся
все дяди и тети. А Идари молчала, она была убеждена, что сын ее остался в
Нярги по наущению деда, который и после смерти продолжает мстить ей за
побег.
Пиапон поехал провожать Поту с Идари до Малмыжа, где собирался сделать
кое-какие покупки. Когда бы ни приехал Пиапон в Малмыж, какие бы у него ни
были срочные дела, он прежде всего навещал своего друга Митрофана Колычева.
— Жив? Череп не проломили? — засмеялся Митрофан. Он уже слышал о
побоище в Нярги.
— Жив, — смеялся в ответ Пиапон.
— Чего это вы подрались?
— Братья приезжали отбирать Майду, жену Полокто.
Митрофан обнял друга, похлопал по плечу. Надежда уже ставила на стол
еду, бегая от печи к столу, расспрашивала о семье, просила рассказать о
побоище между Заксорами и Киле, удивлялась, что дрались сосед с соседом,
хороший друг с закадычным другом.
Когда сели за стол, поели и выпили, Митрофан сказал:
— Знаешь, друг мой Пиапон, меня чуть не забрали в солдаты да не
отправили на войну. Вот там уж война так война, не то что ваша — палочная,
там пушками, ружьями люди воюют.
И Митрофан начал рассказывать другу, как начиналась мировая война.
— Наш русский царь, германский царь, аглицкий царь, да всякие другие
цари, да мало ли их расплодилось на свете, хотят всю землю между собой
поделить. Делили, делили, а поделить не могут, каждый хочет пожирней кусок,
да побольше ухватить. Если умом не смогли поделить, то решили силой, вот и
началась война. Вот она откуда. А тут всякие приезжали и говорили: «Мы воюем
за веру, за отечество, за батюшку царя». Я верил им, хотел воевать, защищать
русскую землю. На самом деле это все обман, это мне мои друзья ссыльные
растолковали, я бы своей головой ничего не понял. Говорю тебе, это умные
люди, все законы знают. Они меня и от солдатчины освободили. Отец старик,
больной, один кормилец, семья большая, — говорили они. — Какие-то законы
разыскали. Хорошие люди.
«Хорошо, когда рядом умные и хорошие люди живут», — подумал Пиапон. Он
считал Митрофана тоже умным другом. Только не мог ему поверить, что целые
народы воюют друг против друга, чтобы разделить землю. Зачем им земля?
Пиапон, сколько живет на свете, никогда не задумывался о земле, вокруг его
столько было земли, сопок с тайгой, озер, рек и, все это общее, кто хочет,
где хочет, там и рыбачит и охотится. Он сейчас совершенно уверен, что зря в
старое время нанай имели свои охотничьи угодья. Зря, это было ни к чему.
Когда нет своих угодий, бродишь, где пожелает твоя душа, и столько новых
мест узнаешь — радость одна! Да и ссоры никакой. Раньше бывало, если кто
набредет случайно на чужой участок, то хозяин уже недоволен, может даже
убить. Война, и только. Нет, все же хорошо, что не стало у охотников
собственных участков.
— Они делят земли, а простой народ кровь проливает, — продолжал
Митрофан. — Вот какие эти цари и всякие короли.
После чая Пиапон собрался в лавку Саньки Салова.
— О, Пиапон, у Саньки швейные машины есть, он недавно привез, —
сказала Надежда. — Ты купи жене, вот она обрадуется, да дочери тоже. Купи,
Пиапон, обязательно купи, а то вас всех обшивать, рук не хватит.
«Может, Дярикта и правда обрадуется, если ей купить такую машину?» —
подумал Пиапон.
Митрофан пошел провожать друга. Санька встретил их, как встречают
долгожданных гостей. Лавка его расширилась, Пиапон заметил возле лавки новый
приземистый амбар, за прилавком стоял приказчик. Амбар, полный товаров,
помощник — приказчик, лесопильный завод в Шарго, зафрахтованный пароходик с
баржой, рыбный промысел на Амурском лимане. Растет Санька, крепнет купчишка!
— Как поживаешь, Пиапон, как здоровье? — спрашивает Санька
по-нанайски, да так ловко говорит, от нанай не отличишь.
— Хорошо, Саня, хорошо, — отвечает Пиапон.
Пиапону нужно было купить материю женщинам на халаты.
— Ты ему швейную машину кажи, — попросил Митрофан.
Приказчик принес машину и лоскут синей китайской дабы. На глазах Пиапона
приказчик прострочил, да так, что все нанайки-мастерицы залюбовались бы.
— Да, хороша! — воскликнул Пиапон и стал торговаться.
Машина стоила дорого, и меха у него не хватило.
— Ну, ладно, отдам тебе в долг, — согласился Санька.
Пиапон купил нужный ему материал, взял машину и засобирался домой.
Вернулся он в Нярги к вечеру. Встречать его вышли зять и обе дочери. Пиапон
отдал им куски материи, подарки, а сам осторожно поднял обеими руками машину
на грудь и понес.
— Отец, что это такое? — спрашивали дочери.
— Дома увидите, — смеялся в ответ Пиапон. — Мира, как твое здоровье?
У дверей их встретила Дярикта. Она пропустила мужа с его ношей вперед и
с любопытством последовала за ним.
Пиапон торжественно поставил машину на нары и снял с нее футляр. Дярикта
погладила машину и от удовольствия зацокала языком.
— Это вам всем женщинам, это продолжение вашей руки, — сказал
Пиапон. — Дайте лоскуток материи.
Когда принесли лоскуток материи, он свернул его, зажал ткань и начал
крутить ручку. Стежка за стежкой побежали по ткани. Дярикта нагнулась над
лоскутом, разглядела стежки и ахнула.
— О-е-е-е, да как так можно, а? — спросила она, не обращаясь ни к
кому. — Да, как так можно? Без рук, без пальцев.
— Ну-ка, посоревнуйтесь все втроем с этой машиной! — смеялся довольный
Пиапон.
— И все можно шить? Халаты, рубашки, штаны? — спросила Дярикта.
— Все, все можно шить, — улыбался Пиапон.
— Отец, а кожу возьмет? — спросила Мира.
Пиапон этого не знал, ни Санька, ни Надежда не говорили об этом. Пиапон
прикинул, игла тонкая, может не выдержать, да и кожу шьют только лосиной
жилой, а ее не намотаешь на катушку.
— Нет, кожу не возьмет, — уверенно ответил Пиапон после этих
умозаключений.
Дярикта достала из сундука недошитый халат и тут же принялась на машине
дошивать его. Не успел Пиапон выкурить трубку, как набежало полный дом
женщин и молодух. Каждая из них хотела потрогать, покрутить машину. Дярикта
дошила халат под наблюдением десятка пар глаз и разрешила женщинам
удовлетворить свое любопытство. Одна за другой садились женщины за машину,
некоторые сбегали домой за материей, когда Дярикта заявила, что она не
запасла для них лоскутков.
— Да, это машина! — восхищенно воскликнула одна швея.
— В Малмыже купили? У Салова? Завтра же погоню своего, если не купишь,
скажу, не буду с тобой жить, — смеялась какая-то молодуха.
— Тебе купит, он удачливый охотник, а наш откуда возьмет столько
дорогих шкурок? — вздыхала пожилая женщина.
— И правда, где нам столько достать, есть-пить надо, да детей много.
Тем временем машина все крутилась и крутилась, игла молнией блестела,
ободок сверкал никелем. Но вдруг машина перестала класть ровные стежки и
совсем отказалась шить.
— Сломали чужую дорогую вещь, — сказали горестно женщины.
А сидевшая за машиной оправдывалась:
— Я ничего не делала, я, как и все, только крутила ручку. Неужели она
сломалась?
Дярикта подошла, покрутила за ручку — строчка не ложилась. Тогда
позвали Пиапона, он покупал, он привез, должен понимать. Пиапон покрутил за
ручку, потом открыл какую-то задвижку и вытащил челнок-оморочку.
Челнок-оморочка была пуста. Надо ее заполнить ниткой, и машина снова будет
шить. Но Пиапон забыл, как заряжают челнок-оморочку.
— Сломалась, да? Совсем сломалась? Не будет больше шить? — осаждали
Пиапона женщины.
— Нет, не сломалась машина, вот эту оморочку надо ниткой заполнить, но
как ее заполняют, я забыл, — как всегда честно признался он. — Завтра,
послезавтра будет шить, я вызову Митрофана и его жену, они научат, как
заполнять эту оморочку ниткой.
На следующий день он наказал ехавшим в Малмыж рыбакам, чтобы попросили
Митрофана и его жену приехать в Нярги. А еще через день напротив дома
Пиапона пристала лодка Митрофана.
— Что случилось? — басил Митрофан, вылезая из лодки. — Все здоровы? А
мы уж с Надей перепугались.
— Все хорошо, — улыбаясь ответил Пиапон, вводя их в дом.
Надежда впервые была в новом доме Пиапона, и ее неприятно поразила
обстановка: прокопченные потолок и стены, дымящийся очаг, сложенный из
камней и обмазанный глиной, длинные нары, все как в фанзе. Она считала, что,
переехав в новый рубленый дом, Пиапон зажил по-новому, чисто.
Надежда вытащила гостинцы: сметану, масло, большой рыбный пирог и мягкие
шанежки. Дярикта принимала гостинцы и удивлялась кулинарному мастерству
русских женщин. Ведь у них под рукой такая же мука, какая есть у Дярикты,
дрова у них такие же и огонь такой же, но как они пекут такие вкусные вещи?
А Дярикта умеет только печь пресные лепешки на огне, да поджаривать на
рыбьем жиру.
— Отец Миры, помоги мне поговорить с Надей, — попросила она
Пиапона. — Спроси, как она запекла целые куски рыбы в тесте, сперва их
отваривают и заворачивают в тесто или кладут сырыми?
— Сырыми, сырыми, — ответила Надежда.
— Но как так печь, чтобы тесто не обгорело и рыба испеклась?
— Печь протопить, золу убрать и на противнях.
Пиапон никак не мог понять, что такое противни, пришлось вмешаться
Митрофану и объяснить, что это такое.
— А у нас нет таких, — разочарованно сказала Хэсиктэкэ.
— У вас и печи нет, — сказал Митрофан, — на вашем очаге не испечешь
рыбу в тесте. Нужна русская печь. Вот, когда мы сложим у вас печь, тогда
Надя приедет к вам и научит печь пироги, булочки и всякие шанежки. Ну, а
теперь говорите, зачем нас звали.
— Да не можем справиться с машинкой, — виновато развел руками Пиапон.
Хэсиктэкэ принесла швейную машину, и Надежда тут же на краю пар начала
показывать женщинам, как заряжают челнок. Наполнив челнок, она вложила его
на место, вытянула наверх конец нити, положила лоскуток, и машина опять, на
радость женщинам застрочила стежку за стежкой. Надежда объясняла, как
регулировать машину, предупредила, чтобы не шили кожу или слишком толстые
вещи: игла сломается.
Дярикта, Хэсиктэкэ, Мира несколько раз вытаскивали челнок и сами
заряжали его.
— Эх ты, отец, такое простое дело забыл, — смеялась Мира.
— Выходит, старею, — отвечал Пиапон.
Дярикта подала низкие столики, поставила еду.
«Ничего нового, только дом новый, а остальное — все по-старому», —
опять подумала Надежда, отхлебывая мясной суп с домашней лапшой.
А Дярикта ревниво следила, как она ест, по лицу и по тому, как она
подносит ложку ко рту, пыталась догадаться, нравится ли гостье ее суп.
— Ничего-то вкусного мы не умеем готовить, — сказала она в сердцах,
подавая отварного осетра.
— Ты что, Дярикта, да это же самое вкусное! — воскликнул подвыпивший
Митрофан.
— Вкусная осетринка, нежная, — сказала Надежда.
После еды, когда Пиапон с Митрофаном закурили, Надежда не выдержала и
спросила Пиапона:
— Пиапон, у тебя деревянный дом, русский дом. У тебя швейная машина.
Человек ты не глупый. Кое-что повидал. Почему же ты не снимешь эти нары?
— А где спать? — удивился Пиапон.
— Спать надо на кроватях. Вот Митроша поможет тебе их сделать.
— Надюша, люди живут по-своему, они всю жизнь так жили на нарах... —
пытался остановить жену Митрофан.
— Мне какое дело, как они жили. Пиапон, раз ты живешь в новом русском
доме, живи по-новому. Убери эти нары, в доме сразу места больше будет,
светлее станет. Митрофан, Санька привез в Малмыж кирпичи, выпроси, привези и
сложи печь, меньше в доме копоти будет.
— Да ты что, Надюша, в своем уме? — запротестовал Митрофан. — Когда
мы успеем, скоро кета подойдет, готовиться к ней надо.
— Завтра кета, послезавтра охота, там зима, весна, лето и так у вас
никогда времени не найдется. Знаю я вас.
Пиапон пыхтел трубкой и стыдился поднять глаза на Надежду. Приехала
гостья, и ей не понравилось жилье Пиапона. И все правильно говорит, ничего в
ответ не скажешь. Пиапон сам об этом думал, когда заканчивали дом. Он даже
хотел попросить Митрофана изготовить две кровати, стол и стулья, потом
передумал: надо же иметь совесть! Жена и дочери смотрели на Пиапона, на
расшумевшуюся Надежду и ничего не понимали.
— Митроша, дома все обговорим, — продолжала Надежда. — Пиапон, если
кровати Митрофан сделает, нары ешь?
— Надю, время мало, кета идет, когда делай? — Пиапон не мог взглянуть
на нее.
— Нары уберешь, я спрашиваю?
— Чего не убирай, сегодня могу убирай.
— Зачем сегодня? Когда Митрофан кровати изготовит, тогда уберешь.
— Ты чево тут командуешь? Это твой дом? — рассердился вдруг
Митрофан. — Как жандарм раскричалась.
«Совсем взбесилась баба, — подумал Митрофан с удовольствием, — выходит
и правда, за душу задело».
Митрофан посмотрел на Пиапона, втянувшего голову в плечи, и еле
удерживался, чтобы не расхохотаться.
— Ну, как? Досталось вам? — смеялся Митрофан, когда Пиапон пошел
провожать его. — Зря ты ее пригласил, я бы сам тебе челнок-оморочку
заполнил ниткой. Ишь какое трудное дело!
— Нет, Митропан, надо было, чтобы она приехала, — ответил Пиапон. —
Правильно она говорит.
Надежда села на корме, взяла кормовое весло и крикнула:
— Пиапон, теперь уж я обязательно приеду. Посмотрю, что ты сделаешь!
— Приезжай, Надю, приезжай, — ответил Пиапон.
Он долго смотрел вслед удалявшейся лодке и думал: «Правильно говорит
Надю, очень правильно. Нас пока носом не потычешь в эту грязь, не замечаем
ее, прижились, она как бы родная стала. Потолок ведь из белых досок, а
сейчас не заметишь даже, где сучки чернели на этой белой доске, все черно,
как дно котла. Три женщины дома и тоже не видят эту грязь, даже пол мыть не
научились. Тьфу! В новый дом перешли, надо по-новому жить».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В последние дни Холгитон на глазах сородичей старел. До этого он еще
держался, ходил по стойбищу, заглядывал к родственникам, сидел с ними,
разговаривал, если что было выпить, выпивал. А чаще всего он приходил, чтобы
рассказать о своей поездке в Сан-Син. Прошло уже пять лет, как он съездил в
Сан-Син и все няргинцы слышали его рассказ уже десятки раз. Няргинцы стали
замечать, что один и тот же факт Холгитон каждый раз рассказывал по-разному,
а за последнее время начал просто перевирать.
— Что ему скажешь, — говорили в Нярги. — Оп же сказочник.
И правда, то, что он рассказывал, теперь на самом деле походило на
сказку. Дома — вышиной до облаков, верхние этажи купаются в белых облаках.
Сам город — глазом но охватить, даже орел с вышины не охватит его целиком;
людей в городе — муравьев столько нет в тайге. А какие там пагоды! А какие
там дворцы! А какие там женщины!
Теперь Холгитон больше рассказывал, чем проповедовал буддизм. Все
привезенные мио он роздал, себе оставил один и тот хранил в сундуке, не
вытаскивая его, и перестал молиться.
На сожительство жены с работником он смотрел сквозь пальцы: его уже не
интересовали женщины. Но детей Супчуки он любил, как своих родных,
привязался к ним, играл, баловал их.
Особенно начал он сдавать после похорон Ганги, с которым всю жизнь
прожил рядом.
— Все ушли старики, один я остался, — с грустью говорил он. —
Баосангаса, Гангангаса уже ходят по буни, охотятся и рыбачат там, меня ждут.
Чаще всего Холгитон посещал Пиапона, он любил посидеть с ним,
понаблюдать за его работой, а то и помочь, если тот чинил сети или
ремонтировал охотничье снаряжение. Вот и сейчас они сидели вдвоем под
амбаром Пиапона и насаживали самострелы.
— Ты думаешь, кто ударил Гангангаса? — спросил Холгитон.
— Да разберешь разве, кто ударил? Все размахивали палками, шестами, кто
кого ударил — они сами не знают, — ответил Пиапон.
— И зачем только полез он в эту драку, совсем не могу понять. Смерти
искал, больше ничего не скажешь. Он умер, ему ничего, а другим больно... Как
умер Гангангаса, то у меня сразу отяжелели ноги, спина начала побаливать.
Знаешь почему? — продолжал Холгитон. — Потому что, когда он был жив, я с
ним вроде мерился силами. Утром встану — спина болит, ноги тяжелые, выйду
на улицу, смотрю, а Гангангаса, как мальчишка, вприпрыжку идет к оморочке,
сетку проверять собирается. У меня сразу перестает болеть спина, ноги
становятся легкими, это оттого, что Гангангаса идет вприпрыжку. Теперь на
кого я буду равняться? Теперь я самый старый в Нярги, с молодыми мне не
равняться.
— Что ты затвердил, самый старый, самый старый, держись, и будешь
молодым, — возразил Пиапон.
— Был молодым, был, Пиапон. Помнишь, когда мы ездили в Сан-Син? Был
молод, на женщин заглядывал, к гейшам ходил.
«Ох и брехун старик», — усмехнулся про себя Пиапон.
За разговорами шло время, тень от амбара медленно передвигалась и
уменьшалась. Приближался полдень. Мальчики и девочки возвращались домой из
школы. Пробежал старший сын Холгитона Нипо.
— Что учили сегодня? — поинтересовался Холгитон.
— Не помню, — ответил мальчишка и пробежал мимо.
К амбару подошли Богдан с Хорхоем. Богдан стал уже на две головы выше
Хорхоя. Голос его начал ломаться.
«Пятнадцать лет, — подсчитал Пиапон. — Уже охотник, самостоятельный
человек, от отца и матери ушел».
— Дедушка, мы по-нанайски молитву разучиваем, — баском проговорил
Богдан.
— Как это по-нанайски? — спросил Пиапон. — Разве Павел знает
нанайский язык?
— Не знает. Но у него есть книжка, там по-нанайски написано.
— Только ничего не поймешь, — засмеялся Хорхой.
— Книжка на нанайском языке? А ты не врешь? — спросил Холгитон.
— Зачем врать? Учитель читал.
Пиапона удивило сообщение Богдана. Сколько раз Глотов приходил к нему,
сколько ни разговаривал, но ни разу не сказал, что есть нанайская книга. Это
же интересно, нанайская книга! Пусть будет молитва, но все равно интересно.
Сколько раз Глотов говорил Пиапону, что человек грамотный от чтения книг
становится еще умнее, а сам не показал нанайскую книгу. Странный человек
этот Глотов!
— Дедушка, учитель сказал, что придет к тебе с этой книжкой после
полудня, — сказал Богдан.
Холгитон засобирался домой.
— Пойду я поем, если придет учитель с молитвой, ты пошли мальчика за
мной, я тоже хочу послушать молитву на нанайском языке.
После полудня, как и говорил Богдан, к Пиапону пришел Глотов.
— Ох, как у вас чисто сегодня, — сказал Павел Григорьевич, входя в дом
Пиапона. — Охо, ты снял часть нар. Да, так, пожалуй, лучше. Это, наверно,
Мира вымыла так чисто пол.
Глотова посадили за низкий столик, подали еду. Он не стал отказываться,
он знал, что отказываться нельзя, а если не станешь есть, то обидятся. Еда
на столе, это первый признак гостеприимства у нанай.
— Павел, ты учи меня кровать делать, — попросил Пиапон.
— Кровать? Ну, что ж, это не хитрая штука. Только вот в Малмыж надо
съездить за материалом. А зачем тебе вдруг кровать?
— Жена Митропана ругает...
Глотов засмеялся.
— Зачем смеешься? Она правильно ругает.
— Я тоже говорю, правильно.
Столик убрали, и Глотов сел поудобнее, готовясь к долгому разговору.
Павел Григорьевич не курил и этим страшно удивил няргинцев. «Это не мужчина
и не женщина, — говорили про него в первые дни. — Какой же это человек,
который не курит? У нас вон мальчики семи лет уже курят. Пососут, пососут
грудь матери, потом — за трубку. Вот: это будущие охотники!»
Глотов только посмеивался, слушая эти разговоры. А когда открылась школа
и начались занятия, он запретил своим ученикам курить. Те пожаловались
родителям. Охотники пошли к учителю и заявили, что Глотов не имеет права
запрещать курить их детям.
— Детям вредно курить, если будут курить, то у них легкие заболеют, это
плохая болезнь, — объяснял Павел Григорьевич.
— Мы тоже с детства курим, у нас легкие здоровы, как мех в кузнице
Годо, — отвечали охотники.
— Ну, хорошо, учитель, — вдруг заявил один из охотников, — если ты
детям не разрешаешь курить, то они не будут ходить в твою школу.
Тогда Павел Григорьевич вынужден был отступить. Надо было принять такое
решение, которое приемлемо было бы обеим сторонам. После долгих споров
наконец решили, что детям можно курить дома, но строго запрещается курить в
школе.
— Ладно, согласны, полдня потерпят, ничего с ними не случится, —
сказали охотники.
Учитель следил, чтобы ученики не являлись в школу с трубками, если у
кого замечал, то отбирал и возвращал только после окончания занятий.
— Дети все ходят в школу? — спросил Пиапон.
— Пока ходят, — ответил Глотов.
— Скоро не будут ходить, все на Амур на кету выйдут, там осенний
праздник. Какой ребенок останется в стойбище, родители сами не оставят их.
— Ничего не попишешь, придется мне тоже выехать с ними на кету.
— Дети будут на разных островах.
— А у меня есть кунгас, чего мне бояться.
В дом пошел Холгитон, и беседа оборвалась.
— Значит, вы тоже заинтересовались русской молитвой на нанайском
языке? — спросил Глотов, вытаскивая из кармана тонкую книжку.
— Да, да, — ответил Холгитон.
— Эта книжка называется «Объяснение главнейших праздников православной
церкви на русском и гольдском языках», и книжку эту издали и далеком городе
Казани в 1881 году.
— А кто сделал? — спросил Пиапон.
— В давние годы, когда, наверно, Холгитон был молод, здесь на Амуре был
такой миссионер Александр Протодьяконов и его брат Прокопий Протодьяконов.
Они очень хорошо знали нанайский язык.
— Как Митропан, наверно. Или Санька Салов.
— Может быть. Они перепели с русского языка некоторые молитвы на
нанайский.
— А ну, читай, — попросил Холгитон нетерпеливо.
Глотов прочитал заголовок молитвы.
— Пиапон, как же так? — обратился к нему Холгитон на своем языке. —
Почему в книге говорится, сам бог молится.
Пиапон попросил Глотова еще раз перечитать заголовок, и опять выходило:
«Эндури мяхорачи», значит, «Бог молится». А в переводе на русский это
означало «Богослужение».
«Уже в заголовке застряли, что же будет дальше?» — улыбнулся Глотов. А
дальше пошло еще хуже. Ни Пиапон, ни Холгитон ничего не могли понять.
— Если непонятная молитва, зачем она нужна, ее надо выбросить,
сжечь, — кипятились Пиапон с Холгитоном.
— Была бы моя воля, я не стал бы заставлять разучивать эту молитву. Но
это входит в программу обучения, — стал объяснять Глотов.
— Мозги только детям засоряют, — проворчал Пиапон, обращаясь к
Холгитону.
— Пусть разучивают, лишнее не будет, — ответил Холгитон.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
После тяжелого разговора с сыном расстроенный Токто один уехал на охоту
в верховья Харпи. Там он бил лосей, косуль и готовил мясо впрок. Одни куски,
нарезав мелкими пластинками, сушил на горячем солнце, другие коптил
сладковатым дымом тальника. Закопченные черно-коричневые кренделя мяса
нанизывал на веревочку и подвешивал на солнце — не столько сушил их,
сколько убирал от мышей и других зверьков.
Охотился Токто больше полмесяца, и каждый день его неотступно
преследовала мысль, что чужой ребенок — чужая кровь, сколько его ни ласкай,
ни люби, останется для тебя чужим.
Глубокая обида, как плохая болезнь, поселилась на душе Токто и
обгладывала его, причиняла боль. Как только не старался Токто избавиться от
нее: то выбирал для охоты самые опасные быстрые речки, с завалами, с
перекатами, где не приходилось думать о постороннем, смотри да смотри
вперед, всегда будь начеку, чтобы тебя не перевернуло вместе с оморочкой или
не затащило в завал; то нарочно шел в глубь тайги, далеко от речки, убивал
лося и таскал мясо на своем горбу.
«Да, мы просто не поняли друг друга».
Токто убеждал себя, что они с сыном погорячились, вернее он, Токто,
погорячился. Был же и он молод, был влюблен в девушку, и разве ему легко
было отказаться от нее? Молодость есть молодость. Влюбился впервые в жизни
юноша, и ему кажется, что другой такой девушки во всем свете нет. Разве не
так думает Гида? Конечно, так. И разве можно было с ним строго
разговаривать? Пусть женится на этой девушке, ведь Токто все равно, ему лишь
бы увидеть своих внуков, дождаться их. От этих мыслей Токто приободрился,
будто оздоровел.
«Вылечился от болезни, тайга вылечила», — подумал он, собираясь в
Джуен.
Когда он возвратился в стойбище, застал только одну Кэкэчэ. Пота, Идари
с детьми уехали в Нярги на похороны Ганги, а Гида второй день находился на
другом берегу озера Болонь, ловил рыбу и сам заготовлял летнюю юколу.
— Туда Онага с родителями уехала на несколько дней, — сообщила
Кэкэчэ. — Отец Гиды, я говорила с сыном, он сперва не хотел слушать, не
хотел со мной разговаривать, потом его сердце смягчилось, и он разговорился.
Отец Гиды, он очень любит Онагу, она ведь неплохая девушка.
— Я не говорил, что плохая, — ответил Токто.
— Да, неплохая. Сын хочет на ней жениться, они очень любят друг друга,
жить не могут друг без друга.
— Поженить надо, что же делать другое.
— Ты согласен, да?
Кэкэчэ засияла, помолодела, румянец выступил на щеках. Токто смотрел на
жену и невольно залюбовался ею.
Кэкэчэ не чуяла ног под собой, будто крылья приросли к рукам, так она
была рада за сына, за Онагу.
— Ты так обрадовал меня, так обрадовал, — повторяла Кэкэчэ, ставя на
столик еду.
— Я сам рад, Кэкэчэ, меня тайга излечила, — улыбнулся Токто. — Просто
обида заслонила разум, и зря я погорячился. Садись за столик, давай вместе
есть.
Кэкэчэ удивленно посмотрела на мужа.
— Садись, вместе поедим, — повторил Токто. — Русские всегда вместе с
женой едят, почему мы, нанай, не едим вместе — не понимаю.
«Женщины едят то, что останется после мужчин», — хотела сказать Кэкэчэ,
но воздержалась и неловко села за столик, напротив мужа.
— Ты чего замолчала? — спросил Токто.
— Да как-то все не привычно, сижу за мужским столиком, ем вместе с
мужем.
— Давай с этого дня всегда будем вместе есть.
— Нет, нет, это я согласилась потому, что мы только вдвоем, а при людях
не сяду. Все женщины стойбища начнут надо мной смеяться.
Токто был в самом хорошем расположении духа.
— Вот поженим сына и будем ждать внука. Тебе кого хочется, внука или
внучку?
— Внучку, она сразу начнет помогать матери дома. А то нам, женщинам,
сколько приходится дома работать.
— А я внука хочу, он будет наш помощник на охоте, кашевар будет. А
потом и кормилец. Нет, надо первым внука.
— Как хочешь, отец Гиды, хочешь внука, пусть будет внук, нам люди не
будут лишними.
Кэкэчэ убрала посуду, перемыла ее и постелила постель.
— А ты, отец Гиды, забыл? — щебетала она, как в молодости, прижимаясь
к мускулистому телу мужа. — У меня ведь тоже будет ребенок.
— Ты еще молодая, Кэкэчэ, ты еще красивая, ты мне еще сыновей
родишь, — с жаром отвечал Токто.
На следующий день Токто уехал в Болонь к торговцу У за водкой: он не мог
пойти к отцу невесты без водки.
В стойбище встретился с Лэтэ и честно признался, что сын без него нашел
невесту и что он решил засватать эту джуенскую девушку. Лэтэ затащил его к
себе. Они посидели, выпили и посетовали на молодых людей, которые совсем
отбиваются от рук родителей, перестают почитать старших.
— Твой сын тебя не слушается, как это так? Отца не слушается. Токто, я
хотел породниться с тобой, я тебе честно говорю. Если не хочет твой сын,
возьми мою дочь в жены себе, я тебе отдам.
— Друг мой Лэтэ, я уже стар для нее.
— Сколько стариков женятся на девочках, которые ровесницы их внучкам.
— Знаю. Это их дело, пусть на их совести лежит. Что я могу ей дать?
Зачем омрачать ее молодость, ее радость, счастье? Пусть она находит себе
равного.
Лэтэ захмелел и долго еще сетовал на молодых, непослушных охотников, а
Токто твердил, что душа у него болит от одной мысли, что Гэнгиэ попадет в
другую семью.
Токто дождался в Болони Поту и Идари, и, когда встретил их и не увидел с
ними Богдана, он уже не удивился.
— Ну вот, остались мы без отца, — сказала Идари. — И сын остался в
Нярги, в школе будет учиться читать и писать. Грамотным станет и уйдет к
русским.
Идари говорила жестко, каким-то незнакомым голосом, но лицо ее
оставалось спокойным и бесстрастным. Пота молчал. Смерть отца потрясла его,
только теперь он глубоко задумался над превратностями жизни. Пока он был
молод, удачно похитил Идари, удачно укрылся на Харпи, без особого труда
помирился с Баосой, жизнь казалась удивительно радостной. А теперь даже на
свою любовь он вынужден был взглянуть по-другому, ведь его любимая Идари,
мать его детей, была родной сестрой братьев-убийц. Кто бы там ни ударил
отца, но это был Заксор, брат или дядя Идари. Он, Пота, любит и будет любить
свою жену, а в подсознании будет кто-то все время твердить: «Она сестра
убийц твоего отца. Она сестра убийц твоего отца».
Какая все же непонятная и противоречивая, радостная и жестокая эта
жизнь!
— Не грусти, Пота, старики уходят, молодые приходят, такова жизнь, —
сказал Токто. — Если бы старики не уходили, весь мир был бы заселен одними
дряхлыми старцами. Мы тоже стареем, значит, приходит и наш черед.
Токто никогда не умел кривить душой, не отличался мягкостью и потому
говорил все напрямик.
Когда Токто на оморочке, а Пота с Идари на лодке возвратились в Джуен,
их встречал Гида с матерью. Токто обнял сына и поцеловал в обе щеки. Это
было молчаливое примирение.
В этот же вечер Токто с Потой пошли к отцу Онаги, Пачи Гейкер. Пачи
выглядел молодо, голова черная без единого седого волоса, лицо гладкое,
только лоб морщится, как волны на озере.
— Вот неожиданные гости, не было их в стойбище, да вдруг, как на
крыльях, прилетели, — смеялся Пачи, усаживая гостей на пары. Онага,
пунцовая от смущения, подала трубки.
— Токто, ты на охоте был? — спросил Пачи.
— Везде побыл, и поохотился на Хоткопчи, и съездил в Болонь, — ответил
Токто.
— Будто на крыльях летаешь — сегодня здесь, завтра за семью реками, за
семью горами, как в сказке. Тебя, Пота, я уже не спрашиваю, знаю. Токто,
какие новости в Болони?
— Да все вроде бы живы и здоровы. Малмыжский торговец просит рыбаков
ловить кету и сдавать ему. Говорит, хорошие деньги будет платить. Наше дело
ловить, а солить он сам будет.
— Если хорошая будет кета, почему бы не ловить ему, — сказал Пачи. —
Лучше бы вместо денег мукой, крупой, материей расплачивался. Это понятней.
— Он может и мукой, крупой расплачиваться, а кто, если захочет денег,
тому деньгами.
Гости и хозяин дома долго говорили на эту тему. Токто будто позабыл цель
своего прихода. Подали столик, поставили уху из свежего сазана, сверху
посыпали сушеной черемшой, и приятный запах защекотал нос, вызывая слюну.
Токто вытащил из-за пазухи бутылку водки.
— Да-а, это не простые гости, — сказал Пачи.
Подали медный хо, куда перелили водку, и поставили подогревать.
Выпили по первой чашечке.
— Какая бы эта водка не была, деловая или не деловая, выпью, давно не
пробовал ее, — сказал Пачи и выпил вторую чашечку.
— Как тебе сказать, — подхватил тут же Пота, — водку сейчас запретили
продавать, ее трудно достать, потому она стала теперь вдвое дороже. Но с
хорошими друзьями почему бы не выпить просто так, без никакого дела?
— С друзьями всегда можно выпить, — сказал Пачи.
— Мы к тебе зашли, как к другу, но я навру, если скажу, что у нас нет
дела к тебе. Есть у нас дело, и это дело большое, важное для нас, да и для
тебя тоже.
«Пота умеет ловко говорить», — подумал Токто.
— Все дела важные, — сказал Пачи, у которого уже закружилась голова от
двух чашечек подогретой водки.
— Да, ты прав, Пачи, неважных дел не бывает, — продолжал Пота. — Ты
знаешь, я ездил хоронить отца, умер человек из нашего народа, значит, вместо
него должен появиться другой, иначе не останется на земле нанайского народа.
«Ишь ты, откуда начал», — подумал Токто.
— А продолжить нас могут только молодые сильные люди. Твоя дочь
красива, молода, но наш сын тоже не последний человек, охотник удачливый,
рыбак ловкий. Хорошая вышла бы пара, Пачи, на заглядение всем, на зависть
другим родителям.
Пачи опустил голову, он давно понял, зачем пришли Токто с Потой, и ему
хотелось, как можно дольше оттянуть этот грустный для него разговор. Но вот
слова сказаны, они ждут ответа. Что ответит им Пачи? Ему хочется плакать,
пролить слезу, как слабая женщина, может, тогда станет легче на душе? Как
сказать слово против своей воли? Пачи сейчас бы отдал дочь за сына Токто, он
посчитал бы счастьем породниться с этим храбрым человеком, но должен
отказать ему.
— Зря я выпил вашу водку, — тихо сказал Пачи. — Совсем зря.
Токто с Потой насторожились, у обоих мелькнуло: «Неужели откажет?»
— Если есть эндури, он должен видеть, я хочу породниться с Токто. Очень
хочу, — медленно говорил Пачи. — Для меня, неудачливого охотника, большая
честь, что сам Токто, победитель всех хозяев рек, ключей, тайги просит в
жены своему сыну мою дочь. Если бы мы были так прозорливы, видели бы на
десятки лет вперед, я бы тогда отказался от брака своей дочери с сыном моего
друга. Но брак скреплен, водка выпита, слова даны, и теперь мы опутаны
крепкой веревкой.
Пачи говорил, а в голове его роились воспоминания прошлого.
Стремительный Амур, стойбище Туссер, обваливающие берега и друг его детства
Аями Оненко. Ясный солнечный день, плеск тяжелой глины о воду, брызги, пена,
черная голова Аями стремительно понеслась вниз по течению. Какое-то
мгновение раздумывал Пачи, потом прыгнул с обрыва, схватил уже тонущего
друга за волосы и выплыл на берег. Аями наглотался воды, его долго рвало,
потом он отлежался, и друзья вернулись в стойбище. И никто не узнал, как
тонул Аями. Тогда и была скреплена эта дружба.
— Токто, друг мой, не обижайся, сердце обливается кровью, но я против
своей воли должен отказать твоему сыну, — с этими словами Пачи вышел на
улицу и вернулся с маленьким жбаном.
Токто с Потой сразу догадались, что это за жбан, и решили разговор
дальше не продолжать.
— Вот, вот он стал поперек дороги! — в сердцах воскликнул Пачи и
бросил жбан на нары. — Друг мой живой и здоровый, а сын его растет
болезненный, кашляет, худеет. Половину тори они собрали, после кетовой
приедут за невестой.
Пачи говорил, а перед глазами стоял жбан, в котором заключено счастье
обоих молодых людей: сына Аями и его дочери.
...Друзья юности Пачи и Аями не расставались и тогда, когда повзрослели,
они вместе охотились и рыбачили, даже к торговцу в соседнее село выезжали на
пару. Женились они почти одновременно, и дети появились с разницей на год.
Прошло еще несколько долгих лет, и дружба их крепла. Тогда они решили
породниться.
У Аями рос пятилетний сын, у Пачи дочь четырех лет. Позвали шамана, он
потребовал небольшой жбан, пропел шаманскую песню, вырезал небольшие кусочки
из полы халата мальчика и девочки, положил в жбан, еще пропел песню, потом
прикрыл горло жбана сомьим пузырем, сазаньей кожей, завязал лосиными жилами
и обмазал глиной.
— Храните этот жбан, в нем счастье ваших детей, они всю жизнь должны
быть вместе, — торжественно провозгласил шаман. — С этого дня они муж и
жена, их брак никто не должен разбить, они будут счастливы только тогда,
когда будут вместе.
В этот же день Аями внес половину тори на невесту, организовал выписку.
— Токто, друг мой хороший, я уже отдал дочь замуж, — сказал Пачи.
— Что же теперь делать, Пачи? — спросил Токто. — Выходит, не суждено
нашим детям вместе прожить жизнь.
— Если бы не этот жбан, я мог бы поговорить с другом, мог бы вернуть
ему тори и выпитую водку, но этот жбан... Счастье молодых людей в жбане, они
с детства соединены.
Пота ловко перевел разговор на другое, и охотники больше не возвращались
к щекотливому разговору. Они допили водку, и Пота с Токто попрощались с
хозяином дома. Возвращались они молча, разговорчивый после выпивки Пота тоже
будто язык прикусил. Возле дома их встретил Гида. Токто обнял его и тихо
сказал:
— Сын, она замужем, ее выдали, когда ей было четыре года.
— Как замужем? Почему она не сказала?
— Не знаю, может, не помнит.
Гида все еще не верил, ему казалось, что отец с Потой шутят над ним.
— Этого не может быть! — воскликнул Гида и быстро зашагал к дому Пачи.
Онага ждала его. Она обвила его шею тонкими руками и заплакала.
Гида молча гладил густые волосы девушки.
— Что же нам делать? — спросил он растерянно.
— Не знаю.
Гида в отчаянии заплакал. Онага опустилась на мокрую от росы траву и
посадила возле себя Гиду.
— Нам, Гида, не суждено вместе жить, — сказала она. — Отец мой
поторопился отдать меня замуж.
Гида вытер рукавом мокрые глаза и решительно сказал:
— Давай сбежим куда-нибудь, как Пота с Идари.
— Нот, Гида, мы не сможем сбежать, я не такая храбрая, как Идари.
«Она права, — думал Гида. — Куда мы сможем бежать? Кругом люди. На
Харпи, Симине, нигде не скроешься. А на Амуре сразу же схватят. Если
поймают... Трудно сейчас где-нибудь укрыться от чужих глаз, раньше легче
было».
Гида порывисто обнял любимую, прижал к груди. Он ласкал ее, целовал в
глаза.
— Ты прощаешься со мной? — спросила Онага.
— Нет. Я не могу тебя другому отдать.
— Пустое говоришь, милый. Нас шаман поженил, один жбан счастья сделал
на двоих.
— Я разобью этот проклятый жбан!
— Этого ты тоже не сделаешь, я знаю тебя.
«Она права, у меня не хватит смелости выкрасть и разбить этот проклятый
жбан, — подумал Гида. — Но что же делать. Неужели Онага не станет моей
женой?»
Гида лег на спину, чувствуя всем телом охлажденную землю, мокрую траву и
влажный воздух.
— Милый, у меня есть тайна, которую я никому не открою, — прошептала
она. — И тебе не скажу, хотя тебя это касается.
«Какие теперь могут быть тайны», — лениво подумал Гида.
— Почему ты не спрашиваешь, какая у меня тайна?
— Ты же сказала, что не откроешь.
Онага заплакала.
Гида порывисто обнял девушку.
— А ты будешь меня помнить? — спросил он.
— Всегда буду, милый!
«Это похоже на прощание», — мелькнуло в голове Гиды.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
— Ты соберешь артель, Полокто? — спрашивал Санька Салов. — У тебя
столько родственников, все они с охотой пойдут тебе помогать. У вас же все
родичи должны помогать друг другу. Так?
— Так, — согласился Полокто. — Это тогда, когда родственнику надо
помочь, когда он в беде...
— Не только в беде помогают, я знаю, — нетерпеливо перебил Санька. —
Что им, не хочется подзаработать? Я хорошо заплачу.
— Вода большая, трудно кету ловить.
— Я из Николаевска привезу тебе новые японские сети. Вот увидишь, что
за сети, самые лучшие сети в мире. Здесь за меня останется мой приказчик, ты
с ним будешь иметь дело. А я на всю путину уезжаю в Николаевск.
— У тебя там тоже есть рыбаки?
— Есть, — неохотно ответил Санька.
— Зачем тебе столько рыбы? В Николаевске ловишь, тут...
— Русские люди требуют, понял? А русских людей, слыхал, наверно, так
много, что по-нанайски не подсчитаешь, счета не хватит. Вот им всем кета
нужна. Так что сколоти артель и лови кету. Солить ты теперь умеешь, сам
соли, а приказчик будет у тебя бочки принимать.
— Санька, ты попроси кого другого.
— Никого, кроме тебя, нет в Нярги, кто мог бы справиться. Ты один самый
разворотливый человек. Почему не хочешь? Разве плохо стать богатым
человеком? Ты пока для меня будешь ловить и солить, а в следующий раз эта же
артель для тебя будет ловить и солить, ты сам им будешь деньги платить.
— Не знаю, Санька. После того как наши отказались вместе со мной доски
пилить, они все на меня косо поглядывают. Потом Киле еще, драться приезжали,
совсем ко мне люди стали плохо относиться. Теперь не знаю, наверно, никто не
захочет со мной рыбачить. Я, конечно, попробую уговорить, ты только дай мне
водку, с водкой легче разговаривать.
Санька Салов выдал за счет будущих уловов водки, договорился, сколько
будет платить за килограмм соленой кеты, и отпустил Полокто. Он не был
уверен, что Полокто добудет много кеты, но ему надо было организовать артели
в каждом нанайском стойбище; если каждая артель добудет хотя бы по двадцать
бочек кеты. А главное, фигура торговца Саньки Салова вырастет в глазах
рыбаков-нанай, все увидят, что малмыжский молодой торговец богатый и хорошо
платит за выловленную кету. А раз хорошо платит за рыбу, значит, ему можно
сдавать и шкурки запрещенного соболя, белок, лисиц, выдры.
У Саньки был уже большой рыбозавод на амурском лимане, с сотнями рыбаков
и рыбообработчиков, с управляющим и бухгалтером. В Николаевске он начал
строить каменный особняк. В Хабаровске он завел торговые дела с большими
предприятиями, предоставлял им брусья, тес. Там считали его крупным
лесопромышленником и величали уже не Санькой, а Александром Терентьичем
Саловым. В конце навигации зафрахтованный им пароход должен был привезти в
Шарго болиндеровскую пилораму с паровым котлом. Тогда он расширит дело. Для
этого ему понадобятся новые рабочие руки, их он найдет в русских селах и
нанайских стойбищах. Пусть здесь его зовут Санькой. Так с ними легче
сговориться.
Не все охотники уйдут в тайгу и потому согласятся работать на лесосеках;
они довольно ловко валят лес, но, кроме вальщиков, потребуются и возчики. Но
разве можно вывозить лес на собаках? Санька представил себе, как собаки
волокут сани по ледяной дороге, как всеми четырьмя лапами цепляются за
скользкий лед, падают, кувыркаются, и засмеялся.
Нет, надо нанай научить с лошадьми работать; Санька подарит Полокто
лошадь, это будет первая лошадь у гольдов.
А Полокто возвращался домой и соображал, кто войдет в его артель. Костяк
артели уже был, это он сам, двое его сыновей, мужчины большого дома: Дяпа,
Улуска, Калпе и, по-пожалуй, Богдан. Значит, семь человек. Конечно, хорошо
было бы привлечь в артель Пиапона, но Полокто его побаивается. При нем,
пожалуй, никто не будет слушаться Полокто. Нет, Полокто не пригласит Пиапона
в артель, он позовет других родственников, они не откажутся от хорошего
заработка.
«Женщины будут обрабатывать рыбу, я буду солить, другие — кету
ловить, — размышлял Полокто. — Икру тоже будут солить, ее можно продать
любому торговцу».
Вернувшись домой, Полокто зашел в большой дом. Агоака радостно встретила
брата, подала сама раскуренную трубку. Полокто сел на отцовские нары, в
изголовьях которых лежала свернутая постель, подушка, а на маленькой
матерчатой подстилке стояло пане, куда «вселился дух» Баосы. Сколько уж лет
прошло после гибели Баосы, а дети все еще не могут собраться отметить
религиозный праздник касан и отправить душу отца в буни. Полокто и здесь
видит вину Пиапона: они старшие, и они должны собрать и накопить деньги для
праздника, но Пиапон ни разу не заговорил об этом.
Полокто курил и думал, поглядывая на сидевшего рядом Улуску. «Глава
большого дома!» — беззлобно посмеивался он над зятем.
— Как, хозяин, кету собираешься ловить? — спросил он наконец.
Улуска для солидности помолчал, делая вид, что размышляет, и не спеша
ответил:
— Большим домом будем ловить. Невод наш цел, людей, правда, маловато,
но мы уже сговорились с Холгитоном, он с работником присоединяется к нам.
— А меня с сыновьями не позвал?
— У тебя же свой повод. Потом, ты не в большом доме живешь.
«Ишь как заговорил, паршивец!» — возмущенно подумал Полокто и крикнул:
— Не забывай, я дед, я самый старший!
— Ты не кричи, ты из другого дома, здесь я теперь старший, —
невозмутимо ответил Улуска, даже не взглянув на Полокто.
— Ты не можешь быть здесь хозяином, здесь должен быть главой дома
только Дяпа! — воскликнул Полокто.
— Ты, ага, тоже не забывай, он в этом доме пятнадцать лет живет, —
возразила Агоака.
— Мало ли сколько он живет, он чужой в этом доме, это дом Заксоров.
— Я могу уйти из этого дома, — вдруг заявил Улуска. — Дом отца целый,
кое-что подправлю и перейду туда. Зачем мне этот большой дом? Скоро Калпе
построит деревянный дом и уйдет, дом совсем опустеет. Я тоже уйду.
— Верно, отец Гудюкэн, верно, — поддержала мужа Агоака. — Большого
дома давно нет, только название осталось. Нам тоже не интересно в полупустом
доме жить с мышами да с пауками.
Полокто не ожидал такого отпора от сестры и прикусил язык: ему сейчас
нельзя ссориться с Улуской.
— Чего вы горячитесь? — заговорил он примирительно. — Отцы наши
умерли, и мы совсем разучились разговаривать со старшими. Никакого уважения
к ним! Я только хотел сказать, что Улуска не может быть главой большого дома
по старым законам. А вы тут сразу на меня накинулись, как волки на косулю. Я
ведь все понимаю. Знаю, как жизнь изменяется, как мозги людей новыми
законами засоряются. Живите дружно, помогайте друг другу и всем
родственникам, больше от вас ничего не требуется.
— Мне нечего договариваться с Дяпой и Калпе, — самодовольно проговорил
Улуска. — Я старше всех, они меня слушаются.
В дом вернулись Дяпа с Калпе, они только что закончили обжиг глиняных
грузил для невода.
— А вот и люди, которые слушаются старшего в доме, — громко сказал
Полокто.
Дяпа с Калпе поздоровались со старшим братом, устало сели на нары и
закурили. Женщины поставили столики, подали ужин. Агоака поставила еду перед
пане, дух Баосы «ел» то же, что и живые.
«Выпить с ними или не выпить? — думал Полокто, глядя на деревянное
пане. — Может, станут сговорчивее. Нет, они свои, родные, без водки
договорюсь».
— Невод починили? — спросил он.
— Только грузила надо подвязывать, а так готов, — ответил Дяпа.
— Это хорошо. На днях надо выезжать на тони.
— Вода большая, тони затоплены, — сказал Калпе.
— В низовьях хорошо ловят, за раз до тысячи кетин вытаскивают, —
соврал Полокто и подумал: «Сговорчивее будут».
— То в низовьях, а тут неизвестно, как еще обернется дело, — сказал
Дяпа.
Исоака с Далдой убрали пустые миски, подали чай.
— Я зашел с вами посоветоваться, — начал основной разговор Полокто,
отхлебывая горячий чай. — Был я сегодня в Малмыже, виделся с Санькой. Мы
можем хорошие деньги заработать на кете, столько заработать, сколько зимой
на охоте. Очень выгодное дело. Санька попросил меня организовать артель и
ловить для него кету. Мы сами будем солить и кету, и икру. Я буду засольщик.
Улуска будет главным в артели.
— Подожди, ага, — остановил брата Калпе, — ты даже не спросил, пойдем
мы в твою артель или нет. Может, я не хочу рыбачить в твоей артели и
отдавать кету Саньке.
— Почему?
— Может, я пойду к Пиапону. Вот допью чай и пойду посоветуюсь.
Калпе допил чай и вышел из дома. Из раскрытого окна Пиапона раздавался
дружный смех мужчин и женщин. Калпе открыл дверь и увидел брата, смущенно
почесывавшего затылок. Калпе любил второго брата, но никак не мог
примириться с его остриженными волосами. После того как зажила рана на
затылке, Пиапон перестал отращивать косу. Он один в стойбище ходил
стриженый. Некоторые смеялись над ним и прозвали его Сунгпун, что значит
Кочка. Пиапон смеялся вместе с ними, а однажды схватил молодого неряшливого
охотника, зажал его голову между колен и начал расплетать его косу, и тут
все увидели ряды белых гнид на черных волосах юноши.
— Неряха, — перестав смеяться, сказал Пиапон. — Если уж носишь косу,
то мой голову.
— Калпе, помоги мне, — смеясь, сказал Пиапон, увидев брата. —
Обыгрывают меня.
Пиапон с дочерьми и зятем, с племянниками Богданом и Хорхоем сидел на
голом полу и играл в алчоан (Алчоан — игральные кости. Лодыжки косули,
изюбра.).
Калпе сел между Пиапоном и Хорхоем. Богдан подбросил кость, взгляд вверх
и тут же вниз на кости, правая рука проворно смахнула две кости, опять
взгляд вверх, и кость со звонким щелчком опускается на ладонь. Одна из
костей остается у Богдана, другая летит на пол. Богдан присматривается к
третьей, он хочет подобрать сразу три костяшки, тогда он разом выиграет пару
костей.
— Вот так они и играют, им мало одной, им надо выигрывать по две, три
сразу, — ворчит Пиапон.
Никого не знал Калпе в Нярги, кто бы так, как Пиапон, в свободное время
играл в детьми, смеялся и шутил с ними. Были двое, трое охотников, которые
тоже устраивали состязания в алчоан, но они играли только с мальчиками, а
девочки рядом играли в нанайские куклы — акоан. Пиапон же играл и с
дочерьми, и те ничуть не стеснялись садиться рядом с отцом в круг,
подшучивать над ним. На рыбалке и на охоте Пиапон никогда не обрывал шуток
молодых людей над собой, и потому молодые всегда льнули к нему. Калпе
казалось, что брат его рискует потерять уважение молодежи, что на него
станут смотреть, как на ровню себе или еще хуже, как на дурачка, и начнут
потешаться над ним. Однако, когда молодые охотники оставались одни, Калпе с
удивлением убеждался, что они на разные лады расхваливали Пиапона, ставя его
выше всех сородичей. В него все были влюблены крепкой молчаливой мужской
влюбленностью.
Калпе тоже вовлекли в игру, и он с азартом принялся подбирать костяшку
за костяшкой. Жирник над головой Хэсиктэкэ начал чадить — кончился жир.
Вышивавшая на нарах Дярикта ворчала, что если каждый вечер так жечь жирник,
то нечего требовать тогда чистоты, потому что потолок, стены за вечер
покрываются слоем копоти.
— Все, хватит, — сказал Пиапон, поднимаясь с пола.
— У тебя какое-то дело ко мне? — спросил он брата, усаживаясь на
крыльце.
— Посоветоваться хочу, — ответил Калпе. — Старший брат артель
собирает, а кету артель будет продавать Саньке, говорит, хорошие деньги
получим, не меньше, чем на охоте в тайге за зиму.
— Надо сначала для себя наловить и уж потом на продажу, — подумав
сказал Пиапон.
— Я тоже так думаю, — Калпе пососал трубку и усмехнулся. — Он Улуску
поставил главным в артели.
— Улуску? Ничего, справится. А ты вступай в артель, если хорошо пойдет
кета, хорошо подзаработаешь.
Калпе посидел еще немного, выкурил трубку и пошел домой. Большой дом уже
спал.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Подходила кета, а на Амуре вода не убывала, затопляла острова, косы, где
рыбаки ловили кету неводами. На реке Харпи тоже стояла большая вода и
огромные стаи линялых уток прятались в затопленных тальниках и лугах. Еды
было вдоволь, и утки жирели, тяжелели. В августе одна стая за другой
поднялись в воздух — утки тренировали, укрепляли крылья, готовились к
великому перелету на юг.
Токто купил новое двуствольное ружье сыну, и Гида увлекся утиной охотой.
Каждый день с утра до вечера он пропадал на Харпи.
— Зря жжет порох, — говорил Пота.
— Пусть, зато отвлечется, — отвечал Токто.
На кетовую путину Токто выезжал с близкими друзьями, родственниками. Он
остановился на той же релке, где ловил кету каждую осень. Все рыбаки
окружающих стойбищ знали, что эта релка место храброго Токто, и никто не
смел без его разрешения раскинуть тут хомаран.
У няргинцев вдоволь тоней, большинство на высоких релках и островах. На
некоторых даже в большую воду можно было закидывать невод. Болонцы имели
меньше тоней, и почти что все они на низких островах. Теперь им приходилось
искать новые тони. Токто пригласил на свою релку болонца Лэту Самара.
Лэтэ приехал, как и остальные охотники, со всей семьей. Жена его,
толстая, с мясистыми щеками, с мужским голосом женщина, распоряжалась в
большом хомаране. Молчаливая красавица Гэнгиэ беспрекословно исполняла
распоряжения матери, носила из лодки вещи, раскладывала их в хомаране.
Молодые охотники не отводили глаз от Гэнгиэ, и она еще больше смущалась.
Гида впервые увидел Гэнгиэ. Сколько раз он бывал в Болони, но ни разу не
встретил ее ни в стойбище, ни на берегу реки. Он залюбовался девушкой.
Гэнгиэ носила простенький летний халат, кожаные олочи на ногах, но встань
она в один ряд с разодетыми девушками, пожалуй, затмила бы своей красотой
всех остальных. У нее были необычные для нанайки рыжеватые тонкие волосы,
заплетенные в тугие косы, спадавшие до пят. На белом лице девушки, как
крылья черного ворона, разметались брови, из-под длинных ресниц блестели
глаза, словно две черные смородины, освеженные ночной росой.
Гида почувствовал, как забилось сердце, кровь гулко застучала в висках.
Прав был отец! Вот почему он тогда расстроился! Ох, и голова безмозглая!
Гида сразу забыл Онагу, забыл о любви, о клятве, данной на прощание. Он
был очарован красотой Гэнгиэ.
«Имя ей правильно дали (Гэнгиэ — прозрачная.), — думал он. — Очень
правильное. Наверно, о таких красавицах говорится в сказках, что они такие
прозрачные, такие нежные, что проглотят фасолинку, и эту фасолинку насквозь
видно».
Токто первым заметил перемену в сыне и, подзадоривая его, часто посылал
в хомаран Лэтэ то за тем, то за другим.
Кэкэчэ и Идари девушка тоже понравилась, женщины, пока были свободны,
часто навещали хомаран Лэтэ и подолгу разговаривали с матерью Гэнгиэ. Лэтэ
радовался, не скрывая своих чувств, ведь он скоро породнится с храбрым
Токто, которого знают на всем Амуре. Большая честь быть с ним в родстве!
Теперь он разрешал дочери вечером посидеть на берегу Амура, побродить по
релке, хотя все же выходил проверять, с кем она водится и разговаривает.
Гэнгиэ подружилась с молодыми харпинскими женщинами и девушками и сидела
с ними, пока ее не звали на ужин.
— Ты ее меньше заставляй работать, — говорил Лэтэ жене. — Пока нет
кеты, нечего зря силы тратить. Пусть посидит, поговорит с новыми подругами.
— Молодые охотники пялят на нее глаза, это разве хорошо? — отвечала
жена.
— Замуж выйдет, не будут пялить. Породнимся с храбрым Токто. Вот почему
он меня на свое место пригласил. Поняла?
Гэнгиэ тоже узнала, кто ее жених, и стала с любопытством присматриваться
к Гиде. Когда он приходил к ним в хомаран, она подавала ему трубку, стыдливо
заглядывала в глаза юноши и, встретившись с его взглядом, смущенно опускала
голову. Много раз заходил Гида к Лэтэ, но ни разу молодые люди не
перебросились словом. Иногда Гида подходил к хомарану, Лэтэ, готовил
какую-нибудь шутку, с которой собирался обратиться к девушке, но стоило
увидеть ее, как его язык словно прилипал к гортани.
Гида ничего не мог поделать с собой, он прощался с Лэтой и трусливо
покидал хомаран. Только оставшись наедине с самим собой он начинал бичевать
себя за отсутствие смелости. Начинал вспоминать Онагу, первую встречу с ней;
в первый же вечер он признался, что она ему нравится, она ответила, что
давно влюблена в него — с этого у них и пошла любовь. Гида до этого никогда
не встречался с девушками, но он много слышал от молодых охотников и
взрослых мужчин об отношениях с женщинами и потому свою встречу с Онагой,
любовь к ней, считал обыкновенным делом. А теперь все получалось по-другому,
все необычно. Никто никогда не рассказывал, что любовь может быть такой
непонятной и страшной.
«Я трус, и все дело во мне», — горько думал Гида.
Кета с этом году запаздывала. Те небольшие косяки, которые вошли в устье
Амура, поднимались в беспорядке, выбирая протоки, где слабее было течение, а
большая часть поднималась прямо по затопленным лугам. Рыбаки, ставившие на
этих лугах сети, нередко ловили по две-три кетины на сетку.
Рыбаки в день по три, пять раз закидывали невод, но ловили только на уху
и потому больше отдыхали, выжидая, когда начнется рунный ход рыбы. И в эти
дни в гости к родителям и Токто приехал Богдан на новой оморочке из досок,
сделанной Пиапоном.
Рыбаки окружили оморочку, разглядывали, прощупывали, потом столкнули на
воду и поочередно прокатились на ней, испытывали плавучесть, ходкость. Все в
один голос заявили, что дощатая оморочка нисколько не хуже берестяной, она
легка, маневренна, хорошо скользит по воде. Пришли к выводу, что новая
оморочка, пожалуй, поднимет полтора средних лося, тогда как на берестянке
можно вывозить только одного. Это важное преимущество, решили охотники.
Понравились и маленькие весла, ведь на берестянке не прикрепишь уключин. А
весла — когда встречный ветер или сильное течение — очень пригодятся.
— Наверное, большой мастер этот брат Идари, — говорили охотники, —
никто еще не делал из досок оморочку, а он взял и сделал. Да как хорошо
сделал!
Между тем Богдан, красный от смущения, вырывался из объятий матери и
Кэкэчэ. Пота с Токто посмеивались в стороне, потом по очереди расцеловали
юношу в пунцовые щеки, посадили на кабанью шкуру.
— Соскучился? — спросила Идари.
— Некогда скучать, — солидно, по-мужски ответил Богдан и вызвал улыбку
мужчин.
— Ну, как учение? — спросил Пота.
— Хорошо, я уже все буквы знаю. Умею медленно читать и писать.
Богдан, позабыв о солидности, по-мальчишески, хвастливо стал
рассказывать о своих занятиях с учителем Павлом Григорьевичем Глотовым,
расхваливал его. Потом Пота начал разговаривать с ним по-русски и должен был
сознаться, что сын так преуспел в познании русского языка, что ему уже за
ним не угнаться.
— Он как русский говорит.
— Вот и хорошо, теперь ты будешь меня учить русскому языку, — сказал
Токто. — После рыбалки возвращаешься на Харпи?
— Нет, не могу. Учитель говорит, что грамоте учиться надо долго,
несколько лет.
Богдан стал рассказывать няргинские новости о Полокто, Пиапоне, жителях
большого дома, где они рыбачат, как ловится у них кета. В хомаран зашел
Гида, сдержанно поздоровался с Богданом и сел рядом. Богдан сразу заметил,
как похудел и почернел его друг, видно, амурское солнце жарче харпинского,
да и ветры тут крепче.
Гида молча слушал Богдана. После праздничных пельменей и
продолжительного чаепития он увлек друга из хомарана в редкие кусты
шиповника и повалился на теплый, пригретый скупым сентябрьским солнцем
песок. Богдан сел рядом.
— Богдан, друг мой, помоги, голова кругом идет!
— Что такое? В чем помочь? — испугался Богдан.
И Гида, заикаясь, рассказал о своей новой непонятной любви к красавице
Гэнгиэ, признался в трусости и попросил друга сходить к девушке и передать
ей, что он, Гида, будет ее поздно вечером ждать возле ее хомарана. Пусть она
выйдет к нему. Богдан выслушал и спросил:
— А Онага? Ты же любил ее, хотел жениться, с отцом даже поссорился.
— Ну, хотел жениться, ну, поссорился! Она замужем и пусть живет с ним.
— Как замужем? — удивился Богдан.
— Ее четырехлетней отдали замуж, — объяснил Гида, — после кетовой
путины за ней муж приедет. Поможешь или нет?
— Если Онага замужем, что же делать — помогу тебе, — просто ответил
Богдан. — Где живет Гэнгиэ?
— Ты только ей одной передай, при посторонних не говори. Понял? Ой,
Богдан, она самая, самая красивая!
«Красивая, красивая, — передразнил про себя Богдан, — влюбляется во
всех девушек, а сам слова не может сказать!» И вспомнил Богдан о своей
тайной любви к дочери Пиапона, Мире, вспомнил и покраснел, оглянулся на
Гиду — не понял ли тот его мысли?
Рядом с хомараном Лэтэ в кустах стоял большой котел, и возле него
хлопотала в простеньком летнем халате девушка в кожаных олочах на ногах.
Богдан взглянул на нее и удивился, он никогда не видел нанаек со светлыми
волосами.
«И правда, необыкновенная», — подумал он. Встретился о ее черными
глазами, улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась.
— Я от Гиды, — сказал Богдан, разглядывая девушку. — Он просил, чтобы
ты вышла поздно вечером, он тебя будет ждать.
— Сам не мог сказать? — спросила девушка мягким, грудным голосом.
— Он стесняется.
Гэнгиэ длинной палкой помешала в котле варево для собак.
— Выйдешь? — спросил Богдан. — Гида хочет знать.
Девушка вдруг вытащила из-за пазухи небольшой сверток и подала Богдану.
— Передай ему, — прошептала она.
— А что это? — удивился Богдан.
— Ах, какой ты! — совсем смутилась Гэнгиэ. — Передай ему.
Богдан еще раз взглянул на пунцовое от смущения лицо девушки и
попрощался.
«Ну и хорошо, — подумала Гэнгиэ, — все равно мама заставила бы самой
подарить».
Гэнгиэ не думала одаривать будущего мужа подарками, она даже и не знала,
что жениху надо что-то дарить. Но мать заставила ее вышить кисет,
разукрасить самыми красивыми узорами, для этого она не пожалела шелковых
ниток и бисера. Кисет Гэнгиэ шила несколько дней, за это время мать сама
готовила еду, кормила собак, носила воду, ездила за дровами с соседскими
женщинами, потому что весь плавник и сухостой рядом уже были сожжены.
— Он твой жених, тебе с ним жить всю жизнь, — говорила мать,
рассматривая узоры на кисете. — Пусть он видит, что ты не только красива,
но еще и большая мастерица. Наши мужчины только на первых порах любуются
красотой женщины, а потом они смотрят, что делают наши руки. Хорошо готовишь
еду — хорошо. Хорошо вышиваешь — еще лучше. Не покладая рук хлопочешь по
дому — очень хорошо. Вот такие наши мужчины.
Кисет, кажется, вышел неплохой, даже отец похвалил и сказал, что не
знал, какая у него дочь мастерица. Потом сделал обиженное лицо и добавил,
что, конечно, она не стала бы для него так стараться. Но то была шутка отца,
радующегося будущему удачному замужеству дочери.
...Богдан прибежал на то место, где оставил Гиду.
— Вот тебе, — Богдан отдал ему сверточек.
— Что это такое? От кого?
— От нее.
Гида дрожащей рукой развернул сверток и вытащил расшитый бисером
красивый кисет. Юноша задохнулся от охватившего его волнения. Потом он обнял
Богдана и стал с ним бороться, повалив на мягкий песок.
— Сдаюсь, Богдан, обожди, — опомнился Гида. — Весь кисет помяли.
Гида сел и стал разглядывать узоры.
— Если бы она понимала грамоту, она тебе этим бисером написала
что-нибудь, — сказал Богдан.
Но Гида пропустил мимо ушей замечание друга, он разглядывал узоры и за
ними видел нежную любимую Гэнгиэ. И зачем ему грамота, когда рядом с ним
Гэнгиэ, его любовь, его жизнь!
Вечером в сумерках рыбаки сделали последний контрольный замет и вытащили
двенадцать кетин, самый большой улов за все это время.
— Кета подходит, завтра начнется рунный ход, — заговорили рыбаки.
В этот вечер рано легли спать, и сказочники впервые уснули спокойно,
никто не пришел в их хомараны, упрашивая рассказать сказку. Даже собаки
будто чуяли, что ожидает их хозяев тяжелый труд, и не выли в эту ночь.
Один Гида бодрствовал. Он сидел в кусках возле холодного остывшего котла
и ждал любимую. Когда Гэнгиэ вышла из хомарана, он выступил вперед. Девушка
подошла к очагу и села. Гида, только что готовивший горячую речь о своей
любви, опять онемел.
— Я... кисет получил... красивый, — пробормотал он. — Табак стал
другой... вкусный.
Гэнгиэ молчала, она прутиком разравнивала пепел под черным котлом,
расшвыривала остывшую золу.
А на черном небе плясали звезды, оповещая жителей земли о надвигавшемся
ненастье.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Как предполагали старики, осень выдалась дождливая и ветреная. К концу
кетовой путины задул холодный низовик, нанес тяжелые свинцовые тучи с моря.
Заморосил надоедливый дождь, так некстати для рыбаков и их жен.
Пиапон в первый подход кеты вдоволь заготовил себе юколы, корм собакам и
с наступлением ненастных дней вернулся с семьей в стойбище.
— Скоро учиться начнем, — радовался Богдан, который рыбачил с
Пиапоном.
— То, что Павел тебе задал, все выполнил? — спросил Пиапон.
— Да, все выполнил.
— Павел хороший человек, он очень хочет, чтобы вы научились читать и
писать. В Болони тоже был учитель, тот как увидел, что дети не слушаются
его, полгода посидел в стойбище и уехал. А Павел хороший человек. Другой на
его месте не стал бы разъезжать по тоням, да требовать от вас, чтобы
учились, махнул бы рукой и отсиживался бы у друзей в Малмыже.
Пиапон всегда разговаривал с племянником как с равным, ему нравилась его
любознательность и разговорчивость. Богдан не мог долго молчать — он или
расспрашивал о чем-нибудь или сам рассказывал.
Зять Пиапона, напротив, был молчаливый, задумчивый человек. Он мог
молчать целыми днями, разговаривать с ним было одно мучение, каждое слово
приходилось вытягивать, словно крючьями. Пиапон, сам молчальник, сторонился
зятя и только в редких случаях выезжал с ним на охоту или рыбную ловлю.
Вернувшись в Нярги, Пиапон два дня ладил охотничье снаряжение, на третий
день с зятем и Богданом выехал на охоту. На Черном мысу Пиапон остановился
на полдник. Здесь с весны жили пятеро корейцев, они раскорчевали, расчистили
небольшую поляну под огород, посадили овощи, построили две фанзы и все
свободное время продолжали расширять участок под огороды. Пиапон решил
познакомиться с ними. Как только корейцы увидели охотников, вышли на берег,
принесли кочан капусты, крупную брюкву. Все они были босы, в рваных штанах,
в грязных изорванных рубахах. Один из них довольно понятно говорил
по-русски.
Пиапон отдал им прихваченную из дома свежую кету. Корейцы благодарно
закивали головами, потом все вместе сели в кружок и стали пить чай.
— Говорят, вы от русских прячетесь? — спросил Пиапон.
— Нет, русски пряч нету, — ответил кореец. — Русски наса земля давай
есть.
Глаза корейца разгорелись веселым огоньком, и он без расспросов Пиапона
начал рассказывать о своей жизни. После захвата Кореи Японией не стало житья
беднякам-корейцам, японцы издали закон о телесном наказании и пороли
беспощадно за малейшую провинность. Порку, может быть, вытерпели бы, но
японцы отобрали те маленькие клочки земли, на которых корейцы выращивали
овощи, на них начали строить заводы, открывать полигоны, а крестьян сгоняли
с насиженных мест.
Ким Хен То, как звали говорившего по-русски корейца, с друзьями ушел из
своей деревушки, оставив семью. Сперва он подался в Китай, потом в
Маньчжурию, всюду видел беспросветную жизнь бедняков, и всюду бродили такие
же безработные, безземельные крестьяне, как и он. Тогда Ким Хен То подался к
русской границе, слышал, что на русской стороне много земли и человеку,
любящему землю, там можно жить привольно. Но на границе толпились сотни,
тысячи корейцев и китайцев, желавших переселиться на русские земли. Здесь он
увидел, как из-за русской границы солдаты привели большую группу корейцев и
китайцев, солдаты довели их до границы, вывели на китайскую территорию и
потребовали, чтобы больше их ноги не было на русской земле. Ким Хен То
подошел к одному корейцу, побывавшему по ту сторону границы, и расспросил
обо всем: оказалось, что эту группу выдворили из территории России потому,
что они не запаслись специальными бумагами, разрешающими безвозмездное
проживание на русской земле.
— Русские боятся, что мы заселим их землю, а потом, когда прибудут
русские люди, им не хватит земли, — рассказывал кореец. — Купить бумагу я
не мог, у меня совсем нет денег. Как я буду жить? Как будут жить мои дети?
Кореец плакал. Ким Хон То на последние деньги купил у русских бумагу, но
русские потребовали, чтобы он принял христианство. Ким готов был принять
любую веру, лишь бы иметь свою землю. Он принял христианство, русское имя,
но теперь забыл свое русское имя и всем говорит, что его зовут Иван. Четверо
его товарищей тоже называют себя Иванами. Это не беда — пусть зовут их как
хотят, главное теперь, что они имеют свою землю. Ким Хен То с двумя
товарищами скоро собирается съездить в Корею за семьями, весной они привезут
сюда жен и детей. Здесь он заживет новой жизнью! Здесь не запрещают иметь
собственный топор и нож, а в Корее японцы разрешают иметь на всю деревню
один топор и один нож.
«Один топор и один нож на всю деревню, — думал Пиапон, отплыв от
Черного мыса. — Как же так можно жить? Что за люди эти японцы? Пришли на
чужую землю, отобрали ее, выгнали жителей, оставили голодными. Как же так
можно? Русские ведь не отобрали у нанай их стойбища, но выгнали в тайгу.
Почему это один народ такой, а другой — совсем иной».
— Они, эти японцы, издеватели! — сказал вдруг Богдан. — На все
стойбище оставили один топор и один нож. Это как? Если бы в Нярги был один
нож и один топор, то мы все подохли б с голоду. Как выедешь на рыбалку или
на охоту без топора и ножа?
— Ты правильно говоришь, померли бы с голоду. Я думаю, эти японцы еще
боятся корейцев: если у всех корейцев будут ножи и топоры, то они могут
порезать и порубить их.
— Трусы! Тогда нечего было захватывать чужую землю!
Пиапон искоса поглядывал на плывущего рядом Богдана, видел его горящие
глаза, пылающие щеки и думал: «Близко к сердцу принимает!»
Вечером проезжали лесопилку и кирпичный завод Саньки Салова. Под длинным
навесом краснели прямые ряды кирпича, на берегу возвышались штабеля свежих
досок, от них шел пряный хвойный запах. Чуть выше штабелей досок под навесом
стояло какое-то невиданное металлическое сооружение. Ни Пиапон, ни Богдан,
ни зять Пиапона не видали такой машины. Богдан попросил разрешения осмотреть
машину. Оморочки пристали к берегу, и Богдан побежал. Пиапон закурил и
неторопливо зашагал за ним. Зять его остался в оморочке.
— А, Пиапон! Друг прелюбезный, давно не виделись. — закричал Ванька
Зайцев, выходя из-за штабелей досок. — Куда это ты, на сохатого, што ли?
— На сохатого, — ответил Пиапон.
— Машину хоть поглядеть? Знатная она, чертовка. Энта с трубой пар будет
давать, а другая одним махом бревно распилит на доски. Понял? Вон сколько
нас пильщиков, а она, чертовка, одна больше нас будет выпиливать досок.
Понял? Одна! А у сохатых гон начался. Хороша охота. Трубить будешь?
Пиапон так и не разобрал, что говорил Ванька Зайцев, хвалил машину или
ругал, хорошая она или плохая. Если она одна заменит всех пильщиков, то
выходит, хорошая вещь.
— Давеча я ездил на охоту, добыл одного быка, — сказал Ванька
Зайцев. — А чертовка эта хороша. Санька ведь купил. Богач теперь Санька!
Покрикивает на нас, нос задирает. Пароход ейный сюда подходит. Бо-огач! Ты,
Пиапон, приходи сюда работать, лес треба, много леса треба.
— Нет, охотиться буду.
— Брат твой Полокто с сыновьями тут лодку строил, да сбежал. Эх,
Пиапон, желаю на этой чертовке научиться работать. Трудное дело!
— Трудно, наверно.
— Да-а. Легче сотню бревен распилить.
Подошел сияющий Богдан, и Пиапон попрощался с Ванькой Зайцевым.
— Пиапон, ты можешь мясо сюда привезть, купят! — крикнул ему вслед
Ванька.
— Дедушка, ух и машина! Какая большая, да тяжелая! — рассказывал
Богдан, когда отъехал от лесопилки. — Вот бы посмотреть, как она работает.
Мне один русский толковал, толковал, но я ничегошеньки не понял. Ух, машина
так машина! Наверно, гудит и пыхтит, как пароход. Вот бы научиться на ней
работать, вот здорово было бы! Там колесо повернешь — она вся повернется,
там крутанешь — она крутанется.
— Так легко работать, легче, чем работать маховиком, — засмеялся
Пиапон.
— Ее же не толкать, с места не сдвигать. Вырасту — обязательно научусь
на такой машине работать. Там крутанешь...
— Она крутанется, — подхватил Пиапон, и оба рассмеялись.
Разговору теперь у Богдана хватило до устья горной речки, где они
собирались охотиться. Переночевали на устье, утром Пиапон трубил в
берестяную трубку, подражая зову самки. «У-а-а. У-а-а-а-х. У-а-а», —
неслось по тайге от кедра к кедру, от сопки к сопке. Быки замерли,
прислушивались, но не шли на зов. Охотники не дождались зверя и стали
подниматься вверх по речке. Вскоре зять Пиапона отделился и поехал по
правому рукаву речки.
После полудня охотники добрались до другого разветвления речки, здесь с
левой стороны подступала тайга, с правой тянулись ряды релок. Богдан собрал
хворост, разжег костер и повесил на таган котел. Пиапон предложил спарить
суп из юколы, Богдан же хотел сварить мясной суп из сушеного мяса с капустой
и крупой.
— А ты умеешь капусту варить? — усмехнулся Пиапон.
— Чего там не уметь? Накрошить да спустить в котел, — с юношеской
самоуверенностью ответил племянник. Богдан при жизни Баосы несколько раз
бывал у старшего Колычева, отведал вкусный борщ, квашеную капусту.
— Я помню, русские в суп кладут картошку и всякие другие овощи, —
сказал Пиапон.
— А мы тоже вот брюкву накрошим, — стоял на своем Богдан.
Пиапон не стал возражать, ему самому хотелось отведать суп из свежей
капусты. Мальчик крошил кочан, под ножом хрустела капуста. Хрустела она и во
рту. Пиапон тоже стал грызть серединку кочана.
— Сколько разной еды русские готовят из этой капусты, супы всякие
варят, жарят, солят, а соленая, какая она вкусная со свежей ухой, — говорил
Пиапон. — А мы ее только у русских пробуем, сами не выращиваем.
— Дедушка, а почему бы нам не сажать капусту, картошку, огурцы, табак?
А брюква вкусная, на, попробуй.
— Я сам не знаю, почему мы не выращиваем овощи. Можно было расчистить
поляну в тайге и посадить их, семена русские сами дают.
Вскоре закипел суп в котле.
Богдан зачерпнул суп ложкой, подул и попробовал.
— Ну как, есть можно? — спросил Пиапон.
— Сладко-соленая какая-то, — смущенно ответил Богдан.
— Это от брюквы. Посолим покрепче, съедим.
Суп на самом деле получился сладковатый, но охотники съели его с
удовольствием. Потом до вечера отдыхали и говорили об огородах; Пиапон
вспоминал свою поездку в Сан-Син, о встречах с маньчжурами-овощеводами и
думал, почему бы ему на самом деле не посадить картошку. Митрофан как-то
говорил, что она хорошо растет на песке, не потребуется много труда
раскорчевать кустарник и посадить ее. Приедет в другой раз жена Митрофана,
Надежда, наверно, заговорит об этом; весной надо хоть немного посадить
картошку, огурцов и китайскую капусту. Понравится, тогда можно увеличить
посев. С этими мыслями Пиапон задремал и прогнулся, когда солнце застыло
неподвижно, запутавшись в ветвях кедра. Было еще рано приниматься за охоту.
Пиапон разжег костер, подогрел остаток супа, и оба подкрепились на ночь.
Солнце совсем скрылось за деревьями, когда они выехали в облюбованные
места. Вскоре таежную тишину и вечернюю зорьку вспугнула берестяная труба
Пиапона. «Уа-уа! Уа-ах! Уа-уа!» — неслось по реке и тайге, поднималось
ввысь, к проклюнувшимся в чернеющем небе звездочкам. «Уа-а! Уах! Уа-уа!» —
трубила труба, и вечерняя зорька трепетала, прислушиваясь к страстному зову.
Богдан сидел в стороне от Пиапона и первым увидел черного лохматого
быка, осторожно выглянувшего из кустарника. Лось поводил носом, вдыхал
пряный аромат осени, пытаясь уловить в нем тот единственный запах, который
взбудоражит его кровь, доведет до исступления. Бык смотрел по сторонам
налитыми кровью глазами; он знал, что где-то тут рядом находится та, которая
полным страсти голосом зовет его, но прежде он хотел отыскать соперника,
который тоже должен быть где-то здесь рядом: бык хотел драться, хотел в
жестокой драке добиться обладания самкой.
Но соперник не показывался, и лось медленно вышел из кустарника, опять
огляделся по сторонам и нетерпеливой рысью направился на зов самки.
Богдан, как завороженный, смотрел на черного лохматого быка, на его
гордую голову, на ветвистые тяжелые рога и любовался им: он никогда не видел
такого красивого, гордого и большого быка.
«Вот это настоящий сохатый», — подумал он, поднимая берданку.
Лось остановился, повел из стороны в сторону гордой головой, он все еще
надеялся встретить соперника. Он жаждал битвы. Богдан видел через прорезь
прицела его голову, рога, словно ветви могучего дерева, и опустил берданку:
он не мог смотреть на этого великана через прорезь прицела.
«Уа-а! Уа-ах! Уа-уа!» — раздался трепещущий зов, и бык тяжело побежал
навстречу этому зову. Богдан больше не поднял берданку: в такого красавца
целятся только раз. Немного погодя раздался выстрел Пиапона, потом второй;
эхо выстрела замерло вдали, потом вернулось вновь, будто хотело убедиться,
действительно ли погиб таежный красавец. Богдан слушал удалявшееся эхо и
думал, что он не настоящий охотник, потому что настоящие охотники не
отпускают в тайге добычу, которая сама идет к тебе. Ведь в тайге не любуются
красотой зверя, в тайге его бьют, чтобы самому насытиться, накормить своих
родных и детей. Богдан поднялся и хотел только пойти к Пиапону, как вновь
начал Пиапон трубить в берестяную трубу.
«Неужели не убил? — подумал Богдан. — Эх! Почему я не стрелял? Ведь
сохатый стоял от меня в двадцати шагах! Голова ты, голова, залюбовался! Чем
залюбовался? Куском жирного мяса?»
Богдан казнил себя последними словами. А над тайгой опускалась ночь,
звезды загорались ярче, и «лыжня охотника» дымчатым следом лыж пролегла
через все небо. Юноша поднялся и побрел к Пиапону, сделал несколько шагов и
остановился при звуке выстрела; ночной выстрел прозвучал оглушительно
громко, точно мир раскололся на части.
Когда Богдан подошел к Пиапону, тот свежевал красавца великана, которым
любовался юноша.
— Убил? — невольно вырвалось у Богдана.
— А что? Убил, — ответил Пиапон, кулаками отделяя кожу от еще теплого
мяса быка.
— Я думал, промазал, потому что ты сразу вновь стал трубить.
— Сохатые сейчас бесстрашны, они ничего не слышат, не видят, кровь у
них бурлит, они слышат только клекот своей крови.
Ночью при свете костра охотники закончили свежевать обоих лосей,
вздремнули немного, и на утренней зорьке опять их берестяная труба зазывала
обезумевших от страсти быков. Утро выдалось пасмурное, кропил мелкий дождь.
Лоси не шли на зов трубы.
— Холод и дождь остудили их жар, — пошутил Богдан.
— Остудишь. Вырастешь — узнаешь, — ответил Пиапон.
Охотники разожгли костер, поставили варить мясо и стали готовить дрова.
Дров требовалось много, чтобы закоптить мясо двух быков. В десяти шагах от
костра стояли сухие, некогда погубленные пожаром, березы, клены. Пиапон с
Богданом принялись руками валить их, рубить топором. Много было уже
заготовлено дров, Богдан устал, пот лил с него градом. Юноша вытер пот с
лица и остолбенел от удивления: через зеленые кусты на них шел молодой
трехгодовалый бык. Богдан в три прыжка оказался возле своей берданки, когда
он взвел курок, лось остановился и ослепшими глазами смотрел в сторону
Пиапона, который продолжал валить сухостой. Богдан выстрелил. Лось высоко
подпрыгнул и свалился на правый бок. Тут только Пиапон увидел лося.
— Говорил я тебе, они сейчас ума лишились, они идут по велению
крови, — говорил Пиапон, разделывая зверя. — Ну, куда он шел? Будь это
весной или летом, бежал бы от этого шума, а теперь идет на любой звук.
— Глупый, зачем он шел на шум?
— Как зачем? Сейчас они дерутся из-за самок. Там, где шум, там идет
драка. Вот идут смотреть на эту драку. А молодые надеются воспользоваться
случаем. Однажды я своими глазами видел, два крупных старых сохатых дрались,
рядом стояла самка и пощипывала листья. Я думаю, ей все равно было, кто
победит. Я смотрел и говорил себе: «В чужую драку не лезь, пусть они сами
решат, кому умереть». Я решил убить побежденного. Смотрю, выбегает такой же
молодой трехгодовалый бык, посмотрел на дерущихся быков, потом стал
ластиться к самке. Думаю, что же будет дальше. Быки дерутся, а трехгодовик
все ластится, ластится, а потом и увел самку в тайгу. А быки ничего не
видят, все дерутся. Вот так бывает!
— Ты убил их?
— Зачем? Я же сказал себе, не лезь в чужую драку.
— Отпустил?
— Я сам ушел, не знаю, сколько они еще дрались, старые дураки.
Два дня коптили мясо лосей, заготовленное кренделями мясо нанизывали на
бечевки. Все эти дни Пиапон с Богданом питались мясом, варили кости с
оставшимся на них мясом, собирали костный мозг в берестяной туесок. Перед
отъездом домой свалили четвертого лося, нагрузили мясом оморочки, но
поднялся сильный верховик, и охотникам пришлось пережидать непогоду. Вечером
верховик стих.
— Тяжелая осень, будет тяжелая зима, — заметил Пиапон.
Богдан много раз слышал такие предсказания от других охотников. Все
говорили, что после их ухода в тайгу семьи останутся без свежего мяса и
рыбы, а юкола из-за сырой осени не провялилась, заплеснела, если только ею
одной питаться, можно заболеть. Слушая эти разговоры, Богдан вспоминал Баосу
и лов калуг и осетров.
«Если в стойбище останутся человек десять мужчин, то всех могут
накормить свежей рыбой», — думал он.
Ехали всю ночь, ночью же проехали притихший лесозавод, его
местопребывание выдавал только острый запах свежепиленых досок.
— Как крутанешь, и она начинает крутиться, — сказал Пиапон.
Богдан засмеялся. Он устал, глаза его слипались, руки онемели, и маховик
казался тяжелым, будто выточенным из камня. Шутка Пиапона немного взбодрила
его.
Рано утром подъехали к поселенцам-корейцам. Пиапон прихватил большой
кусок мяса и отнес им. Корейцы уже были на ногах, они вышли на берег,
принесли брюквы, початки кукурузы, фасоли, кочаны капусты.
— Зачем вы столько несете? — говорил им Пиапон. — У нас оморочки
перегружены.
— Ничо, ничо, хоросо, — смеялся в ответ Ким Хен То.
К полудню охотники вернулись в стойбище. Все рыбаки возвратились домой,
вешала возле каждой фанзы были переполнены юколой, и ожиревшие во время
путины собаки спали под ними, свернувшись клубками.
Женщины и мужчины большого дома вышли встречать охотников, перенесли в
амбар долю Богдана, помогли Пиапону. Калпе рассказывал, сколько они выловили
рыбы, сколько заработали денег и сколько на них купили продовольствия и
всяких других товаров. Пиапон очень устал, но все же внимательно слушал
брата.
А Дярикта и обе дочери таинственно переглядывались между собой и
молчали. Пиапон заметил необычную бледность младшей дочери и спросил, не
заболела ли она вновь. Мира с испуганным лицом застыла на мгновение, потом
собралась с силами и ответила, что она приболела немного, но теперь
совершенно здорова. «Чего же она так испугалась?» — подумал Пиапон.
Когда он наконец зашел домой, то от неожиданности замер в дверях: в
левом углу, где раньше был сложенный из камня очаг, стояла настоящая русская
печь.
«Это Митропан, кто же, кроме него, сделает, — подумал Пиапон. — Как он
так быстро сложил ее?»
— За два дня он закончил, — словно прочитав мысли мужа, сказала
Дярикта. — Помогал ему учитель. Опять новую широкую лежанку привез,
говорит, это нам с тобой, — Дярикта засмеялась: — Говорит только быстро не
раскачайте. Такой игривый этот твой Митропан.
«Мясо надо отвезти, — подумал Пиапон. — Чем же я еще могу его
отблагодарить?»
Пиапон прошел за перегородку, осмотрел со всех сторон добротную широкую
кровать с резными спинками и ножками.
«Все он делает красиво и крепко», — подумал Пиапон.
— А это, говорит, тебе старый отец его прислал, — сказала Дярикта,
указывая на портрет самодовольного рыжего человека, с орденами на груди. —
Это, говорит, царь русских, хозяин всей русской земли. Только мне, отец
Миры, не нравится этот царь. Посмотри на него внимательно, он смотрит на
тебя?
— Да, — ответил Пиапон, потому что царь действительно смотрел ему в
глаза.
— Теперь смотри на него и отходи в сторону. Он все смотрит на тебя?
— Да, — удивленно ответил Пиапон: царь так же смотрел на него, и куда
бы он ни отходил, царь будто поворачивался за ним и не спускал с него глаз.
«Что за наваждение? — думал Пиапон. — Он будто живой».
— Это первой заметила Мира, и ей плохо стало.
— Заболела?
— Плохо ей стало. Я думала, в этого царя черт вселился, разве бумажный
человек может за тобой следить?
— Долго болела Мира?
— Нет, нет, совсем не долго. День всего только.
— Странная она какая-то, что за болезнь в нее вселилась? Может, отвезти
ее к доктору Харапаю?
— Что ты, что ты, отец Миры! — замахала руками Дярикта и
побледнела. — Зачем это? Нет, не надо, мы сами ее вылечим. Ты уедешь на
охоту, и мы ее вылечим. К шаману съездим.
«Чего она так боится? — подумал Пиапон. — Мира испугалась, вся
побледнела, чего они боятся? Может, какая плохая женская болезнь у дочери?
Надо бы съездить к Харапаю, он все болезни вылечивает».
Пиапон очень устал. Он выпил горячего чаю, еще раз прошел из стороны в
сторону перед портретом царя, лег на новую кровать и тут же словно
провалился в черную яму.
Проснулся он в сумерках. В окно бил ветер, трепыхался, словно подбитая
птица крыльями. Пиапон поднялся и сразу встретился с глазами царя. «Что он
так смотрит на меня? — подумал Пиапон. — Хозяин всей русской земли, а
ничего в нем нет особенного. Может, звезды на груди особые? А так человек,
как человек. Только почему так смотрит на меня?»
— И вправду в тебя вселился злой дух, — сказал Пиапон.
Он разыскал сверток, где жена хранила свое рукоделье, вытащил иглу и
проколол оба глаза царя.
— Теперь сколько хочешь смотри, — сказал он. — Никому вреда не
сделаешь, черт, вселившийся в тебя, погиб.
Пиапон сворачивал сверток с рукодельем жены, когда в дверь кто-то вошел
и раздался тихий голос Дярикты:
— Он еще спит.
Пиапон положил сверток на место и вышел из-за перегородки. В дверях
стоял Калпе.
— Я к тебе, ага, — сказал он, — пойдем к нам.
— Охотник наш еще спит? — спросил Пиапон.
— Спит.
Братья вышли из дому, и Калпе горячо заговорил:
— Он совсем спятил, его деньги свели с ума. Он опозорил память отца,
всех нас, весь род Заксоров!
— Обожди, ты о чем это?
— О старшем брате, о ком же еще! Помнишь, как мы отвозили жбан счастья
в Хулусэн? Помнишь, как рассердился тогда отец? Сейчас он все видит и плачет
там в буни. Старший брат привез жбан счастья сюда, жбан у него в доме, уже
молились люди, и брат наш с них взял деньги. Позор на голову всех Заксоров!
«Все же он добился своего! — с негодованием подумал Пиапон. — Думает,
если нет отца, то он может все себе позволить».
— Зайди к нему, пригласи в большой дом, — сказал Пиапон.
В большом доме засуетились женщины, когда он вошел туда. Агоака подала
прикуренную трубку. Не выкурил Пиапон и половину трубки, как вошел Полокто.
— Здравствуйте, люди большого дома, — поздоровался он. — Здравствуй,
отец Миры, попробовал я твое мясо, печенку с почкой поел, после рыбы — это
еда!
К старшим братьям подсели Дяпа с Калпе и Улуска.
— Слушай, отец Ойта, — глядя в глаза брата, проговорил Пиапон. —
Слушай и запомни.
Полокто сразу почувствовал недоброе и приготовился защищаться.
— В стойбище говорят, что ты берешь деньги за моление жбану счастья.
— В Хулусэне тоже брали.
— Нас не касается, что берут в Хулусэне. Но когда жбан находится в
нашей семье, никто не должен ни с кого брать деньги. Так велел отец, так
решили мы все.
— Кто это все?
— Наша семья. Я, Дяпа и Калпе.
— Жбан находится у меня, и я буду делать, что захочу. А ты почему мне,
старшему брату, указываешь?
— Я не хочу с тобой ссориться. Будешь брать деньги?
— Это мое дело! Жбан у меня в доме...
— Тогда сейчас же жбан перейдет сюда, в большой дом, и будет стоять
там, где он всегда стоял.
Полокто закричал, выругался, но от гнева захлебнулся слюной.
— Мать Гудюкэн, иди и скажи Ойте и Гаре, чтобы они сейчас же принесли
сюда жбан, — приказал Пиапон.
Полокто вскочил на ноги, но его крепко схватили жесткие руки Дяпы, Калпе
и Улуски. Полокто пнул Калпе, потом Улуску, но кто-то ударил его по ноге, и
он мешком свалился на нары.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Павел Григорьевич вернулся подле обхода стойбища в прескверном
настроении: никто из родителей не ответил ясно, будут их сыновья учиться
зимой или нет.
— До ледостава нечего делать, учи их, — сказали все охотники.
Павел Григорьевич знал, что все мальчишки старше девяти лет уйдут в
тайгу с отцами. Поэтому он просил охотников оставить детей на зиму в
стойбище, чтобы они продолжали учебу.
— Сам скажи им, захотят остаться — останутся, не захотят, что
поделаешь? Не привязывать же их к столбу в фанзе, — отвечали охотники.
Бесполезно было разговаривать с самими мальчишками. Они грезили зимней
охотой, на переменах говорили только об охоте, играли только в охотничьи
игры. Что им ни говори, они уйдут с отцами, братьями в тайгу. Другое дело,
если бы сами отцы потребовали, чтобы они остались в стойбище и учились в
школе. Но охотники готовили из сыновей будущих своих кормильцев.
— Что толку, что будешь грамотным, а охотиться не сумеешь? Ты не только
себя, но и собственных детей не прокормишь, да на старости лет меня голодным
оставишь, — откровенно заявляли охотники своим сыновьям.
Единственный мальчик, который хотел учиться, был Богдан, рослый, не по
годам развитый, умница. Павел Григорьевич всегда испытывал радость, когда
спрашивал у него урок или просто беседовал о рыбной ловле, охоте,
расспрашивал о насекомых, зверях. Богдан отвечал ясно, образно. Он был
единственным учеником, который умел читать по слогам. Но с одним Богданом и
тремя девочками Павел Григорьевич не мог заниматься, начальство требовало,
чтобы в школе обучалось не менее десяти учеников. Требовали обучать, но не
снабжали школу букварями, не хватало грифелей, бумаги, карандашей.
Грифельные доски Павел Григорьевич изготовил сам, когда оборудовал школу
столами, скамьями собственного производства.
Павел Григорьевич снял со стены знаменитую двустволку, подпоясался
патронташем и вышел на берег. Это ужо вошло в привычку, когда захватывала
его тоска по родным местам и близким людям или набрасывалась на него хандра,
он брал ружье, садился на свой кунгас и выезжал куда глаза глядят. Широкий
простор Амура, узкие заросшие густыми тальниками протоки до слез напоминали
родную речушку Уводь, на берегу которой он рос в городе текстильщиков
Иваново-Вознесенске. Уводь совсем не походила на могучий Амур: вода в ней
была другого цвета, и рыба водилась другая. Но когда Павел Григорьевич
садился на весла кунгаса, он вспоминал свое босоногое детство, заядлых
рыболовов на Уводи, свою мальчишечью мечту попасть на реку Клязьму, где, как
говорили, водились саженные щуки, сомы. Вспоминал своего молчаливого отца,
работавшего на бумагопрядильной фабрике Гарелина. Павка часто приходил на
фабрику, встречал отца с работы.
«Смотри, сынок, приглядывайся, как мы мозоли набиваем, — говорил
отец. — Из кожи вылезу, но тебя сделаю грамотным, авось в люди выйдешь».
Когда Павлик закончил школу, отец купил ему первые в его жизни сапоги,
черные брюки, рубашку с поясом. «Теперича тебе, сынок, надо работу
подходящую найти», — сказал он. Старый Глотов не хотел, чтобы грамотный сын
работал на ткацких фабриках. Так Павел стал работать в местной типографии,
сперва учеником, потом наборщиком. Отец был доволен: как-никак сын не
текстильщик, пошел по тропе грамотных людей. Старый наборщик Павел Петрович
Буряк долго приглядывался к своему ученику, потом стал подсовывать кое-какую
партийную литературу. Любивший читать Павел проглатывал эти книжонки, не
задумываясь глубоко над содержанием. Когда он возвращал книжки, Павел
Петрович устраивал настоящий экзамен и говорил: «Несерьезный ты человек,
тезка. Здесь говорится о нас, о рабочем люде, как устроить им лучшую жизнь.
А ты не понял. Помнишь всеобщую стачку зимой? Месяц бастовали рабочие.
Почему бастовали, от сладкой жизни?» Однако к 1905 году двадцатилетний
наборщик Павел Глотов стал вполне грамотным марксистом, страстным
пропагандистом, членом РСДРП.
Павел Григорьевич выплыл на протоку, пересек ее и въехал в залив. Стая
кряковых тяжело поднялась перед ним, сделала круг и подлетела к нему.
Прогремел дуплет, и две утки плюхнулись на воду рядом с лодкой, третья упала
в пожелтевшую траву. Павел Григорьевич подобрал уток. «Хорошо, дуплет — и
три жирные крякушки», — подумал он самодовольно и вспомнил, как однажды
Пиапон его похвалил на охоте: «Хорошо, Павел, ты стреляешь. Где учился так
стрелять?»
— Учился не по уткам, правда, стрелять, по другим мишеням, — ответил
Глотов.
А учился он стрелять в лесу на берегу той же речушки Уводь, стрелял из
нагана, готовясь к великим схваткам. Но стрелять по нужным мишеням Павлу
Григорьевичу не пришлось. В грозный 1905 год молодой наборщик набирал
прокламации, призывы к рабочим. Когда в мае вспыхнула всеобщая стачка,
рабочие его избрали в Совет уполномоченных. До сих пор при воспоминании о
стачечных днях у Павла Григорьевича начинает быстрее биться сердце. Май —
июль 1905 года — это молодость революционера Павла Глотова! Как член Совета
уполномоченных, органа революционной власти, Павел Глотов, кроме своей
основной работы наборщика, принимал активное участие в митингах, помогал
рабочей милиции устанавливать порядок в городе. С каким вдохновением он
набирал текст прокламации, где рабочие требовали восьмичасового рабочего
дня, повышения заработной платы, отмены штрафов, ликвидации фабричной
полиции, свободы слова, печати, союзов! Прокламации эти сейчас же из-под
машины, с невысохшей типографской краской попадали к бастующим, на митинги
на берегу речки Талки.
Потом наступил день траура 3 июля, когда царские войска расстреляли
рабочих, собравшихся на такой митинг.
После поражения стачки Павла Глотова судили и сослали в Сибирь, но он
бежал, его поймали, вновь судили и сослали на Амур. Жил он сперва в
маленьком русском поселении Тайсин, на берегу озера Болонь, потом разрешили
ему проживать в Малмыже, а теперь он учитель в гольдском стойбище Нярги.
Пять лет живет Павел Григорьевич на Амуре и пять лет изнывает от безделья. В
глухом поселении Тайсин он занялся от скуки изучением природы Амура, увлекся
и теперь продолжает заниматься. В Малмыже встретился с ссыльными
меньшевиками, которые тоже изнывали от безделья.
— Мы здесь можем с вами союз заключить, товарищ Глотов, — при первой
же встрече заявили они. — Нам тут не делить сферы влияния на массы. Здесь
пропагандистская деятельность — абсурд, никто вас не станет слушать. Вы
будете, конечно, им землю обещать безвозмездно, а им она не требуется — у
них земли сколько хочешь, только корчуй тайгу. К солдатам в гарнизон хотите
проникнуть? Безнадежно. Так что нам здесь тихо и мирно жить с вами.
Год назад приехал новый ссыльный большевик Иван Гаврилович Курков. Он
рассказал, что революция наращивает силы, что Ленские события, о которых
знали уже в Малмыже, всколыхнули всю Россию, а мировая война еще больше
взволновала народ. Он сообщил, что Ленин и большевики выдвинули лозунг
превращения империалистической войны в войну гражданскую. Иван Гаврилович,
истосковавшийся по подпольной работе, знакомился с крестьянами, с солдатами
малмыжского гарнизона, приходившими в Малмыж в увольнение, подружился со
многими. Он словно разбудил от долгого сна Павла Григорьевича, заразил его
своим энтузиазмом.
— Нет, все же это не та деятельность! Нет, не та, — говорил Иван
Гаврилович, недовольный самим собой. — Сейчас партии дорог каждый человек,
а мы тут прозябаем. Крестьян малмыжских может всколыхнуть только бомба,
взорвавшаяся возле их дома. Пропаганду здесь можно вести только среди
солдат, но это меня не удовлетворяет, я привык работать среди рабочих, я сам
рабочий. Нет, я все же сбегу. У тебя есть родные? Померли? Не знаешь? У меня
тоже нет, нет даже любимой, для революционера любовь только помеха. Я, Павел
Григорьевич, сбегу, а ты оставайся, ты здесь свой человек, продолжай работу.
Крестьяне здешние скоро тоже поймут, что такое война, у них сыновья, братья
в армии находятся, попадут они на фронт, тогда раскроются и у них глаза.
Среди солдат у Ивана Гавриловича было уже человек десять
единомышленников, которые вели пропаганду в самом гарнизоне.
— Молодцы ребята, просто молодцы, — хвалил их Курков при последней
встрече с Павлом Григорьевичем, — такую развернули деятельность — просто
ай да ну! Здесь ведь солдаты большинство из амурских крестьян, им трудно
растолковать что-либо, они сыты, обуты и одеты, не то что крестьяне на Руси.
Но когда идет разговор о войне, они не остаются равнодушными, особенно,
когда этот разговор ведет его же брат солдат. Задают сотни вопросов,
некоторые вступают в спор.
Потом Курков спросил, есть ли среди гольдов толковые люди, которые могли
бы нести в свой народ правду большевиков.
— Это очень важно, Павел Григорьевич, — продолжал Курков. — Я об этом
не задумывался раньше. Здесь понял, как важно, чтобы все народы, населяющие
Россию, узнали нашу правду. Мы, Павел Григорьевич, стоим за превращение
империалистической войны в гражданскую, следовательно, гражданская война
охватит всю Россию, может она начаться и здесь, на Амуре. Так на чьей
стороне будут гольды?
Вспомнив этот разговор, Павел Григорьевич смущенно улыбнулся, как и
тогда хлопнул себя по коленям и подумал:
«Ты, Павел Глотов, или состарился, или окостенел, оброс толстой кожей в
этой дыре. Молодец, Иван Гаврилович, вот что значит молодость и
революционное горение! Ты все горишь, друг, а я было потух здесь. Но от
борьбы я не отказался, только размагнитился или отсырел в долгой ссылке».
— Для боя всегда есть время и место, дорогой Глотов, — сказал вслух
Павел Григорьевич, направляя лодку к узкой протоке.
Проехав метров сто, он пристал, вышел на берег и огляделся. Здесь
недалеко находилось небольшое озеро, простреливаемое из одного берега до
другого. Павел Григорьевич любил это озеро и часто просиживал на его берегу,
поджидая уток. С озера доносилось крякание уток. Глотов сделал с десяток
шагов полусогнувшись и пополз, как заправский охотник. Озеро было совсем
близко, когда он услышал гоготание гусей. Поднял голову — прямо на него
низко летела небольшая стая гусей. Все ближе и ближе. Минуту только
раздумывал Глотов, когда стая подлетела совсем близко, он поднялся по весь
рост, закричал, гуси испуганно загоготали, забили крыльями на одном месте,
пытаясь подняться выше. Павел Григорьевич выстрелил в сбившуюся кучу
дуплетом, два гуся камнем свалились на землю, два подранка, широко расправив
крылья, спланировали в озеро.
— Удачно, удачно, — похвалил себя Павел Григорьевич. — Будут у тебя
на зиму гуси. Это же последние гуси, понимаешь!
Глотов добил обоих подранков, подобрал двух подбитых и выехал домой.
...Утром он проснулся, как всегда, свежий, бодрый. Вышел из фанзы — на
улице холодина, в ведре вода застыла стеклом. День обещал быть пасмурным,
ветреным: на небе застыли серые облака, будто волны амурские.
Глотов вымылся по пояс ледяной водой и почувствовал себя еще бодрее,
словно сняли с него десяток лет. Потом он готовил себе завтрак, поел, с
наслаждением попил чаю. Пил долго, по-таежному много: так он коротал
медленно движущееся время.
«Надо лайку завести, вдвоем бы веселее было», — подумал он.
Заскрипела дверь за перегородкой, пришел первый ученик. Павел
Григорьевич собрал посуду, ополоснул ее остатком чая, сложил на полочку.
Пришли еще двое учеников.
Павел Григорьевич вышел к ним. За столами сидели две девочки и Богдан.
— Здравствуйте, ребята, — поздоровался Павел Григорьевич. — Что-то
маловато вас сегодня. Где же остальные? Где Хорхой?
— Хорхой с отцом рыбу ловить поехал, — ответил Богдан. — Сейчас идет
таймень и ленок, у них мясо вкусное, кожа крепкая, они всем нужны.
«Как всегда отвечает обстоятельно, — подумал учитель. — Но как же
занятия? Что если сегодня попишка малмыжский с инспекцией нагрянут? Он
что-то намекал, этот попик».
— Может, не все уехали? — спросил он, надеясь получить обнадеживающий
ответ.
— Все уехали, потому что очень интересно тайменей ловить. Они очень
большие, очень сильные. Головы их большие, они могут проглотить целую
собаку.
— Когда вернутся?
— Не знаю. Сейчас холодно, лед появился, рыба не портится, можно на
зиму ловить.
«Я тоже уток и гусей на зиму готовлю», — внутренне усмехнулся Павел
Григорьевич. Решение пришло внезапно.
— Богдан, ты знаешь, где они рыбачат?
— Знаю. В устье горной речки.
— Поедем со мной.
— На твоем кунгасе?
— Да.
— Нет, учитель, я на твоем кунгасе не поеду, я охотник, у меня есть
своя оморочка. Это женщины только ездят на лодке.
Павел Григорьевич засмеялся.
Богдан плыл на оморочке рядом с ним.
— Учитель, ты знаешь, почему женщины в лодке ездят? — вдруг спросил
он.
— Чтобы что-то перевезти, ну, хотя бы дрова.
— А почему, когда мужчина едет в лодке, он сидит на корме и рулит
лодкой?
— Это я не знаю, лучше было бы, если бы сам греб.
— Нельзя, потому что женщине куда ехать и куда смотреть — все равно.
Пусть она смотрит назад. Мужчина — охотник, ему надо вперед смотреть. Вдруг
зверь впереди, надо ему первым его увидеть. Мужчина никогда не может ездить
спиной вперед, потому что затылком он не увидит зверя.
«Камешек в мой огород», — подумал Павел Григорьевич и засмеялся.
— Так, может, ты считаешь меня женщиной?
— Нет, ты хорошо стреляешь.
«Ах, вот почему я мужчина, хотя езжу спиной вперед!»
Павел Григорьевич совсем повеселел. К рыбакам они приехали в полдень.
Увидев учителя, мальчики смутились, некоторые попрятались, кто где мог.
Глотов сразу же начал разговор с родителями, опять повторял то же, что
говорил им не один раз. Рыбаки отмалчивались, их совершенно не трогали слова
учителя: они все это уже слышали и воспринимали, как завывание ветра или
назойливый дождь.
— Сам поговори с ними, — кивали они на детей.
Павел Григорьевич знал никчемность разговора с мальчиками, но ничего не
мог придумать, чем можно было бы уломать упрямство родителей и детей.
Разговаривая с рыбаками, он все время думал о малмыжском попе, который
возможно уже находится в Нярги. Потом махнул на попа: в конце концов он
работает в школе не из-за него. Но когда истощился его словарный запас,
иссякли аргументы, признавая свое бессилие, он сказал:
— Поп приезжает проверить, как учатся ваши дети. Что я ему скажу? Дети
все на рыбалке. Так, что ли?
Рыбаки переглянулись, у некоторых безразличие в лице сменилось тревогой.
Приезжает поп в Нярги! Ни одного русского начальника так не боялись
охотники, как попа. Редко навещал священник стойбище, но едва охотники
слышали, что он там появился, поднималась суматоха: женщины, дети, сами
охотники спешили подальше упрятать всевозможных сэвэнов (Сэвэны —
бурханы.), сделанных из травы, вырезанных из дерева; мелкие бурханчики можно
закопать в песок тут же возле фанзы, но куда спрячешь вырезанного из
колдобины саженного бурхана?
Поп обыкновенно проходил по стойбищу из конца в конец, если не находил
ничего крамольного, что могло осквернить его преосвещенство, поговорив с
несколькими охотниками, принявшими христианство, уезжал восвояси. Но если
ему попадались сэвэны, тут уж жди погрома: священник приказывал своим
сопровождающим шарить по всем углам фанзы, лазить в амбары, и те, исполняя
его приказ, вытаскивали припрятанных сэвэнов, складывали в кучу и сжигали.
Последний такой погром в Нярги устроил предыдущий священник лет шесть тому
назад. За эти прошедшие шесть лет у всех появились новые сэвэны, которые,
каждый в свое время, спасли домочадцев от различных болезней. После
излечения больных их оставляли у себя и хранили, как хранят запасы юколы,
оберегая от мышей, насекомых и от плесени. Так и собирались в каждой семье с
десяток, а то и больше, сэвэнов. Каждый член семьи болеет не одной болезнью,
то заболит живот, то заноет поясница или начнут ныть ноги, и на все эти
болезни изготовляются различные сэвэны по указанию шаманов.
— Когда приезжает бачика? — с тревогой спрашивали рыбаки.
— Не знаю, может, он уже приехал, а может, завтра приедет, — ответил
удивленный учитель.
— Тогда забирай всех ребят, мы сами можем одни рыбачить, — сказали
рыбаки.
«Они боятся попа», — догадался Павел Григорьевич.
Рыбаки посадили детей в кунгас учителя, крепко наказав, чтобы они по
приезде домой подальше попрятали всех сэвэнов. А Павел Григорьевич,
обрадованный удачей, улыбался и, глядя на хмурых ребятишек, сравнивал себя с
дедом Мазаем, спасавшим зайцев. Только по пути домой, расспросив мальчишек,
он узнал, почему встревожились рыбаки при известии о приезде священника.
Потом они хором повторяли «Отче наш». Дети перевирали слова, путали строки.
«Ничего, хорошо, они же не знают русского языка. Так и скажем
батюшке», — посмеиваясь, думал Глотов.
— Богдан, теперь все вместе прочитайте «Богородицу» на нанайском
языке, — сказал он и подумал: «Тут уж не к чему придраться, ни поп, ни я,
ни дети, никто не знает эту молитву на нанайском языке».
— Учитель, они забыли молитву, — сказал Богдан.
«Ох, подведет Богдан всех нас!»
— Ну, хорошо, тогда договоримся так. Ты, Богдан, лучше всех знаешь
«Богородицу», вспомни, и все вместе повторите. Если хорошо прочтете молитвы,
батюшка будет рад и быстрее уедет из стойбища. Вы ведь этого хотите.
Малмыжский священник приехал только на третий день после возвращения
школьников в стойбище. Привезли его на лодке четверо дюжих молодых
малмыжцев. Священник вышел из лодки, поклонился встречавшим его ученикам
Глотова, поздоровался с учителем. Небольшого роста, подвижный, в черной
рясе, он показался ребятишкам смешным, и кое-кто прыснул, отвернувшись в
сторону.
Оживленно беседуя с Павлом Григорьевичем, он прошел в школу, путаясь в
широких полах рясы.
Павел Григорьевич был на голову выше священника и поглядывал сверху
вниз, скупо отвечал на его вопросы. Оживленный, говорливый отец Харлампий
вселял в него тревогу, и он гадал, что собирается священник делать в
стойбище.
— По велению свыше мне вменили в обязанность досматривать за твоей
школой, — говорил отец Харлампий. — Но что я смыслю в светских науках? Я
уж посмотрю только, чего достигли дети в молитвах. По-русски хоть говорят
они?
— Плохо.
— Через молитву только они познают мудрость русского языка. Много ли
времени ты уделяешь молитвам?
— Достаточно.
— На своем-то языке они молятся?
— Да.
— Ну, послушаем, послушаем.
С дороги отец Харлампий отдохнул, сидя на табуретке за столом,
прихлебывая горячий чай, оглядывая жилище учителя, похвалил, что учитель
гольдскую фанзу превратил в вполне русский дом, с потолком, с полом.
— Сам все сделал? Мастеровой?
— Наборщик.
Отец Харлампий шумно отхлебнул горячую жидкость с блюдечка,
перекрестился и встал. За перегородкой жужжали дети. Священник вошел в
класс. Дети встали и поклонились, как учил их Павел Григорьевич. Отец
Харлампий широко перекрестил класс, сел на табурет учителя и начал
возвышенно-церковным языком говорить о христианстве, о православной церкви.
— Вы поняли, дети мои? — спросил священник, закончив проповедь.
Дети молчали и не мигая смотрели на отца Харлампия.
— Нет, — раздался голос Богдана.
— Кто это сказал? Ты? Подойди сюда.
Когда Богдан подошел к столу, отец Харлампий осмотрел его колючими
глазами с ног до головы и переспросил:
— Не понял, говоришь, сын мой?
— Нет.
— Молитву знаешь какую?
— Учитель учил «Отче наш».
Отец Харлампий бросил косой взгляд на Павла Григорьевича, стоявшего у
окна.
— Каждый день читаешь молитву?
— Да.
— В школе молишься?
— Да.
— А дома перед сном молишься?
— Зачем?
— Тогда зачем выучил молитву?
— Учитель учил, я выучил.
Отец Харлампий опять бросил косой взгляд на учителя.
— Родители твои христиане?
— Отец охотник.
Отец Харлампий понял, что Богдан не знает, что такое христианство, а
учитель не приобщает детей к церкви, потому они учат молитвы наизусть, не
зная, для чего они требуются. Не умеют даже креститься. Он попросил Богдана
прочесть «Отче наш», и мальчик бойко, без запинки оттараторил молитву. После
Богдана всем классом повторяли молитву, потом священник пожелал послушать
«Богородицу» на нанайском языке. Мальчики и девочки вразнобой, как кто что
запомнил, прочитали молитву.
Отец Харлампий слушал, глядя на детой, и те, встретившись с его
взглядом, опускали глаза.
«Хитрят шельмецы, прячут глаза», — подумал священник.
Он сделал вид, что остался доволен учениками, и опять вызвал Богдана к
столу.
— Скажи-ка, сын мой, ужиться могут православная церковь и шаманство?
Павел Григорьевич сжал кулаки, желваки заходили на скулах, он сдерживал
себя.
— Не знаю, — пробормотал Богдан, не понявший вопроса.
— У вас в стойбище шаманят?
— Да.
— Ты тоже бываешь, когда шаманят?
— Да.
— А учитель вас молитве обучает?
— Да.
— Что сказано в «Богородице», что по-гольдски ты читал?
— Не знаю, я ничего не понимаю.
— «Богородицу» на своем языке не понимаешь?! Чего тогда ты бубнил?
— Что выучил.
— Это богохульство! — маленький отец Харлампий вскочил на ноги, как
ошпаренный кипятком. — Это богохульство, господин Глотов, чему ты их
обучаешь?
— Я столько же знаю гольдский язык, сколько и вы. Не кричите здесь
перед детьми, это вам не по сану, — с достоинством ответил Павел
Григорьевич.
Отец Харлампий просверлил его колючими глазами, но, не добавив ни слова,
сел. Богдан изумленно смотрел на покрасневшего попа и удивился, почему он
так сердится и за что сердится.
— Шаманить умеешь? — прохрипел отец Харлампий.
— Умею.
— Покажи, как это шаманят.
Павел Григорьевич подошел к столу и тихо сказал:
— Эти дети еще не обращены в христианство, вы это знаете. А шаманить
здесь я не позволю.
Отец Харлампий промолчал. Богдан стоял перед ним и не знал, что ему
делать: он слышал слова учителя.
— Вы все умеете шаманить? — спросил отец Харлампий.
Мальчики и девочки закивали головами. Священник поинтересовался, что
требуется, чтобы исполнить шаманский танец. Узнав, что для этого достаточно
одного бубна и гисиол (Гисиол — обшитая кожей кабарги палка, которой бьют
по бубну.), он велел всем принести тазы и другие жестяные, медные, железные
предметы, напоминающие бубен. Дети разбежались по домам.
Богдан прибежал к Пиапону и попросил медный тазик, который тот привез из
Сан-Сина.
— Дедушка, бачика в школе сердится, заставил меня молитву читать
по-русски, потом заставил всех вместе прочитать, — захлебываясь,
рассказывал он Пиапону. — На учителя он сердится, дурным глазом на него
посматривает. Потребовал, чтобы мы все принесли тазы.
— Интересно, зачем ему потребовались тазы? Учитель что говорит?
— Он ничего не говорит, он сердито разговаривал с попом.
Пиапон был занят срочной работой, но, отложив неотремонтированную
плавную сеть, пошел в школу: он чувствовал, что там затевается что-то
недоброе. К нему присоединились Калпе и еще несколько охотников. Когда они
подошли к школе, поднялся такой треск, звон и шум, что уши заложило у
охотников. Из-за угла школы один за другим гуськом выходили ученики, они
исполняли шаманский танец и беспощадно били палками по тазам. За детьми шел
отец Харлампий и, размахивая руками, подбадривал их, он что-то кричал, но за
звоном, треском никто ничего не мог разобрать.
Охотники замерли, они словно онемели.
— Это он глумится над нами, — сказал побледневший Пиапон.
Он сдерживал себя, но нервная дрожь охватила все его тело; он медленно
обогнул угол школы за отцом Харлампием и, увидев Павла Григорьевича, подошел
к нему.
— Павел, это ты велел? — спросил он.
— Нет, это он. — Павел Григорьевич был бледен, правое веко его
подергивало.
Ребятишки, кривляясь и смеясь, проходили мимо родителей и учителя, били
беспощадно по тазам и выкрикивали, подражая шаманам.
— Веселее! Веселее! — подбадривал их отец Харлампий. — Гоните злых
духов! Гоните!
Павел Григорьевич подошел к нему.
— Немедленно прекратите эту комедию, — сказал он. — Вы же глумитесь
над человеческой верой.
— Какой верой! Не богохульте, господин учитель! Пусть посмотрят, как их
дети, познавшие первые молитвы, издеваются над верой родителей. Смотрите,
смотрите, как они кривляются, токмо юродивые. Веселее! Веселее!
Отец Харлампий пошел с детьми в третий круг вокруг школы. Услышав шум,
со всех сторон приближались охотники, их жены. Народ собрался, и все с
ненавистью смотрели на попа.
— Мы не издевались над ним, не смеялись, зачем он это делает?
— Силу свою знает, сучий сын.
— Хуже бачики, паршивее его и в тайге зверя не сыщешь.
— Что же мы смотрим на это издевательство? — воскликнул Калпе. — Над
нами он издевается, наших же детей-несмышленышей заставляет над нами
издеваться. Что мы смотрим?!
Калпе вдруг расстегнул ворот халата, и все увидели на его шее маленький
крестик: в детстве его крестил священник и велел носить этот крестик, и
Калпе носил его, бывая среди малмыжцев, хвалился им, показывал, расстегнув
халат. Теперь он силой оторвал нитку и забросил крестик в кусты.
— Он издевается над нами, вот ему!
— Ты бы ему в лицо бросил, — посоветовал кто-то.
Калпе вышел из толпы и, когда приблизился к нему сынишка его Кирка,
схватил мальчика за руку и поволок за собой домой. Мальчишки и девчонки
растерянно остановились. Кто-то из родителей в ярости тут же перед попом
стал избивать свою дочь, другие, прихватив детей, поспешили по домам,
проклиная попа и его веру.
Возле школы осталось несколько любопытных охотников. Среди них был и
Пиапон.
— Отец Харлампий, гольды честный, добрый народ, они всегда уважают
чужие народы, уважают их верования, — сказал Павел Григорьевич. — Вы же,
священник православной церкви, глумитесь сейчас над ними, над их верой.
— Какой верой? Никакой другой веры для них нет, кроме христианства!
— Вы поступили не по-христиански, ибо в...
— Ты соглядатай земли Ханаанской! Ты ссыльный! Тебе в темнице
находиться! За кого ты заступаешься? Ты учил их детей молитвам, обращал,
выходит, в христиан, а они шаманят. Кощунство! Богохульство! Над
православной церковью они издеваются, и ты, господин Глотов, был с ними
заодно. Анафеме предам!
— Льва Толстого предавали анафеме, а его чтут после смерти больше, чем
Христа.
— Еретик ты! В кандалы тебя!
— Анафемы вашей я не боюсь, я не верующий. Атеист.
Отец Харлампий задохнулся.
— Тогда светская власть найдет на тебя управу!
— Она меня сослала сюда, отец Харлампий. А вы будете в ответе, если
из-за вашей комедии охотники откажутся обучать детей в школе! — крикнул
Павел Григорьевич вслед шагавшему к берегу отцу Харлампию.
Пиапон с охотниками с восхищением следил за стычкой между священником и
учителем, им никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь так жарко,
храбро ругался с попом: все знакомые малмыжцы преклонялись перед
священником, побаивались его. Правда, Павел Григорьевич не верит в бога, но
и он должен уважать всеми почитаемого человека, наконец, он должен был бы
хотя бы из-за национального родства промолчать. Однако он храбро заступился
за нанай! Он, русский, заступился за нанай и поругался с самим попом!
Павел Григорьевич обернулся к охотникам, потер правый висок, задумчиво
помолчал и пригласил охотников к себе пить чай.
— Зачем ты ругался с ним? — спросил кто-то.
— Я не верю ни русскому богу, ни нанайскому эндури и никаким другим
ботам, а богов на земле столько, что не перечесть. Но я уважаю людей, уважаю
вас и не могу позволить, чтобы при мне издевались над вами, над вашей верой.
Вы пока верите своим шаманам, ну и верьте, но ваши дети не будут им верить,
так же как и я не верю.
— Конечно, но будут верить, — сказал Пиапон, — все у них
перепуталось, кому они будут верить? Русские говорят, верьте нашему богу, мы
говорим, верьте эндури, а Холгитон привез из Манчжурии еще каких-то богов.
Перепутались все боги.
Павел Григорьевич засмеялся, но не стал разъяснять, почему другое
поколение нанай не будет верить ни идолам, ни богам. «Не поймут», — решил
он.
— Вы знаете, друзья, я сюда приехал и живу не по своей воле, —
продолжал Павел Григорьевич. — Меня сюда сослали насильно. Я родился и жил
далеко отсюда, так далеко, что когда вы здесь ложитесь спать, мы там только
встаем и начинаем работать.
— Солнце запаздывает, — объяснил кто-то.
— Жил я в большом городе, где люди делают материю, из которой вы шьете
себе легкие летние халаты. Люди эти живут очень трудно, работают с утра до
ночи, денег получают мало, и у кого большая семья — все голодают. Дети от
голода и болезней умирают, родители их не успевают состариться — тоже
умирают. Рядом с городом в деревнях живут крестьяне, такие же люди, как
малмыжцы. Они живут тем, что дает им земля. Но земли у крестьян мало, совсем
мало. Всю пахотную землю захватили богатые. На маленьком клочке земли
крестьянин сеет рожь, а у него, может, десять ртов, которые просят есть. Чем
их он прокормит? Опять голод, опять смерть в русских селах.
Пиапон вспомнил свою встречу со старым манчьжуром в окрестностях
Сан-Сина.
— У бедных маньчжуров, корейцев тоже нет земли, — сказал он.
— Земля, на которой мы живем, очень большая. И везде сейчас есть бедные
и богатые. Богатые имеют фабрики и заводы, которые шьют одежду, обувь,
готовят еду, железо, машины и всякие всячины. На них работают рабочие.
Богатые помещики захватили большую часть земли, и бедные крестьяне работают
на них. А такие попы, как отец Харлампий, говорят рабочим и крестьянам,
живите как живется, слушайтесь богачей. Если вы на земле плохо живете, то
после смерти на небе будете жить хорошо. Так попы русские издеваются над
русским народом.
— А я хочу на земле жить хорошо! — воскликнул охотник, сидевший рядом
с Павлом Григорьевичем.
— Правильно. Так же говорят рабочие и крестьяне, и они поднимаются на
борьбу с фабрикантами и помещиками. Они хотят, чтобы на русской земле и на
всей земле больше не было ни бедных, ни богатых. Для этого надо уничтожить
всех богатых, захватить власть и установить свои рабочие и крестьянские
законы. Тогда все фабрики и заводы, вся земля будут в руках бедных. Этого
хотим мы, за это боремся. В своем городе я боролся с богатыми фабрикантами,
меня поймали, судили и сослали сюда. Но нас много, нас всех не сошлешь.
Запомните, друзья, есть люди, которых зовут большевиками, они борются и
умирают за то, чтобы на земле жили только те люди, которые своими руками
добывают себе еду. И среди большевиков есть человек, которого зовут Ленин.
Запомните, друзья, это имя. Имя Ленина вы еще много раз услышите.
Вошел молодой охотник с закипевшим чайником. Павел Григорьевич достал
стаканы, кружки и разлил чай, подал сахар, сливочное масло, черствый хлеб и
сухари.
Охотники с наслаждением пили густой, ароматный чай, переговаривались
между собой, делились впечатлениями об услышанном; они никогда не слышали,
чтобы солнце так могло запаздывать, что когда они ложатся спать, другие
только просыпались. Говорили о бедняках и богатых, о большевиках, которые,
не страшась ни смерти, ни отлучения от семьи, никаких других невзгод,
заступаются за обездоленных.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Третий день дул низовик, по временам шел дождь. Третий день поднимался
по реке Симин Токто вслед за уходящими в горы лосями. Середина месяца петли,
кончился гон лосей, и они удаляются с оголенных берегов рек, где исчезли
сочные трехлистники, в дальние синеющие горы. Там они будут зимовать, а
ранней весной опять возвратятся на обжитые берега, к тонконогим тальникам,
где они, возможно, впервые увидели голубое небо и ослепительное солнце;
здесь ночью их укрывало звездное черное небо, в жаркие дни спасали их тени
могучих деревьев, а теплые воды озер и заливов приятно охлаждали ноющее
тело, продырявленное жестокими оводами.
Здесь на берегах рек их родина, они сюда возвращаются каждую весну:
придут одиночные горные быки, отделившиеся от матерей двух-трехлетки, целые
семьи...
А сейчас Токто поднимается вслед за ними по Симину, еще не зная, где
настигнет последних лосей, но он об этом по думает: звери от него никуда не
денутся, не было в жизни Токто, чтобы он возвратился с охоты без добычи.
Думает Токто о предстоящей свадьбе сына с красавицей Гэнгиэ, в мыслях
переносится на три, четыре года вперед и видит внуков. Какое это будет
веселое время! Девочки, конечно, будут похожи на мать, светловолосые, а
мальчики — вылитые Гида, черноволосые, остроглазые, стройные. Токто-дед
будет им: делать самые красивые санки и лыжи, самые певучие, меткие стрелы,
самые красивые луки.
Размечтавшись, Токто не замечает ни жгучего ветра, ни дождя, стекающего
за ворот халата. Изредка он выходит на берег, осматривает следы. Токто не
надо много лосей, его берестянка поднимет одного лося и от силы еще одну
косулю, правда, тогда придется ехать по самым тихим местам, чтобы волны не
плескались в оморочку, две-три волны достаточно, чтобы она со всем грузом
ушла на дно реки или озера. А Токто нужно мясо: через три дня назначена
свадьба. Потому так спешит Токто. Так же, наверно, спешит и Пота, выехавший
по реке Харпи; так же торопится Гида, оставленный на устье реки, чтобы бить
уток. Все они завтра, послезавтра должны быть в Джуене, куда Лэтэ привезет
дочь.
Токто после кетовой путины не выезжал в родное стойбище на Харпи,
остался в Джуене, потому что оттуда было ближе до Болони; только после
свадьбы он возвратится в родной Хурэчэн.
Токто пристал к берегу, перед ним желтым пламенем полыхали на ветру
осины. Чутье и опыт подсказывали ему, что здесь должны быть звери. Вступив
на землю, он сразу увидел свежие следы косуль, через несколько шагов нашел
теплый помет, а еще через несколько шагов увидел самца и выстрелил;
тонкошеий самец перекувырнулся через спину и замер, Токто разделал добычу,
тут же подкрепился мясом и выехал дальше.
Вечером он добыл еще одного лося. На рассвете он поплыл в стойбище.
Быстрое течение набухшей от осенних дождей реки стремительно несло
перегруженную оморочку. Весь день плыл Токто. Ел холодное, приготовленное с
вечера, мясо.
День был пасмурный, холодный, по-прежнему дул низовик. Сразу за
поперечной большой релкой открылось разлившееся, как море, озеро. Это было
еще не озеро — большая вода затопила низменные луга, да беспрерывный
низовик гнал часть воды из озера Болонь. Токто ехал от одной затопленной
релки к другой, выбирая тихие места, но волны все же несколько раз
захлестывали через низкий борт перегруженной оморочки. Токто подъезжал к
релке с подветренной стороны, вычерпывал воду и плыл дальше.
Спустилась темная, непроглядная ночь.
Токто греб маховиком, он не чувствовал усталости, его подгоняла мысль о
свадьбе сына. Конечно, не плохо было бы вскипятить чай, выпить кружку чая:
горячая пища всегда удесятеряет силы, но где вскипятишь чай, когда кругом
вода, все релки затоплены и сухого места не найдешь, только в Дэрмэне можно
встретить сушу, а до нее плыть да плыть, пожалуй, к утру только доедешь.
Токто закурил. Когда куришь, всегда время бежит быстрее, а мысли текут
медленно. Токто опять, уже который раз, возвращается мыслями к свадьбе, но
теперь он спокоен, гости будут сыты: Пота с Гидой тоже не вернутся с пустыми
руками. Гида наверняка добыл по один десяток уток, в этом нет сомнения. Так
что угощения гостям хватит. Потом Токто вспомнил маленького Богдана. Теперь
он в Нярги, в большом доме. Может, он и прав, что уехал с Харпи? На Амуре
как никак веселее, народу много, всякие новости услышишь со всех концов,
русские живут рядом, и хотят того амурские нанай или не хотят, но сами, не
ведая этого, перенимают у них новое, незнакомое. Доски пилить научились,
дома строить, даже оморочки из досок делать! Да, на Амур другая жизнь
приходит, а на Харпи как жили раньше, так и живут.
Острый охотничий глаз Токто заметил впереди чернеющую релку, которая
называется Лошадиная. «Почему релку назвали Лошадиной, — подумал Токто, —
когда ни у одного нанай нет лошади и сколько помнит он себя, никто не имел
ее. Правда, в нанайском языке есть слово морин — лошадь. Но это ничего не
значит, ведь в нанайском языке есть слова моне — обезьяна, сопан — слон,
но ведь нет острова Моне или сопки Сопан. Откуда же здесь появилась релка
Морин?»
Токто хотел выбить пепел из трубки о борт оморочки, но почувствовал
обжигающую холодную воду под собой. Он еще ничего не понял, взялся было за
борт и тут с ужасом заметил, как борт оморочки оказался в уровень с черной
водой.
«Тону! Оморочка с мясом уходит на дно!»
Одно мгновение. Только одно мгновение, Токто вскочил на ноги, ухватился
за правый борт и, падая на спину в воду, опрокинул на себя оморочку! Когда
он вынырнул, оморочка покачивалась вверх дном, и словно живое существо
вздыхало тяжело и громко — это воздух выходил из-под нее. Токто не
почувствовал ни холода ледяной воды, ни страха, он перевернул оморочку и
начал выкачивать из нее воду. Тут ему попалась под руку острога, потом
маховик. Токто прижал острогу и маховик под левую мышку и правой рукой
продолжал раскачивать оморочку. Вода выплескивалась из оморочки, но стоило
Токто попытаться залезть в оморочку, она кренилась и опять зачерпывала воду.
Токто опять качал берестянку. Он чувствовал, как коченели ноги, руки, немело
все тело. С севера потянул слабый низовик.
«Смерть. Неужели смерть накануне свадьбы сына? — думал Токто. — Какая
же это будет свадьба? Похороны, поминки, слезы. Какое это веселье? Нет,
нельзя умирать! Нельзя!»
Токто продолжал качать оморочку. Который раз он пытался залезть в
оморочку, и который раз она зачерпывала воду — он не помнил. Наконец
обессиленный, он воткнул в дно озера острогу, маховик, освободил обе руки и
с остервенением стал качать оморочку, потом, собрав все силы,
напружинившись, он рывком выскочил из воды и лег поперек берестянки,
берестянка накренилась на бок, зачерпнула немного воды, но тут же
выровнялась. Токто не поверил себе, он еще долго лежал поперек оморочки и не
мог отдышаться. Ледяное дыхание низовика привело его в себя; он осторожно
сел на свое место, вода была чуть ниже пояса. Токто лихорадочно стал ладонью
вычерпывать воду, она медленно стала убывать.
Оморочку отнесло ветром, тогда Токто, загребая ладонями, подплыл к
маховику, подобрал маховик, но острогу оставил воткнутой и поплыл к
Лошадиной релке. Было совсем темно, хоть глаз выколи. Перевалило только за
полночь.
Токто греб изо всей силы, но мокрая одежда прилипла к телу, и он не мог
согреться. Токто чувствовал, как слабеет.
«Замерзнуть летом смертельнее, чем обморозиться зимой», — всплыли из
глубины памяти чьи-то слова.
Он подплыл к Лошадиной релке с подветренной стороны, сучья деревьев,
пожелтевшие, опавшие листья укрыли его от злого низовика.
«Нет. Нет. Умирать нельзя, ни за что нельзя! Завтра, послезавтра
свадьба. Я еще должен понянчить внуков и внучек».
Токто на ощупь провел оморочку в гущу деревьев, поднялся на ноги и стал
ломать сучья, пока не почувствовал, что стал согреваться.
А когда Токто совсем согрелся, он снял с себя мокрые халаты, выжал их и
вновь надел. Затем вычерпал из оморочки всю воду и сел на свое место. Он не
заметил, как задремал.
Токто открыл глаза, огляделся, сквозь густые ветви деревьев на него
смотрело утреннее солнце.
«Значит, спал», — подумал он.
Теперь он мог спокойно выехать домой, но вместо этого повернул оморочку
назад и поплыл к воткнутой остроге.
Токто подплыл к остроге, сдернул ее и начал трезубцем прощупывать дно,
нащупал мясо, подцепил и вытащил. Так кусок за куском Токто собрал со дна
мясо. Затем нащупал и берданку, трезубец металлически звякнул о ствол. Токто
мысленно представил расположение берданки и без труда нащупал ремень,
зацепил острогой и вытащил. Теперь он мог выехать домой: оморочка вновь была
наполнена мясом, берданка лежала на месте, острога и маховик при себе,
потерял он сидение из кабаньей шкуры, что служило ему и постелью, одеяло,
несколько кусков бересты, которыми укрывал мясо, берестяную черпалку, миску
и ложку, которые никак невозможно было зацепить острогой. Но котел и кружку
он подобрал.
Токто хотелось теперь только курить, но коробка с табаком, кресало и
кремень тоже уплыли. Потерялась и трубка. Он утолил голод сырой печенью и
пустился в обратный путь.
Подъезжал он в стойбище к полудню. На берегу царило оживление, охотники
столпились вокруг большой лодки, одни ругались, другие плакали.
«Не Лэтэ ли приехал? — подумал Токто. — Но лодка не на нашем берегу.
Почему плачут?»
Охотники расселись в лодке, оставшиеся на берегу оттолкнули лодку и
закричали вразнобой.
— Опозоренный ты охотник! Слышишь, Пачи, опозоренный ты человек! —
кричал кто-то из лодки. — Я бы на твоем месте сейчас же застрелил ее...
Кровью только смоешь позор!
«Что такое? Кто опозорил Пачи? Кого собираются убивать?» — гадал Токто.
Кэкэчэ, Идари с детьми выбежали на берег встречать его. Кэкэчэ сразу
заметила осунувшееся, бледное лицо мужа, встревожилась, не заболел ли он.
— Что тут происходит? — спросил Токто.
— Беда, беда, отец Гиды, — одновременно ответили Кэкэчэ и Идари. —
Приезжали за невестой, да вон, видишь, уезжают без нее. Онага отказалась
выходить замуж за сына Аями, сказала, что она беременна и не хочет нести в
дом мужа чужого ребенка.
Токто выпрямился, взглянул на Идари, потом на Кэкэчэ, женщины опустили
глаза.
— Гида? — спросил Токто.
— Не знаем, она молчит.
«Конечно, Гида, кто же, кроме него, может быть, — подумал Токто. —
Говорил же он, что она почти его жена. Что же теперь будет? Узнает Гэнгиэ и
откажется выходить замуж за Гиду... Нет, так пока не бывало у нас, Лэтэ
заставит ее... Да и кто, когда спрашивал у женщины, хочет она выходить замуж
или нет? Это воля отца, захочет он — отдаст, не захочет — не отдаст.
Другое дело, когда молодой охотник отказывается от невесты. А все же жалко
Онагу, может быть, она мальчика родит. Было бы очень хорошо, если бы у Гиды
появился сын. Сперва Кэкэчэ родит, потом немного погодя родит жена Гиды.
Было бы хорошо».
— Может, она соврала? — предположила Идари. — Увидела, что будущий
муж не красив, не силен, и нарочно соврала. Может же так быть?
Токто поднялся на пригорок, к своей фанзе, выпил крепкого чая и уснул.
Разбудил его радостный лай, визг собак. В фанзе был полумрак, наступил
вечер. На улице кричали и смеялись дети.
«Пота вернулся», — подумал Токто. Он сел и закурил. В фанзу вошли Пота
и Гида. Токто поздоровался с ними и спросил:
— Женщины говорят, ты вернулся сам не свой, — сказал Пота.
— Выдумывают же эти женщины! Устал просто, старость, наверно, подходит.
Всю ночь ехал, глаз не сомкнул.
Все вместе поужинали и вышли на улицу покурить. Токто долго сопел
трубкой и молчал.
— Как же теперь быть? Ведь мы виноваты, — сказал он наконец, ни к кому
не обращаясь.
— Не виноват! — воскликнул Гида. — Почему она не вышла за меня, когда
я этого хотел. Теперь пусть себя винит.
— А ребенка не жалко? Ведь он твой.
— А кто его знает? Может, кого другого?
Токто посопел потухшей трубкой, выбил пепел и начал набивать свежим
табаком.
— Никого, кроме тебя, рядом с ней не было, ты это сам знаешь. Сделал
ребенка, так и скажи. Мой ребенок, и нечего тут крутиться, как заяц перед
лежкой.
Гида порывисто встал и ушел в фанзу.
— Он до смерти влюблен в свою невесту, — словно оправдывая поступок
Гиды, пробормотал Пота.
— Знаю, но зачем напраслину возводить на девушку? Пойдем спать, завтра
много дел у нас, — ответил Токто.
Утром Токто вместе с Пото, Гидой и женщинами нетерпеливо поглядывал в
сторону Амура. К полудню прибежали сторожившие на сопке мальчишки и
сообщили, что недалеко от острова Ядасиан показались две свадебные лодки.
Спустя некоторое время лодки стали видны и из Джуена. Женщины
засуетились, забегали. А Токто успокоился, сел в сторонке, закурил трубку:
встретит он невесту с родителями, гостей и сядет с ними выпивать. Сколько за
свадьбу выпивают водки? Много. Очень много, если справлять свадьбу по всем
законам. Надо выпивать на мэдэсинку, когда спрашиваешь согласия родителей
невесты, потом на енгси, когда договариваешься о тори; в третий раз пьешь на
дэгбэлинку, когда привозишь родителям невесты тори, и последний раз
выпиваешь, когда отец привозит дочь в дом жениха.
Токто с Лэтэ не стали соблюдать все правила, потому что настали тяжелые
времена, соболей стало мало в тайге, да и запретили их бить, другие пушные
зверьки тоже стали исчезать — где охотникам достать пушнины, чтобы
по-настоящему по всем законам справлять свадьбу? К тому же и водку запретили
продавать. Но по подсчетам Токто, он с Лэтэ выпил достаточно много водки и
может быть доволен.
Все встречающие собрались возле фанзы Токто. Здесь были молодые
охотники, друзья Гиды, с ружьями в руках, разнаряженные женщины; две женщины
надели свадебные наряды, они будут встречать невесту и сопровождать до дома.
Лодки приблизились к стойбищу. На первой лодке за веслами сидели восемь
молодцов в ярких нарядах, с аккуратно заплетенными косами; в середине лодки
сидела невеста с родителями и близкими родственниками. На втором неводнике
меньше было гребцов, но в нем везли приданое невесты.
Токто со всеми вместе пошел на берег. Рядом с ним шагал Гида, бледный, с
горящими глазами.
«Счастья тебе, сын», — мысленно пожелал ему Токто.
Лодки развернулись и стали приставать к каменистому берегу. Тут
встречавшие невесту молодые охотники подняли ружья и выстрелили в воздух.
Надо отпугнуть злых духов, которые последовали из Болони за невестой, да и
джуенских, которые могли выйти на берег встречать молодую. Бах! Бах! Бах! В
ответ гребцы на лодке подняли свои ружья, и начали палить в небо. Бах! Бах!
Бах!
Лодки пристали кормой, к корме поставили широкую доску, и по ней вышла
на берег красавица невеста, бренча большими с чайные блюдца, медными бляхами
на груди. Все встречавшие расступились, и вперед вышла джуенская женщина,
одетая в свадебный наряд. Она поведет невесту в дом, потому ее зовут вожаком
меорамди-бонгомди. Женщина держала в руке хогдо (Хогдо — дерево с широким
ножевидным наконечником.), она встала впереди Гэнгиэ и начала медленно
подниматься в фанзу жениха. Невеста шла за ней, шествие замыкала вторая
джуенская женщина, тоже в свадебном наряде и с хогдо в руке.
Гэнгиэ шла с высоко поднятой головой, вперив взгляд в затылок
меорамди-бонгомди. Она была в голубом свадебном халате с короткими до локтя
рукавами, от шеи до подола, словно водопад в солнечный день, расцвеченный
радугами, струилась сотнями рисунков вышивка. На груди передничек — лэлэ,
расшитый бисером, сверкает, переливается под скупым октябрьским солнцем.
Ниже на нем разноцветные рисунки из шелка и медные бляхи — кунгпэ покоятся
на ее девичьей груди.
— Если она в руке держит вместо палки хогдо, значит клянется защищать
мужа от всех бед, — говорит пожилой охотник.
— Другие вместо палки на ружья опираются, — подхватывает его сосед.
— Это блажь. Богатые, чтобы прихвастнуть подарком жениху, дают ружье в
руки невесты.
Гэнгиэ ничего не слышала и не видела, кроме высокой, как гребень сопки,
шапки впереди идущей женщины, она думала о свадьбе, о будущем муже, о том,
что закончились ее девичьи дни. Впрочем, большой разницы нет — что
девичество, что замужество, вместо отца теперь она будет слушаться мужа,
вместо матери — Кэкэчэ; другие обязанности точно такие же, что она
выполняла дома: готовить еду, шить одежду и обувь, готовить впрок ягоды,
полынь и всякие другие съедобные травы, вялить юколу — все та же вечная
однообразная женская работа. Только при мыслях о муже и своих обязанностях,
как дюны, у Гэнгиэ сладко замирает сердце: каков он, этот мужчина — муж?
Сладко в груди и в то же время страшно... Каков он, Гида? Потом появится
ребенок — у всех же женщин он появляется, и у нее должен появиться. Страшно
все это, страшно неизвестностью.
Жарко под тремя халатами, под высокой шапкой, отороченной мехом выдры,
пот струится по лицу Гэнгиэ. Наконец подошли к фанзе жениха,
миорамди-бонгомди уступает дорогу невесте, она наливает в чашечку водку,
кланяется Токто и подает ему, после мужа пьет Кэкэчэ. Затем Гэнгиэ
переступает порог фанзы и заходит в дом мужа. Здесь Гида угощает водкой отца
и мать невесты. Гэнгиэ снимает верхний халат, остается в нижнем амири, тоже
вышитом на груди и спине, с побрякушками из морских ракушек на подоле. Она
берет ведра и идет на берег. Ее неотступно сопровождают обе нарядные
женщины.
— Работящая, — говорят старушки. — Сразу видно, не сидела у матери
под крылышком.
Гида обходит гостей с чашечкой, угощает, потом тоже выходит вслед за
невестой, он должен созвать на свадьбу всех джуенцев. Токто смотрит вслед
сыну и думает: «Позовет он отца Онаги Пачи или не позовет. Почему это меня
так волнует Онага? Я же не хотел, чтобы Гида женился на ней, я хотел видеть
невестой Гэнгиэ. Она вошла в мой дом, она будет второй хозяйкой, а я думаю
об Онаге. Гэнгиэ красивая, работящая».
Старшие охотники сидят рядом с Токто и Лэтэ, молодые чуть дальше, все
говорят, все навеселе от выпитого. Заходят приглашенные Гидой охотники,
рассаживаются на нарах.
Возвращается Гэнгиэ с ведрами, заходит Гида.
В это время на улице развешивали приданое невесты: меховые и шелковые
халаты, одеяла...
— Богатая невеста, — шептали женщины.
— Смотрите, какой шелк, я такого не видела раньше.
— Рисунки какие, смотрите, какие рисунки на рукаве халата.
— А сколько материи! Много всего можно пошить.
— Амурские богаче нас живут, они рядом с русскими, а у русских всегда
хорошие товары.
Гэнгиэ вновь облачилась в свадебный халат и вместе с Гидой стала
обносить гостей водкой. Сперва она опять поклонилась Токто, подала чарочку,
потом Кэкэчэ, от Кэкэчэ перешла к своему отцу, тоже поклонилась, подала
водку.
— Ты теперь чужая, дочка, — сказал Лэтэ. — Ты теперь в доме своего
мужа. Не срами наш род, будь хорошей женой, матерью, хозяйкой.
— Слушайся мужа, слушайся родителей мужа, — сказала мать, которой
Гэнгиэ поднесла чарочку вслед за отцом.
Вслед за женой со своей водкой им кланялся Гида.
— Я тебе привез жену, Гида, — сказал Лэтэ. — Живи с ней счастливо,
живи хорошо. Но, если что, не жалей, она твоя жена, она должна слушаться
тебя.
— Что ты, что ты, — пробормотал Гида смущенно и подумал: «Как я могу
плохо обращаться с ней? Я прикоснуться к ней не осмелюсь...»
— Жалей ее, сынок, она тебя будет слушаться, — сказала мать Гэнгиэ.
— Буду жалеть, она принесла счастье в этот дом, — ответил Гида.
Токто любовался сыном и невесткой, тихо говорил сидящему рядом Поте:
— Смотри, они подают водку, а сами будто никого не видят. Они похожи на
двух лебедей в маленьком тихом озерке...
Токто замолчал на полуслове: в дверях появился Пачи.
— Пригласи его сюда, — попросил он Поту.
Проходившая у дверей Гэнгиэ подала новому гостю водки, Пачи пожелал ей
счастья, здоровых детей и выпил. За невестой подал водку Гида.
— Живи хорошо, живи безбедно, будь храбрым и удачливым, как отец, —
сказал Пачи и осушил чашечку.
Он прошел к Токто и сел рядом.
— Я думал, что не придешь, — сказал Токто.
— Почему?
— Как же? Мы ведь виноваты.
— В таких делах мужчины никогда не бывали виноватыми, всегда женщины
виноваты.
Родственник Токто подал им водки, и разговор прекратился.
«Неужели собрался убивать? — подумал Токто. — Но это же ребенок Гиды,
наш человек!»
Свадебный пир только разгорался.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Зима наступила внезапно. С первых дней ноября начались морозы, они
сковали озера, заливы, а к середине месяца застыли реки, протоки, только
Амур широкий не сдавался, шумно, гневно нес ледяное крошево к морю. Но и у
него застыли забереги, и рыбаки ловили в них сомов, сазанов, налимов и
касаток.
Как только затвердели протоки, ушли в тайгу охотники. Ушел и Пиапон с
зятем и с Богданом. К концу ноября начался снегопад, снег шел изо дня в
день, охотники отсиживались в зимниках, в хвойных шалашах, а то в палатках,
многие сняли капканы, самострелы, чтобы не потерять их.
Пиапон тоже снял самострелы, а капканы вовсе не ставил из-за снега.
Сидит он возле горячего каминка уже подряд три дня. Рядом с ним Богдан, у
него одного есть занятие: читает книги. Напротив застыл молчаливый зять, ему
тоже, видимо, не очень плохо: снегопад, долгий отдых настраивают на
молчание. У двери, свернувшись клубком, дремлют три охотничьи собаки.
Пиапон смотрит на них и думает, что собакам легче переносить голод, они
привыкли бегать с пустыми желудками. Но как же людям долго голодать? Нынче
будет трудная зима, в стойбище люди будут питаться заплесневелой юколой,
охотники из-за снега не добудут пушнины. Давно Пиапон не знает, что такое
долг, но нынче придется задолжать. Тяжело будет Дярикте, но они взрослые,
они перетерпят. Пиапон думает о внуке, которого должна родить Хэсиктэкэ,
думает о Мире, которая заболела какой-то непонятной странной болезнью.
«Надо было все же свозить ее к доктору Харапаю», — думает Пиапон и
вспоминает Оненко Аями, который приезжал на большой лодке с десятью гребцами
сватать Миру. Только после отъезда свадебной лодки Пиапон узнал, что Аями
ездил в Джуен за засватанной еще в детстве невестой и отказался от нее по
какой-то неизвестной причине.
— Дочь моя младшая — невеста, — сказал Пиапон, когда Аями пришел к
нему сватать Миру. — Но ты, Аями, но удивляйся, но я решил дочь отдать
только по ее согласию.
— Впервые слышу, чтобы отец спрашивал согласия дочери...
— Спрашиваю, потому что не хочу ей плохой жизни. Выйдет замуж по своему
желанию и будет несчастлива — сама виновата, меня не будет обвинять.
— Если отец слушается дочери, выходит, он ниже ее.
— Ты можешь так думать, но я совсем по-другому думаю.
Мира отказалась выходить замуж за сына Аями Оненко. Это был четвертый
жених, которому она отказала.
«Почему она всем отказывает? — гадал Пиапон. — Может, крепко любит
кого? Наверно, любит. Бодери тоже любила меня, она хотела стать моей женой».
— Дедушка, — перебил размышления Пиапона Богдан. — Сколько на свете
чудес бывает, а мы ничего не знаем.
— До, мало знаем.
— Вот мы сидим, снег нам мешает охотиться. А на свете есть земли, где
совсем не выпадает снега. Ну, ни столечко! Люди всю жизнь живут и не видят
снега.
— Как без снега можно жить? — удивился Пиапон.
— Живут. Там всегда лето, деревья всегда зеленые, цветы все время
цветут. Люди ходят голые.
— Это хорошо, шкур не надо добывать, на одежду не требуется
зарабатывать.
— Растут всякие съедобные ягоды, некоторые такие большие, с мою голову.
Пиапон представил голубику, смородину, черемуху и яблочки с голову
Богдана и усмехнулся:
— Слишком большие.
— Ничего удивительного. Если там нет зимы, лето все время, а они растут
да растут, то, конечно, могут вырасти с мою голову или еще больше. Смотри,
какие диковинные звери там водятся,— Богдан подвинулся к Пиапону и стал
показывать картинки. — Это лев, самый сильный зверь. А это слоны, самые
крупные звери. Это обезьяны.
Пиапон смотрел на изображения зверей, действительно они были диковинны,
необычны для его охотничьего глаза. Он впервые увидел обезьян, которые
совсем не водятся на Амуре, но название их есть в нанайском языке.
— А это жирафы, самые длинношеие животные.
— Да, вот это шея! — удивленно воскликнул Пиапон. — Он, наверно,
через самые высокие кедры может выглянуть.
— На такой земле чего не жить, все само растет, до зверей шаг шагнул —
и встретил. Я бы тоже там согласился жить, — вдруг заговорил зять Пиапона.
Богдан удивленно уставился на него.
— Там сильно жарко, — сказал он. — Много хищных зверей, змей всяких
много, там даже от укусов мух можно умереть.
— Это что, все в книге написано, что ли? — недоверчиво спросил зять
Пиапона.
— Да, здесь написано.
— Я бы, пожалуй, не стал на той земле жить, — задумчиво проговорил
Пиапон. — Там нет снега, льда, нет холода. А я без холода не смогу жить,
потому что жара расслабляет меня, делает вялым, а вялый охотник — это не
охотник. Нет, без морозов, без Амура, тайги — нельзя жить. Я бы не смог!
— Есть еще земля, где кругом песок да песок, — продолжал Богдан. —
Куда ни пойдешь, кругом песок. Ветер задует, песок весь поднимается, дышать
нечем.
— Как же там люди живут?
— Живут. Воду проведут, и на песке начинают расти деревья. Смотри,
дедушка, вот этот зверь живет там, верблюд называется. Видишь, какие у него
смешные горбы? За счет этих горбов верблюд может много дней не есть, не
пить.
— О-е-е, каких только зверей нет на свете! Худеет, наверно?
— Горб худеет, а он сам ничего, живет.
Теперь даже молчаливый, бесстрастный зять Пиапона пересел к Богдану и
рассматривал двухгорбого верблюда.
«Да, тысячу раз прав Павел, книги — умные друзья», — подумал Пиапон.
— А в других книгах, что оставил тебе учитель, — наверное много
интересного, — поинтересовался он.
— Должно быть.
— А может, меня научишь читать?
— Это трудно, дедушка, я ведь не учитель.
— Ты показывай, я попытаюсь запомнить.
— Ты это от скуки хочешь чем-то себя занять.
— Разве это плохо?
— Конечно, плохо, учитель говорил, что учиться надо хотеть душой и
сердцем, надо хотеть стать грамотным человеком, тогда и учиться легче, и
запоминаться будет легче.
— Хорошие слова. На охоте ведь тоже так, когда очень и очень хочешь
добыть соболя, добудешь обязательно.
— Дедушка, а куда ушел учитель?
Глотов только Пиапону сказал, что после ледостава он исчезнет из
стойбища. Еще он сказал, что малмыжский поп пожаловался на него, и он уже не
имеет права обучать детей охотников. «Это даже хорошо, — смеялся Павел
Григорьевич. — Я теперь свободен и могу сбежать. Только детей жалко
оставлять».
Почему он раньше не бежал, почему решился сейчас только бежать, Пиапон
не стал спрашивать: сколько бы человек ни жил на чужой стороне, его
когда-нибудь обязательно потянет на родную землю.
Когда Пиапон уходил в тайгу, Глотов сердечно попрощался с ним, сам он
оставался в стойбище, ждал, когда лед закрепится на Амуре.
— Пиапон, не забывай наши беседы, не забывай, что я тебе
рассказывал, — говорил он на прощанье. — Кто знает, может, нам еще
придется встретиться.
И Пиапон тоже думал, что в жизни всегда бывает так — встретишь хорошего
человека раз, пройдет много времени, и обязательно его опять встретишь. Кто
знает, может, и вправду встретится с Глотовым. Только вот далековато живет,
ведь на ту землю, где он живет, даже солнце запаздывает.
— Куда же он ушел? Учителя родная земля потянула, — ответил Пиапон
племяннику. — Это в крови каждого человека. Я вот ездил совсем недалеко, в
Маньчжурию, жил там немного больше месяца, но меня уже дом тянул, даже
оморочка снилась по ночам. Поэтому я знаю, мне никогда долго не прожить на
чужой стороне, без Амура, без тайги, без нашей рыбы и зверей.
— А мне так хочется куда-нибудь попасть, — мечтательно проговорил
Богдан. — Читаю и вижу пустыню, чувствую жару...
— Ты сперва хоть медведя убил бы, — сказал зять Пиапона.
— Ты чего разговорился? — удивился Богдан.
— Это хорошо, — усмехнулся Пиапон. — Это к хорошей погоде.
В этот день зять Пиапона больше не проронил ни слова, а размечтавшийся
Богдан говорил безумолчно. О чем только он не мечтал! То переплывал моря на
оморочке, сражался с морскими чудовищами, то ехал по пустыне на верблюде, и
с ним случались всякие приключения. Пиапон с удовольствием слушал его,
иногда, сам не замечая того, включался в эту своеобразную игру и начинал
фантазировать вместе с племянником, потом спохватывался, замолкал надолго и
думал, что хорошо коротать долгие пурги в тайге с таким весельчаком, как
Богдан, что его россказни интересней намного, чем сказки и легенды, что
Глотов хорошо поступил, научив Богдана читать; если бы он не научил читать и
не дал мальчику книг, то откуда у него, у шестнадцатилетнего юнца, могла
разыграться такая немыслимая мечта?
На следующий день установилась погода.
Снегу выпало так много, что собаки совсем тонули в нем и могли идти
только по следу лыж охотника. Пиапон отправился на расследование ближних
ключей и распадков, он шел налегке, без ружья и копья. Богдан, последовав
его примеру, тоже оставил ружье.
Шли долго, широкие лыжи утопали в мягком нежном снегу и быстро утомляли
охотников. Богдан совсем устал и попросил Пиапона сделать небольшой отдых.
Подобрали укромное место, разожгли костер, начали в кружках заваривать чай.
— Зверей мало, — сказал Пиапон.
— Снег большой, потому спят, — ответил Богдан.
За всю дорогу охотникам встретились несколько следов белок, соболей,
горностаев, но ни одного следа крупных зверей. Подкрепившись чаем, охотники
пошли дальше. Не прошли и двести шагов, как наткнулись на след лося; таежный
великан медленно шагал в этом месте, вся его длинная нога тонула в снегу.
Пиапон пошел по следу. Лось временами останавливался, потом так же медленно
шагал дальше. Но вот он сделал прыжок и поскакал. Пиапон припустился за ним,
оставив племянника далеко позади. Богдан бежал по следу лыж, сзади него
неслись собаки, часто зарываясь в снегу по грудь. Следы лося и лыж Пиапона
вели на вершину сопки, умный зверь знал, что на вершинах сопки, на гребнях
между ними он найдет спасение, потому что там всегда мало бывает снега:
ветры сносят его.
Лось бежал с вершины на вершину сопок, неотступно преследуемый
охотником, но вдруг за одной сопкой перед ним распахнулась низина, и он
вынужден был спуститься вниз, в распадок, где снегу было ему почти по грудь.
Но лось был старый, испытанный боец, он ушел не от одного охотника, победил
не одного противника в осенних сражениях за самок. Он и сейчас уйдет от
преследователя, ему только перейти эту широкую низину, добраться до
следующей гряды сопок, и там его не догонят самые быстроногие охотники. Лось
спустился в низину и тяжело побежал к возвышавшейся сопке. Бежал недолго,
как почувствовал за собой охотника. Он оглянулся — охотник настигал его,
тогда он круто повернулся к преследователю и приготовился к бою: нет у него
рогов, но зато есть сильные ноги, острые копыта. Он будет драться. Охотник
тоже остановился. Снег глубокий, чтобы драться, надо притоптать, примять
его. Лось, не сводя глаз с Пиапона, мял снег.
Когда Богдан догнал Пиапона, он стоял перед лосем в нескольких шагах с
ножом в руке, а лось продолжал мять снег: он уже очистил довольно большое
место для боя. Собаки сразу бросились на зверя, с лаем, ловко увертываясь от
его грозных копыт. Теперь лось, позабыв об охотниках, следил за назойливыми
собаками. Пиапон срезал две длинных березки, очистил от веток, на конце
одной из них прикрепил нож Богдана.
— Обойди с той стороны, — сказал он Богдану. — Будь осторожен, издали
маши на него палкой, зови собак, чтобы они нападали с твоей стороны. Будь
осторожен, — еще раз предупредил он.
Богдан обошел вытоптанную лосем площадку, подошел с противоположной
стороны и начал с криком размахивать палкой. Собаки подбежали к нему,
подняли оглушительный лай. Лось повернулся к Богдану, смотрел на него
большими испуганными глазами: глаза его, казалось, просили: «Оставь меня, я
бесконечно устал. Убери собак».
Пиапон сзади подкрадывался к зверю, подошел шагов на десять, но лось
заметил его, круто угрожающе повернулся к нему. Пиапон метнул в бок лося нож
и отбежал в сторону, Лесной великан, будто чему-то удивившись, застыл на
месте, растопырив ноги: на черном его боку торчало самодельное копье. Собаки
бросились на него, одна вцепилась зубами в заднюю ногу и старалась
перегрызть сухожилие, но лось легко отбросил ее в глубокий снег, другую
слегка задел острым копытцем, и она свалилась с проломленным позвонком. Лось
еще раз ударил ее, и она перестала визжать и замерла.
Богдан бледный подошел к Пиапону и пробормотал:
— Дедушка, он убил твою любимую собаку.
— Вижу, не слепой, — жестко ответил Пиапон.
Лось наклонил голову, будто у него были ветвистые тяжелые рога, и начал
бодать комолой головой мертвую собаку.
— Он защищает свою жизнь, — немного помолчав, сказал Пиапон. — Собери
дров, разожги костер рядом.
Богдан быстро собрал хворост, разжег костер и начал в кружке таять снег.
Подошел Пиапон, сел возле костра и закурил. Когда подошла собака, он
прикрикнул на нее, приказал, чтобы караулила зверя. А раненый великан стоял
на четырех широко расставленных ногах и смотрел на костер, на охотников. В
глазах его полыхало пламя охотничьего костра, в боку торчала рукоятка ножа.
Богдан смотрел на лося и не чувствовал ни угрызения совести, ни жалости: он
хотел есть.
— Сколько он может стоять? — спросил он.
— Всю ночь и еще день, — ответил Пиапон.
— Мы будем у костра ждать?
— Зачем? У нас есть еще один нож.
Вода в обеих кружках закипела. Богдан заварил чай. Охотники, обжигаясь,
наслаждались густым крепким чаем. А лось все стоял. В глазах его не было ни
злости, ни жестокости, была только беспредельная тоска умирающего.
Пиапон закурил трубку. В тайге, между высокими деревьями всегда раньше
времени наступают сумерки. Богдан смотрел на лося, на сторожившую собаку —
они явственнее, чем днем, чернели на белом девственном снегу, даже кровь
выступала ярче. Так бывает, когда только что наступают сумерки.
— Темнеет, — сказал Богдан и подумал, что надо собрать хворост, пока
совсем не стемнело: все равно придется ночевать здесь, ждать смерти лося.
Пиапон выкурил трубку, выбил пепел и засунул за пазуху.
— Надо кончать... — промолвил он, вставая.
Богдан дошел до своего утоптанного лыжами места, взял шест, посмотрел на
Пиапона, как он протаптывает тропинку к лосю.
Собака, увидев приготовления хозяев, опять начала беспокоить лося: зверь
по-прежнему стоял на месте и смотрел на костер, на Пиапона, он будто
чувствовал в нем главного своего врага. Собака подбежала сзади, схватилась
за ногу, и тогда только великан, пошатываясь, обернулся к Богдану. Богдан
начал швырять палками в него, махать шестом. И вдруг Богдан с ужасом увидел
подходившего к лосю Пиапона с ножом в руке.
— Аа-а! Аа-а! — кричал Богдан, и его крик будил приготовившуюся ко сну
тайгу. «А-а-а! А-а-а!» — неслось от сопки к сопке, от распадка к распадку.
Богдан, сам не замечая того, шаг за шагом тоже приближался к лосю,
кричал от страха и махал шестом.
Пиапон вплотную подходил к лосю, шаг, еще шаг.
— Дедушка!!! Дедушка!! — закричал Богдан.
Пиапон вдруг рысью вскочил на лося и начал бить ножом в бок.
Лось прыгнул, Пиапон чудом удержался на нем, и, когда зверь поднял в
прыжке голову, он всадил нож в горло. Таежный великан рухнул на снег в конце
прыжка. Богдан не видел ни зверя, ни Пиапона. Он плакал.
— Ты чего! Разве в тайге охотники плачут?
Перед ним стоял Пиапон и вычищал снегом кровь с ножа.
— Собирай побольше дров, — строго сказал он.
Богдан только сейчас понял, что он плачет. Он вытер слезы и пошел
собирать хворост.
Непроглядная черная ночь опустилась на тайгу, но дрова были уже
заготовлены, Пиапон закончил разделывать лося. Оба охотника сели возле
жаркого костра и начали есть сырую печень, почки, костный мозг. На вертеле
поджаривалось мясо, в кружках заваривался чай.
— Так мы и живем, — сказал Пиапон. Он чувствовал, как Богдан стыдится
своих слез. — Такова наша жизнь охотничья, — повторил он.
Богдан смотрел на пламя костра, переворачивал мясо на вертеле.
— Дедушка, я испугался, — сказал он.
— Лось уже умирал, и нечего было его бояться.
— Я смотрел на тебя, на лося, потом все исчезло, и я увидел большого
деда в проруби...
Пиапон удивленно взглянул на племянника.
— От испуга это. Большой дед твой однажды во время наста так же заколол
лося. Мы тогда голодали.
Слова Пиапона немного успокоили Богдана.
Ночь охотники переночевали возле костра, на следующий день вместе с
зятем Пиапона, который добыл одного кабана, перевозили мясо. Погода в эти
дни улучшилась, снег затвердел, соболи протаптывали распадки, ключи, и
охотники выставили самострелы, капканы. Началась охота, потянулись
однообразные дни, похожие один на другой. Редко выдавались счастливые дни,
когда в самострелы попадался соболь, кто-нибудь подстреливал кабана или
кабарожку с ее драгоценной струей.
Однажды в конце месяца агдима (Агдима — январь.), вернувшись в зимник,
Пиапон встретил незнакомца, он лежал возле остывшего камина и стонал. В
зимнике было темно, Пиапон зажег жирник. Незнакомец не проснулся. Пиапон
подошел к нему, разглядел обувь, одежду и сразу догадался, что пришелец —
житель морского побережья, он или нивх, или ороч. Скорее всего, это был
ороч, потому что скупые узоры на его унтах из облезлой нерпичьей шкуры
походили на нанайские, халат был почти нанайский. Орочи женятся часто на
нанайках, и нанайские женщины шьют мужьям нанайские халаты, унты, украшают
их своими амурскими узорами. Пиапон вышел из зимника, осмотрел лыжи
пришельца и совсем убедился, что гость его — ороч.
Он наколол дров, занес их и затопил камин. Незнакомец застонал,
приподнялся и, увидев Пиапона, поздоровался.
— Сородэ (Сородэ — здравствуй.).
— Сородэ, — ответил Пиапон. — Болеешь?
— Заболел. Еле на ногах стою.
— Лежи, я сейчас чай заварю.
Вернулся Богдан, увидев незнакомца, насупился. За ним появился зять
Пиапона, он принес кабаргу. Охотники сели вокруг камина, начали пить чай.
— Как тебя зовут? — спросил Пиапон гостя.
— Акунка я, Кондо, — ответил ороч.
— Наверно, ты с реки Тумнип?
— Рядом живу.
— Сейчас откуда идешь?
Гость неопределенно махнул рукой, мол, оттуда. Пиапон не понял, но не
стал переспрашивать. Его удивил Акунка, он имел лыжи, ружье, полупустую
котомку и больше ничего. Раньше Пиапон встречал орочей, не одного и не двух,
те жили, как и многие охотники, в хвойных шалашах, имели нарты, провизию,
собак.
Пиапон сказал Богдану, чтобы он сварил хорошую кашу с фасолью. Богдан
разделся, прополз возле гостя в изголовье своей лежанки, достал туески с
крупой и фасолью и начал насыпать в кастрюлю. Ороч курил трубку, отвечал на
вопросы Пиапона.
Когда Богдан стал насыпать крупную, будю разукрашенную фасоль, он
схватил Богдана за руку.
— Нэку! Продай мне, — задыхаясь, проговорил он, — продай, у меня есть
один хороший соболь. Отдаю его. Продай одно лекарство.
Акунка выбрал одну красивую фасолинку. Руки его дрожали.
— Вот эту продай. Я не обманываю, у меня есть соболь...
— Я не продаю... — пробормотал Богдан.
— Продай, соболя отдаю.
— Это не лекарство, Акунка, это еда, — сказал Пиапон. — Я же сказал,
кашу будем варить.
Пиапон достал туесок, взял горсть фасоли и отдал орочу.
— Это мне?! Это все мне отдаешь? — спросил Акунка.
— Да. Бери.
— Неужели ты такой щедрый человек! Здесь же много соболей, каждое
лекарство стоит одного соболя.
— Кто тебе это сказал?
— Нанай, амурские нанай продают так это лекарство. Они говорят, если
съесть, то лекарство поможет от всех болезней, сразу человек здоровым
делается.
Акунка встал на колени в сторону восхода солнца, поклонился и зашептал
молитву. Он долго молился, потом съел фасолину и опять продолжал молиться.
«Неужели он верит, что простая фасолина спасает человека от смерти, от
всех болезней вылечивает? — думал Пиапон, глядя на изогнувшуюся спину
ороча. — За простую фасолину отдавать целого соболя. Неужели на Амуре
появились жестокие, жадные нанай!»
Акунка кончил молиться, сел и закурил.
Богдан вытащил мясо из котла, выложил в широкое, плоское берестяное
матаха. После мяса Богдан подал кашу в масках. Акунка увидел фасоль в каше,
зацепил ложкой, положил на ладонь, остудил.
— Ты ешь их вместе с кашей, — посоветовал Пиапон.
— Разваренная тоже имеет силу? — спросил Акунка.
— Не знаю я этого, но мы едим с кашей. Это простая еда, ее выращивает
любой русский, китаец, маньчжур, кореец. Мы тоже, если бы захотели, сколько
хочешь вырастили бы.
Акунка ничего не ответил. Он съел кашу, выпил чай и, свернувшись, лег на
свободном месте. Ему предложили кабанью шкуру, одеяло, но он отказался.
Утром Акунка проснулся раньше всех, затопил камин, принес воды с ключа и
поставил кипятить.
Пиапон подумал: «Неужели он выздоровел?»
Охотники поднялись, ополоснули руки и лица холодной водой, поели остаток
мяса, выпили чаю.
— Ты как себя чувствуешь? — спросил Пиапон.
— Сегодня хорошо, — ответил ороч.
— Ты лучше еще отдыхай, если никуда не спешишь.
— Если разрешишь, отдохну.
— Ты мой гость. Вон там в изголовье лежат чай, крупа, фасоль, мука, на
лабазе найдешь мясо, вари что хочешь, ешь, пой.
Охотники разошлись в разные стороны. Пиапон проверял в этот день
самострелы и капканы как никогда быстро. После полудня он уже вернулся в
зимник. Акунка сидел возле горячего камина и курил трубку.
— Ты всегда так рано возвращаешься? — спросил он.
— Нет, я спешил к тебе, — ответил Пиапон.
Акунка ничего не сварил.
— Я хотел к вашему приходу сварить, — оправдывался он.
— Нехорошо, ты гость мой и голодный сидишь.
Пиапон заварил чай, поставил варить боду с фасолью, мясной суп.
— Акунка, друг, — сказал Пиапон, когда они сели пить чай. — Лет шесть
назад я ездил в маньчжурский город Сан-Син, по дороге мы заезжали в стойбища
и в город Бури. Тогда я узнал многое. Потому я тебе поверил, что есть
торговцы-нанай грабители, обманщики. Я охотник, я рыбак, себе еду добываю
своими руками. Ты тоже так же добываешь себе еду. Мы с тобой братья, мы люди
одной крови, одного языка. Потому выслушай меня, брат, внимательно. Тебя
обманули, тебе тури (Тури — фасоль.) продавали как всемогущее лекарство.
Это сделали злые, жадные люди. Выходит, такие нанай появились. Ты мне скажи,
брат Акунка, кто эти люди, как их зовут, я при всех расскажу про них, соберу
родовых судей. Наши люди не потерпят таких, даже собака — и та не терпит в
одной упряжке паршивого соседа.
— Ладно, я расскажу про их дела, но имен не спрашивай. Они тут давно
ездят. Может, пять лет, может, больше. Ездят они по двое. Первые двое
продавали всякие вещи, водкой поили. На второй, на третий год я им много
задолжал. Так много, что сколько ни отдаю, все не могу выплатить. Нынче они
вернулись, все у меня забрали, потом палками избили. С тех пор болею. Только
на ноги поднялся, ушел в тайгу. На сопку поднимусь, отдыхаю, спущусь —
отдыхаю. Чего так добудешь? Однажды я так же отдыхал на сопке. Сижу и вдруг
вижу двоих. Они спрятали нарту и густом ельнике, сами на лыжах спускаются к
реке. Посмотрел я туда-сюда, вдруг вижу ездовую нарту, много собак
запряжено. Я узнал одного русского торговца. Те двое из кустарников
выстрелили в торговца. А торговец не один, двое их тоже. Они легли за нарты
и тоже стали стрелять. Потом ползком, ползком за нартами ушли за излучину
реки. А те двое в кустах поднялись и стали драться палками. Потом, через
несколько дней они приехали к нам. Я им тоже был много должен. Старший
торговец говорит мне, если не можешь сейчас отдать, отдашь в следующий раз.
Вечером он пришел ко мне, увел жену. Что я мог сделать? Был бы здоров, еще
туда-сюда. Потом пришел второй торговец и сказал мне, чти все мои долги
исчезнут, если я выполню одно дело. Вытащил бумагу и говорит, что это твой
долг, видишь, я рву его. И правда, изорвал бумагу. Потом принес муки, крупы,
пороху, свинца, материи и водку. Напоил меня и сказал: «Послезавтра мы будем
проходить по такому-то месту, ты подкарауль нас и стреляй в моего помощника.
Он плохой человек, сейчас он спит с твоей женой. Убей его, я твой долг снял
с тебя, ты мне ничего не должен». Не помню, согласился я или нет, пьяный
был. На другой день хотел ему все вернуть, да он уже уехал. Я не стал
убивать человека. С того дня ушел из своих мест и брожу по тайге.
Давно уже остыл чай в кружке Акунка, в кастрюле кипела вода, в котле —
суп, но оба собеседника ничего этого не замечали.
— Ты теперь, Пиапон, друг, знаешь обо мне все, — сказал Акунка. —
Больше ничего не спрашивай, больше ничего не могу сказать.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Во многих семьях бывает так: сын всегда тянется к отцу, дочь — к
матери, но в домах Пиапона и Полокто почему-то вышло наоборот — сыновья
Полокто отошли от отца, ближе были к матери, делились с ней мальчишечьими,
самыми что ни на есть тайнами; а у Пиапона дочки тянулись к отцу, доходило
до того, что просили отца сделать им акоаны. Особенно Мира так привязалась к
отцу, что иногда просилась с ним на рыбалку, на охоту, выходила на берег
раньше всех, садилась в оморочку, и никакие уговоры не могли заставить ее
сойти с оморочки. Несколько раз пришлось Пиапону брать ее с собой проверять
сети. Все стойбище знало, что Мира любимица отца.
Сыновья же Полокто, взрослея, так и не отдалились от своей матери,
наоборот, еще крепче полюбили ее. А Мира все-таки была девочкой, а у
девочки, хотел того Пиапон или нет, были свои интересы маленькой женщины.
Лет с двенадцати Мира уже перестала проситься на рыбалку с отцом. А лет с
пятнадцати стала стесняться отца, отошла совсем к матери: у ней проснулся
инстинкт женщины, и женщина должна была делиться всеми своими секретами
только с женщиной.
С тринадцати лет к Мире начали свататься. Приезжали из Джоанко, из
Джари, из Эморона, но Пиапон не выдавал ее замуж, потому что она наотрез
отказалась от замужества.
— Отцовская дочка, потому Пиапон и слушается ее, слишком дорожит ею, —
говорили в стойбище.
— Цену набивает, — шептали злые и завистливые языки, какие всегда
находятся в любом стойбище.
— Перезреет, Пиапон, выдавай, — советовали другие.
Пиапон смеялся и твердил, что выдаст младшую дочь только с ее согласия.
— Когда это отец слушался дочь?
— Когда это мои деды жили в деревянных домах? — вопросом отвечал
Пиапон.
В последующий год, особенно с лета, Мира стала избегать отца. Но как не
встретишься с ним, когда живешь в одном доме? А она не смела смотреть ему в
глаза, потому что она подвела его. И ничего уже не изменять теперь. Мира
готова была бы принять смерть, своей кровью смыть с отца позор, но за ней
неотступно следят Хэсиктэкэ и мать. Она хотела во всем признаться отцу. Но
мать и сестра не позволили ей сделать этого. Они говорили, что отец не
вынесет такого позора, убьет ее, Миру, потом может покончить и с собой. Мира
готова была сама умереть, но она не хотела смерти отца. А мать с Хэсиктэкэ
твердили, что отец обязательно покончит с собой. Мира страдала и молчала.
Она вспоминала его и нисколько не сердилась на него, потому что он был такой
необыкновенный. И сейчас Мире становится трудно дышать, когда она вспоминает
его. Сердце бьется в груди... Он был самый хороший. Какой он смуглый! Какие
открытые глаза! Косы толстые! Сильный, ловкий! Как он обнимал!
Был тот молодой охотник из стойбища Джоанко, приехал с другими
охотниками, привез русского, которой бродил по стойбищу, всех и обо всем
расспрашивал. Был у него интересный ящик, который на бумаге может отпечатать
человеческое лицо, фанзы. Сколько смеху было, когда по его просьбе взрослые
запрягали в нарты собак! Это летом, на траве! Но Мира никому не назовет имя
любимого, пусть он обманщик, пусть он обесчестил ее. Но зато он сразу
приглянулся ей. Вечером ноги сами понесли ее к подружке, где они и
встретились.
Мира вернулась поздно, она никогда так поздно не возвращалась домой.
Ноги дрожали, переступая порог. Отчего они дрожали? От страха или от того,
что произошло? Мира легла на свою постель, но не могла уснуть до утра.
Поднялась раньше всех, начала хлопотать по хозяйству.
А как наступила темнота, она опять встретилась с ним, и опять было то,
что никому не расскажешь. То, что было с ней, не может быть с другой. Только
с ней! Он завтра уезжал и поклялся, что обязательно приедет свататься. Это
он говорил и в первый вечер. Она верила ему.
Утром Мира пошла на берег за водой. Он проводил ее глазами.
Месяц прошел быстро. Он не приезжал. Не пришли и месячные. Промелькнул
второй месяц. Его все не было, не ехали и сваты. Второй срок не приходили
месячные. Она сообщила об этом матери. Мать подозрительно посмотрела на нее,
и Мира впервые почувствовала, что она совершила что-то недозволенное.
— С мужчинами спала? — напрямую спросила мать.
Мира покраснела, считала, что все, что произошло между ней и им, — это
только их дело, это не должно касаться других. Теперь она вдруг поняла, что
это касается и матери, и отца, и всех домашних. Почему касается? Этого она
еще не знала, но обостренное женское чутье подсказывало, что она виновата.
— Он обещал вернуться, — прошептала Мира.
— Еще спать? — Дярикта была безжалостна.
— Свататься.
— Ты даже не знаешь, отдаст тебя отец за него или нет, а уже успела
ребенка заделать.
— Какого ребенка? — впервые она взглянула на мать.
— А ты думала, отчего у тебя нет месячных?
Теперь Мира все поняла, она тихо опустилась на пол и закрыла лицо
ладонями.
— Хороша папина дочь! Хороша! Что теперь будет, что будет? Тебя убить
мало, тебя утопить мало, тебя сжечь мало! Опозорила отца, самого честного
человека опозорила! Что будет, когда люди узнают?
Дярикта пнула дочь, она словно остервенела и пинала Миру безжалостно,
будто хотела выбить из нее только что завязывающийся плод. Потом она,
обессиленная, упала возле дочери и заплакала. Пришла Хэсиктэкэ, узнав о
случившемся, села рядом с матерью и сестрой. Успокоившись, женщины пришли к
единственному решению: они все должны молчать и ждать жениха. Если Мире
будет плохо, то она должна сама придумывать себе болезни, а мать и Хэсиктэкэ
поддержат ее.
Никто, ни одна душа, ни в доме, ни в стойбище не должны знать о
беременности Миры. На том закончился первый женский совет в доме Пиапона.
Прошло еще два месяца, плод, неподвижный и тяжелевший изо дня в день,
вдруг однажды подал признаки жизни. Жених, напротив, не подавал никаких
вестей. Живот Миры становился заметнее. На нее стали надевать широкие
халаты. Главное решение женского совета — с этого дня беременна не Мира, а
Хэсиктэкэ. Ничего в этом нет удивительного, Хэсиктэкэ замужем, есть у нее
один ребенок, теперь появится второй. Хэсиктэкэ в эту же ночь поведала мужу
о своей беременности, на что муж-молчальник все же открыл рот и прошептал:
— Хорошо. Сына хочу.
От мужчин дома женщины могли скрыть беременность Миры: Пиапон никогда не
был слишком любопытным, а Мира всегда придумывала себе новые болезни. Муж
Хэсиктэкэ — этот совсем ничем не интересовался, любил только охотиться и
рыбачить.
Но трудно было отбиваться от назойливых старух и любопытных женщин, они
уже разнюхали тайну и наперебой предлагали свои услуги и всякие лекарства.
Дярикта всем отвечала, что дочь лечится сама, что она совсем хорошо себя
чувствует. Но женщин, которые сами много раз бывали в таком положении, разве
проведешь? Разве они не замечают маленькую выпуклость живота Миры под
халатом? А разукрашенное лицо беременной кому не знакомо?
Но женщины молчали. В беде все женщины заодно. Когда приехал свататься
Оненко Аями, они натерпелись страха. А что, если Пиапон согласится на брак?
Вдруг он не захочет слушаться Миру? Что тогда? Ребенок уже шевелится,
родится он зимой, и все раскроется. Нет, Мира не должна выходить замуж!
Оненко Аями уехал. Тут опять новая тревога, — отец решил везти больную
дочь к своему другу русскому доктору Харапаю. Что будет! Что будет! Этому
доктору, который деревянной трубкой узнает у человека внутренние болезни,
достаточно взглянуть на Миру, как сразу поймет, что за болезнь сидит у нее в
животе.
Но и тут беда прошла, Дярикта уговорила Пиапона не возить дочь к доктору
Харапаю. Только с отъездом охотников женщины вздохнули свободно и начали
готовиться к встрече нового человека. Пусть родится, лишнего человека не
бывает под солнцем, всегда найдется место для него.
Хэсиктэкэ старалась спасти честь отца, семьи и рода, она подложила под
халат небольшую подушку, редко стала ходить к подругам, всем говорила, что
она ходит последние месяцы, потому лучше ей отсиживаться дома. Она с матерью
готовила саори (Саори — стружки черемушника.), и дом весь заполнился
терпким ароматом черемушника, и казалось, что наступила весна. А на Амуре
гуляли жестокие ветры, от мороза о громовым грохотом раскалывался лед,
шумели многодневные пурги. Прошел месяц гуси (Гуси — декабрь.), другой
зимний месяц агдима промелькнул незаметно в хлопотах. Последние месяцы
будущая роженица должна ходить в тряпье, и Хэсиктэкэ храбро носила тряпье,
спала отдельно в сторонке, ела из другой посуды. Правда, это все делалось
при посторонних, когда же оставались одни, Мира ела из отдельной посуды,
спала в сторонке, но носила тот же чистый халат, который решено было
пожертвовать ради такого важного дела.
Подходили последние дни. Дярикта сама построила большой утепленный чоро
(Чоро — шалаш роженицы.), натаскала туда хвои, дров.
Дярикта теперь боялась только одного — как бы Пиапон с зятем и Богданом
не возвратились раньше рождения ребенка. Она умоляла всех добрых духов
помочь Мире родить ребенка в срок.
Мира не боялась родов, но стала молчалива и необыкновенно послушна.
Когда мать допытывалась, отчего она молчит, — может боится родов? Она
отвечала, что ей стыдно обманывать отца, она легче перенесла бы любые муки,
побои, даже смерть приняла бы без страха, если таково было бы решение отца.
— Приедет отец, я все открою ему, — сказала она как-то в отчаянии. —
Тогда мне станет легче.
— Ты же тогда без ножа зарежешь его! — вскричала мать. — Не смей
этого делать! Не смей!
Не одна Мира думала, что справедливее было бы во всем сознаться Пиапону,
пусть он сам примет решение. Ведь что свершилось, то свершилось. Так думала
и Агоака. Однажды она пришла поздно вечером, села по обыкновению перед
дверцей печи и закурила. Дярикта сидела тут же и выжидательно молчала.
Агоака редко заходила к Дярикте.
— Эукэ (Эукэ — тетя, жена брата.), все это зря вы делаете, — сказала
Агоака.
— Что, что? О чем ты говоришь? — затараторила Дярикта.
— Эукэ, не сердись и не кричи. Все, что случилось...
— Что случилось? Ты говори понятнее, что случилось?
— Эукэ, спокойно выслушай. Все, что случилось, — наша беда, наше
несчастье, наш позор. Большой дом — это ваш дом, потому ваш позор и наш
позор. Но если уже случилось такое, теперь поздно что-то придумывать. Мы
думаем...
— Вы ничего не думаете, вы живете в большом доме, мы в своем, не лезьте
не в свое дело. Если и что знаете, держите рот закрытым.
— Всем рот не закроешь.
— Закрою! Всем закрою, чтобы не позорили моего мужа!
— Все женщины стойбища знают, что Мира беременна.
— Нет, не Мира! Хэсиктэкэ беременна, она рожает скоро! Ты тоже так
говоря всем. Хэсиктэкэ беременна!
— Эукэ, лучше будет, когда ага вернется с охоты, все рассказать
начистоту. Не надо от него скрывать...
— Это не твое дело! Отец Миры ничего не должен знать! Если ты настоящая
его сестра, если ты на самом деле любишь его и не хочешь его позора, ты
должна всем говорить, что родила Хэсиктэкэ. Вот как ты должна поступать,
если не хочешь позора брата.
Агоака не стала больше убеждать Дярикту, она давно уже знала ее
характер. Разговаривать с ней больше было не о чем, растолковать ей все
равно не удастся, и Агоака ушла.
Через день Мира спокойно, без крика разрешилась от бремени. Она родила
мальчика. Хэсиктэкэ жила с ней в чоро, жгла костер, варила еду, спала и ела
вместе с сестрой. Они вместе вернулись в дом, лежали вместе на пристроенных
отдельно нарах. На этих же нарах они лежали, когда возвратился из тайги
Пиапон с зятем и с Богданом. Ни Пиапон, ни зять так и не узнали, что
пухленький мальчик был сыном Миры. В стойбище почти всем взрослым была
известна эта история, но все молчали и только удивлялись доверчивости
Пиапона.
— Сам честный и всех людей по себе равняет, — говорили добрые люди.
А злые и завистливые хихикали в стороне:
— Вот так Дярикта! Мужа вокруг пальцев обвела. Олух Пиапон! Слепец! А
еще говорят «умный человек»! Где его ум?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Озерские нанай, живущие по реке Харпи, даже слушать не хотели о запрете
охоты на соболя. Они, как и амурские, заметили его исчезновение, ловили
каждый год все меньше и меньше, но отказаться от него все же не могли: без
этого дорогого зверя трудно охотнику прокормить семью.
Токто с сыном и Потой тоже охотился зимой на соболя. Добыли они
достаточно, чтобы безбедно прожить лето, запастись продуктами на зиму: могли
они добыть и больше, но Гида и Пота будто голову потеряли в эту зиму. Гиду
Токто понимал — молодой муж оставил дома любимую жену, с которой побыл
всего только месяц, конечно, теперь все думы его о красивой Гэнгиэ. Какая
тут охота! Но, что происходит с Потой, Токто не понимал. Пота часто
вспоминал Богдана, говорил о нем. Это понятно, Пота хотел жить в зимнике с
сыном, охотиться вместе. Каждый отец в сыне видит своего помощника, а к
старости — кормильца. До старости Поте далеко, он крепок, здоров, никакая
болезнь его не берет. По вечерам он подтрунивает над Гидой, уверяя, будто
тот в каждом кустике видит свою Гэнгиэ, а сидящего перед носом соболя не
замечает. Посмеивается над молодым, но Токто знает, что Пота тоже думает о
своей Идари, вспоминает, как он сам страдал в первую зиму, когда оставил
дома беременную жену.
А сам Токто. Уж кому-кому, а ему совсем тоскливо. Уже сколько лет подряд
он оставлял жену беременной, потом всю зиму по утрам молился восходящему
солнцу, всемогущему эндури, чтобы они оберегали его ребенка, единственное
его счастье. Но проходило немного времени, и Токто хоронил их. Одних он
хоронил в дупле дерева, чтобы стыдились, что их хоронят не по-человечески в
гробах и в земле, пристыженные, они вернутся к отцу и матери и больше не
покинут их. Других хоронил вниз лицом, чтобы тоже стыдились, что их хоронят
не по-людски. Третьих подбрасывал к чужим кладбищам, к людям чужого рода —
если не хочешь с родителями, с людьми своего рода жить, живи с чужими.
Сколько детей похоронил Токто — сам не помнит, да и зачем их помнить?
Что они сделали такого, чтобы их помнить? Хоть водой напоили? Хоть подвязку
на унтах сняли? Хоть трубку подали? Нет, ничего они не сделали, потому
нечего их помнить!. Нынче, когда Токто уходил в тайгу, Кэкэчэ ходила
последние дни. И опять Токто каждое утро молится восходящему солнцу,
всемогущему эндури. Это его последний ребенок, больше, по-видимому, не
появятся они, потому что сам он старится, а Кэкэчэ уже седеть начала. Этому
его ребенку должны дать силы солнце и эндури. Должны помочь, потому что это
последняя надежда Токто.
Но Токто всегда умел сдерживать свои чувства, всегда мог перебороть
себя. Когда тоска по любимым женам захлестывала Поту и Гиду, когда давили на
Токто воспоминания об умерших детях, он расправлял плечи, будто сбрасывал с
себя тяжелую ношу, и начинал рассказывать что-либо веселое, смешное или
придумывал такое занятие, за которым Пота и Гида забывали о своей тоске.
Гиду заставлял делать подарки будущему сыну, и тот старательно готовил
красивые стрелы. Пота готовил приданое маленькой дочурке, вырезал деревянную
посуду.
Возвратился Токто с напарниками в стойбище Хурэчэн раньше других
охотников. Дома его встретил четырехмесячный сын громким ревом. Токто прижал
его к груди, словно хотел оградить от всех невзгод, хотел уберечь от всех
несчастий.
— Кричи, сынок, крики громче, — смеялся он. — Кто кричит громко, тот
человек! Ты не стесняйся никого, здесь все свои. Кричи, сын!
Малыш замолчал, уставился на отца, долго смотрел широко распахнутыми
глазенками и улыбнулся. Токто прижал крохотное тельце сына к груди и тихо
сказал:
— Кашевар, помощник мой на охоте и рыбалке. — А про себя помолился
яркому солнцу и всемогущему эндури, чтобы они дали силы его сыну преодолеть
все жизненные невзгоды, чтобы стал он храбрым охотником.
Гида, мельком взглянув на брата, уединился с женой в своем углу, но
Гэнгиэ стеснялась его, а еще больше — Токто и Поты. Она невпопад отвечала
на вопросы мужа.
Возвращение охотников из тайги — всегда праздник. Все жители маленького
стойбища Хурэчэн собрались в доме Токто, они ели мясо, слушали рассказы
охотников, сами делились новостями, привезенными с Амура. Охотники, четыре
месяца находившиеся в одиночестве в глухой тайге, с удовольствием слушали
эти новости. Они узнали о смерти стариков, рождении новых людей в Джуене,
Болони, Мэнгэне, Хунгари, Нярги, Хулусэне, узнали, что в Нярги закрыта
школа, учитель сбежал, ученики ушли на охоту; братья Идари, кроме Пиапона,
работают в тайге, валят лес, вывозят к машине, которая распиливает доски.
Полокто заимел лошадь, но боится ее, и за ней ухаживают сыновья; в Джуене
бессовестная Онага, дочь Пачи, родила без отца мальчика, а в Нярги дочь
Пиапона, Хэсиктэкэ, тоже родила сына. Больше было приятных новостей. Только
рождение сына у Онаги было воспринято по-разному: Токто пожалел, что мальчик
теперь будет человеком рода Гейкер, если бы женился Гида на Онаге, он стал
бы Гаером: Гиду, наоборот, неприятно задело это сообщение.
Пота сказал:
— Приятно слышать, что рождаются мужчины, это говорит, что наш народ
будет расти.
Весь вечер дом Токто был заполнен соседями, Кэкэчэ с Идари сварили
гостям второй котел мяса. Поздно разошлись гости, каждая женщина несла домой
по куску свежего мяса на суп. Наконец охотники остались одни.
— У нас мало родственников, можем мы сами здесь посоветоваться, —
сказал Токто. — Надо дать имя новому охотнику, обряды исполнить.
— Завтра у нас еще есть время, — сказали одновременно Пота и Гида.
Токто засмеялся, посмотрел на Идари и Гэнгиэ и опять засмеялся.
— Пусть будет по-вашему. Тушите свет!
Утром сыну Токто дали имя, чтобы никто не позавидовал, назвали его Тэхэ
(Тэхэ — пень.). Решили в следующий день принести жертву солнцу и эндури,
для этого требовалась черная свинья и курица. Свинью и курицу взяли взаймы у
соседа. Токто обещал возвратить свинью большего размера и курицу летом,
когда съездит в Малмыж и купит там. За шаманом поехал в соседнее стойбище
Гида. К вечеру все приготовления были закончены.
Токто не совсем помнил все обряды, которые он выполнял после рождения
ребенка, чтобы сын или дочь росли здоровыми и крепко стояли бы на земле. Но
он точно знал, что ни разу не выполняли обряд окольцевания, этот обряд он
мог выполнить и без шамана.
«Окольцевание — это хорошо, — думал он, — но жбан здоровья и счастья
лучше. К тому же шаман будет».
Токто уважал шаманов и искренне верил им всем, даже начинающим, над
которыми смеялись охотники. Он верил, что шаманами становятся только те
люди, которых отметили солнце и эндури. Пусть они вначале неловки в танце,
плохо поют, путают обряды, каждый охотник, когда начинает в детство
охотиться, тоже допускает немало ошибок, но потом приучается, накопляет
опыт. Так и с шаманами. Не сразу все дается.
Шамана он встретил приветливо, угостил водкой, накормил самым жирным
мясом, уложил спать под теплым одеялом. Утром задолго до рассвета Токто
разбудил его, сел рядом с ним.
— Хочу, шаман Тало, посоветоваться с тобой, — сказал он.
Шаман сел на постели, закурил и приготовился слушать: он привык к самым
необычным просьбам, к самым неожиданным приглашениям. В дождь, в снег он
возвращался с рыбной ловли или с охоты, только снимал с себя верхнюю одежду,
как приходили соседи, просили прийти покамлать над тяжело заболевшим
хозяином дома. Тало переодевался и шел к соседу, хотя от усталости
подкашивались ноги.
— Ты, Тало, знаешь, о чем буду просить. Ты знаешь, сколько детей у меня
умерло. Я самый несчастный человек на Харпи. Помоги мне, ничего не пожалею,
отблагодарю, только спаси сына от злых духов. Спаси, Тало!
— Я все сделаю, Токто, все. Но твой враг, сильный враг, он забирает
твоих детей.
— Спаси сына, огради его от этого злого духа.
— Сказал я, постараюсь. Душу я могу загнать в мешочек, но мешочек потом
останется у меня на целый год. Сейчас у меня дома больше десяти мешочков с
душами детей.
— И все они живы?
Шаман попыхтел трубкой, помолчал немного и нехотя ответил:
— Нет, не все.
Токто подумал и предложил:
— Чего же тогда ждать целый год? Может, ты загонишь душу в мешочек,
потом сразу — в жбан счастья? Может, так вернее?
— Не знаю, Токто, но по-нашему я должен охранять год душу ребенка.
— Вместе будем охранять. Я буду у себя держать жбан, а ты своей
шаманской силой будешь всегда рядом.
Шаман Тало колебался, ему не хотелось уступать Токто, не хотелось
нарушать обычай. Что будет, если об этом нарушении узнают другие охотники?
Тало не такой большой шаман, чтобы одним словом прекратить всякие ненужные
разговоры. Но Токто великий охотник, он победитель всех хозяев рек, ключей,
тайги, не удовлетворить его просьбу тоже нехорошо.
— Я подумаю, а ты молись сейчас, — ответил шаман.
Пока Токто разговаривал с шаманом, встали женщины, начали варить кашу,
на пару готовить пампушки. Когда все было приготовлено, они поставили на
нарах столик и на нем три миски каши и на кашу положили по одной пампушке.
Возле зажгли свечу. Токто с Кэкэчэ встали на колени перед столиком.
— Летающий старик Ходжер-ама, эндури-ама! — воскликнул Токто,
кланяясь. — Кланяюсь тебе, прошу тебя! Дай силы моему новорожденному сыну,
сделай его сильным, чтобы рос без болезней, сделай его таким счастливым,
чтобы все болезни обходили его стороной. Ты всесильный, ты всезнающий,
эндури-ама! Охрани его от злых духов, сделай, чтобы его окружили только
добрые духи! Это ты можешь сделать! Если ты выполнишь мою просьбу,
эндури-ама, я в это же время в будущем году принесу тебе в жертву полосатую
или черную душу и золотую курицу. Выполни только мою просьбу, эндури-ама, я
кланяюсь тебе, я прошу тебя!
Токто и Кэкэчэ поклонились три раза, побрызгали водкой во все четыре
стороны, Гэнгиэ взяла одну тарелку с кашей и всем подала по ложке каши.
Пота с Гидой поволокли упиравшуюся свинью в тайгу к молитвенному дубу.
За ними Идари несла курицу.
Молитвенный дуб Токто был совсем молодым деревом по сравнению с другими
окружавшими его толстыми дубами, он стоял голый и одинокий, казался
провинившимся юношей на суде старейшин.
Пота знал все обряды и подсказывал Гиде и Идари, что кому делать. Идари
разожгла костер, Гида связал свинье ноги и повалил к западу от молитвенного
дуба. Тут же бросил связанную курицу. Сам Пота вырезал три тороана —
бурханчиков с человеческими лицами, поставил их возле дуба, повесил на них
мио.
Пришла Гэнгиэ, принесла столик, кашу, пампушки. Столик Пота поставил
возле дуба перед тремя бурханчиками и связанными свиньей и курицей. На столе
три миски с кашей, на них пампушки, горела свеча, и на горлышке бутылки с
водкой играли блики.
Когда все приготовления были закончены, явились Токто с Кэкэчэ, они
встали на колени перед столиком, лицом к западу. Возле них опустились Гида с
Гэнгиэ.
Токто торжественно, почти слово в слово, повторил молитву, прочитанную
дома. Все четверо трижды поклонились.
Пота вытащил из ножен нож, проверил зачем-то острие и встал на правое
колено возле присмиревшей свиньи. Токто поднялся, бросил беглый взгляд на
восток и начал наливать водку в маленькую чарочку.
Солнце еще находилось за высокими голубыми сопками за Амуром, оно должно
было вот-вот показаться, озарить ярким светом реки, озера, тайгу, Токто с
семьей и жертвенную свинью с курицей. Токто подошел к свинье и налил ей в
ухо водку. Свинья, только что дергавшая головой, замерла, будто
прислушиваясь к чему-то.
— Эндури-ама еще просит водки, — сказал Токто, глядя на присмиревшую
жертву. Кэкэчэ подала вторую чарочку. Но на этот раз, как только попали
первые капли водки в ухо, свинья захрюкала и задергала головой. Пота глубоко
вонзил ей нож в горло, а женщины подставили тазик под горячую струю крови.
За свиньей Пота зарезал курицу и оставил ее возле первой жертвы.
В это время из-за сопок показался краешек солнца и все присутствующие
встали на колени лицом к восходящему светилу.
— Великий костер, обогревающий землю! Летающее солнце, благодаря
которому мы живем на земле! — воскликнул Токто. — Дай силы моему сыну,
вырасти его живым и здоровым! Кланяюсь тебе, великое светило, прошу тебя,
умоляю! Когда ты пробегаешь по своей дороге, посматривай на моего сына,
оберегай от злых духов, от различных болезней. Пусть растет он здоровым и
сильным. Кланяюсь тебе, умоляю тебя, великий костер!
Токто выплеснул в сторону солнца чарочку водки и поклонился трижды.
Закончив молитву, мужчины начали опаливать свинью, потом разделывали ее. Все
несъедобное из внутренностей, копыта, рыло, хвост перевязали вместе и
повесили на молитвенный дуб. Потом все опустились на колени перед дубом.
— Ходжер-ама, летающий старик! — воскликнул Токто. — Тебя мы угощаем,
убивая живность с душой. Если сын будет жив и здоров, в следующем году в это
же время тебя ждут такие же обильные угощения. Кланяюсь тебе, прошу тебя,
вырасти сына живым, здоровым и сильным. Оберегай его от злых духов.
Токто трижды поклонился молитвенному дубу. Все присутствующие молились с
жадностью, с упоением, с верой в помощь могущественных солнца и эндури.
Только Гэнгиэ растерянно поглядывала на окружавших ее людей и неумело
кланялась.
«Верят в эндури, а сами обманывают его, — думала она, шагая за
мужчинами, которые на нартах везли свиную тушу домой. — Может, и не верят
совсем? Но зачем же тогда молиться так жарко? Значит, верят. Но зачем тогда
жалеть кусок свинины? Можно же отдать эндури съедобный кусок».
Вскоре Гэнгиэ, позабыв о жертвоприношении и обо всем на свете, хлопотала
возле очага — женщины готовили угощения для гостей. Целый день они варили,
парили и жарили: угощений требовалось много. Кэкэчэ часто отходила от очага,
потому что виновник всех этих хлопот громким ревом требовал ее, не признавая
ни отца, ни Гиду, ни Поту.
Вечером, на закате солнца в дом занесли всех сэвэнов, какие только
хранились в семье Токто. Сэвэнов набралось с десятка два: здесь были
полосатые собаки, мордастые звери, напоминавшие волков, лисиц, были бурханы
с человеческим обличием. Деревянные бурханы оттаяли, покрылись мокрыми
полосами. Гэнгиэ обходила бурханов, перед каждым ставила еду, кашу, лепешку
и кусочек мяса.
В доме собирались соседи и чинно усаживались на нары. Кэкэчэ подала
шаману Тало чашку с кровью. Шаман выпил чашку до дна, губы ему вытерли
душистым саори, и Тало начал шаманский танец. Сделал один круг, Кэкэчэ
подала ему чашку с настоем багульника. После настоя шаман словно опьянел,
танец его потерял ритм, неистово гремели побрякушки на поясе, длинные
стружки на голове развевались как при сильном ветре, а саженный шлейф на
спине, с бело-черной полосой, змеей извивался за мечущейся фигурой шамана.
После пятого круга Тало начал подвывать по-звериному, размахивать прижатыми
к локтям орлиными перьями.
В неистовом танце шаман пробегал круг за кругом, потом в изнеможении
опустился у порога. Ему помогли снять шаманский наряд, под руку привели на
нары, подали трубку.
Кэкэчэ, Идари, Гэнгиэ и еще несколько женщин, каждая с отдельным блюдом,
стали обходить присутствующих, каждому совали в рот ложку с едой. Соседи
благодарили хозяев, желали здоровья и счастья новорожденному сыну.
Кэкэчэ складывала пустую посуду перед очагом, собирала пищу, поданную
бурханам, и шепотом просила добрых бурханов защитить ее сына.
— Если он будет здоров и не будет болеть, в следующем году в это же
время вы получите такое же вкусное угощение, — говорила она. — Старайтесь,
добрые сэвэнэ, охраняйте моего младенца.
Перед шаманом Гэнгиэ поставила столик, подала еду, водку. Тало отдохнул
после танца и с жадностью принялся за еду. Токто наливал ему водку.
— Душу сына схоронишь в жбане? — спросил он.
Шаман обглодал кость, пожевал сочное мясо и ответил:
— Что же с тобой делать, Токто? Отказать тебе не могу. Сегодня поздно,
я загоню душу мальчика в мешочек, а завтра в жбане схороним. Есть у тебя
жбан?
— Есть, в нем рыбий жир хранили.
— Ничего, сойдет.
Кэкэчэ подала еду мужчинам. Токто с Потой подсели к столику шамана.
Водка у Токто кончилась, ее было так мало, что хватило только на
выполнение обряда жертвоприношения, угощения шамана. Но соседи остались
довольны и без водки, они наелись мяса, каши, пампушек, фасоли. Когда
разошлись гости, шаман «загнал» душу мальчика в матерчатый мешочек, сшитый
матерью, и положил себе под подушку.
— Так будет сохраннее, — сказал он Токто. — Под подушкой я храню все
души доверенных мне детей.
— А души не перепутаешь?
— Нет, как можно перепутать? Они же в различных мешочках.
Тало сделал оскорбленное лицо, а сам думал: знают или не знают Токто с
Потой о том скандале, который произошел год назад. Один из родителей
потребовал душу ребенка, тоже захотели схоронить в жбане счастья. Тало
привез им мешок — он точно помнил, что мешочек был сшит из синей дабы и
таких мешочков было два — и начал выполнять обряд. В это время мать ребенка
взяла мешочек, повертела перед носом и закричала, что шаман перепутал души
детей, что она мешочек отметила крестиком, а этот мешочек без крестика. Тало
и так не пользовался уважением охотников, а тут совсем потерял уважение; его
выгнали из дома, заставили сходить за подлинной душой ребенка. Громкий был
скандал.
— Шаман ничего не путает, — сказал Токто.
— Нельзя нам ошибаться, от нас зависит человеческая жизнь, —
подтвердил Тало и подумал облегченно: «Не слышали».
Токто лег умиротворенный, успокоенный, он за день сделал все, что мог
сделать — принес жертву солнцу и эндури. Боги получили жертву, теперь они
будут охранять его сына: днем солнце, обходя небо, будет присматривать за
мальчикам, ночью эндури будет следить за ним, чтобы злые духи не наслали
болезнь на него, чтобы его семейный враг, Голый череп, не посмел
приблизиться к мальчику. Сколько детей Токто забрал этот Голый череп? Должен
бы насытиться, утихомириться и оставить в покое семью Токто; сколько
несчастия, горя принес он Токто. Может же он сжалиться над ним, оставить
последнего его ребенка в живых?
Рядом легла Кэкэчэ и сообщила, что поднимается пурга. Токто и без нее
давно слышал вой ветра, крупный снег, поднятый им, дробью хлестал по окну,
затянутому сомьим пузырем. Токто прислушался к этому треску, а воображение
его рисовало сына, сидящего на постели, в руке у него сомий пузырь, с
десятком дробинок внутри, мальчик смеется во весь рот и трещит погремушкой.
Ветер усиливался, беспрерывно хлестали по окну снежные заряды. Токто уснул и
во сне видел сына с погремушкой в руке, погремушка была такая большая, что
заняла полнеба, закрыла землю от солнца.
«Зачем ты закрываешь землю от солнца?» — спросил Токто.
«Чтобы солнце не видело меня», — ответил сын.
«Оно же тебя охраняет».
«Никто меня не охраняет, я сам себе живу».
«Тебя охраняет солнце от Голого черепа, убери погремушку».
Мальчик засмеялся, начал еще усерднее трясти ручонками, и сомий пузырь
загремел громом, совсем закрыл землю от солнца.
«Что за сон посетил меня ночью? — думал Токто утром. — Хороший он иди
плохой? К чему бы все это?»
Он сел на постели и закурил. Женщины уже хлопотали возле очага, они
готовили вновь угощения гостям.
— Мать Богдана, сегодня опять обряд будут выполнять? — спросила Гэнгиэ
у Идари.
— Да. Знаешь какой?
— Нет.
— Ты же не беременеешь, вот и будем...
— Ты всегда шутишь...
Токто улыбнулся и подумал, что на самом деле Гэнгиэ пора было бы
забеременеть, как бы не оказалась она бесплодной, тогда опять придется
обращаться к шаманам. Он с нежностью смотрел на невестку и залюбовался ею.
Все мужчины и женщины дома проснулись, мужчины сидели на постели и
курили, женщины хлопотали у очага, носили куски льда и загружали ими котлы,
кастрюли, носили дрова и топили очаг. Токто раздумывал, обратиться к шаману
или нет, чтобы он растолковал его сон, потом забыл, занятый сыном.
А за окном неистовствовала пурга, кружила тяжелый, затвердевший снег,
замела все тропинки, завалила двери и окна низких землянок и фанз. Ветер
жужжал и свистел в каждой расщелине жилья, наваливался всей тяжестью на
травяную крышу, пытался сорвать ее и унести. Сын Токто, разбуженный пургой,
ревел во всю глотку, будто пытался перекричать вой ветра.
— Хорошо, сын, хорошо, — улыбался Токто. — Кричи громче, кричи,
будешь победителем ветров.
Наступил день, а в доме стоял полумрак. Женщины готовили еду при свете
жирника, погасили его только перед завтраком. После завтрака шаман отдохнул,
выкурил две трубки. Появились первые соседи, знавшие про камлание.
Шаман попросил подогреть бубен. Идари подогрела бубен, подала шаману.
Тало, полузакрыв глаза, запел шаманскую песню, тихо ударял палочкой-гисиол
по бубну. Он пел вполголоса, и никто не разобрал слов, и никто не знал, что
он поет.
Кэкэчэ переодела мальчика в новый халатик и положила на чехол шаманского
бубна. Токто поставил у его ног жбан, а над ним натянул сетку, которая
должна была охранять мальчика от злых духов и не позволила бы его душе,
превратившись в птичку, вылететь на улицу. Идари тем временем рылась в
берестяных коробах, искала лоскуты материи, чтобы обвязать горло жбана.
Шаман продолжал песню, изредка ударяя в бубен, голос его крепчал, бубен
загремел во всю силу и, будто соревнуясь с ним, загрохотал по крыше шквал
ветра, ветер пересиливал шамана, и он запел тише, голос его постепенно
затихал, гром бубна удалялся и совсем затих. Тало отдал бубен подбежавшей
Гэнгиэ, она подогрела его и вернула хозяину. Шаман вновь начал песню. Пота
взял мальчишку, посадил себе на ноги, лицом к восходу солнца, засунул его
левую ножку в жбан, туда же опустил и мешочек с душой ребенка. Идари быстро
обернула ножку мальчика и горло жбана лоскутками материи; Гида опустил сеть
и окутал ею ребенка. Тэхэ смотрел на все широко открытыми глазенками, но
когда на лицо его опустилась сеть, он замахал ручонками, словно пойманная
пташка, стал биться правой свободной ногой и руками. Он ревел, пересиливая
вой ветра на улице и голос шамана, исполнявшего последние куплеты обрядовой
песни. Тало закончил песню под этот рев. Как только затихли последние удары
бубна, Пота вытащил ножку Тэхэ из жбана. Гида снял с мальчика сеть, а Идари
поспешно завязала горло жбана теми же лоскутками материи, которыми были
обвязаны ножки Тэхэ. Кэкэчэ принесла заранее заготовленную глину, и Идари
облепила ею горло жбана.
«Теперь ты надежно защищен, сын, — думал Токто, глядя, как Идари
замазывает глиной жбан. — Я буду хранить этот жбан, буду оберегать как
могу. Он будет стоять у меня в изголовье».
Токто угостил шамана остатками водки. Шаман еще день пережидал пургу и
камлал в соседних домах. Когда он уезжал, Токто ему подарил соболя и еще раз
попросил, чтобы он не забывал его сына, чтобы при каждом удобном случае при
камлании узнавал бы, как чувствует себя душа мальчика, как живет он сам, не
хворает ли, не плачет ли сильно, не боится ли чего.
— Теперь от тебя многое зависит, ты держишь душу ребенка, хотя жбан
находится у меня, — сказал Токто.
— Все будет хорошо, Токто, — ответил Тало.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Наступила весна, вскрылись реки, большие поля льда гуляли по озеру
Болонь с одного берега на другой и таяли на глазах, во время шторма
выбрасывались на берег. Токто не торопился выезжать в стойбище Болонь за
продуктами: с Амура шла рыба, поднималась по Харпи и Симину. Амурская рыба!
Здесь ее увидишь только летом, зимой ловятся одни караси. Токто с Потой и
Гидой сетями и короткими неводами ловили сигов, сазанов, толстолобов, а
женщины готовили юколу, топили жир. Весенняя путина. Ее нельзя пропускать.
В конце мая зазеленели луга и тайга. Поднялась и вошла в силу черемша.
Женщины готовили ее впрок, сушили, солили.
После весенней путины Токто с Потой выехали в Болонь за продуктами к
торговцу У. Здесь они услышали, что Большая война русских с германцами все
еще продолжается и потому плохо стало с мукой, крупой и одеждой. Торговец У
встретил, как всегда с улыбкой, но показал голые стены лавки и погоревал,
что не может ничем помочь храброму охотнику.
Токто вытащил два черных пушистых соболя.
— За такого соболя любой торговец из-под земли достанет муку, крупу и
водку, — сказал он.
У схватил соболей, повертел перед носом, подул и улыбнулся:
— Я, храбрый Токто, не сказал, что у меня ничего нет, я сказал, что
трудно все сейчас достать.
— Ты не крутись, — перебил его Токто. — Мне нужна мука, крупа, много
сахару...
— О, у тебя, наверно, маленький появился?
— Есть они в нашем доме.
— Может, красавица Гэнгиэ уже родила?
— Нет еще. Ты скажи, пушнину возьмешь? — Токто повысил голос.
Торговец взглянул на него и побледнел. Он не мог забыть, как Токто
угрожал ему ножом.
— Такую возьму, — пробормотал он.
— Если эти возьмешь, то и другие тоже возьмешь. Без других худших я
тебе не отдам этих черных соболей.
— Но у меня совсем мало муки, крупы.
— Тогда я к русским поеду, в Малмыж.
— Ты, Токто, всегда горячишься, всегда торопишься. Разве так ведут
торговые разговоры? Я еще не сказал тебе все, а ты уже собрался к русским.
Ты же не услышал еще последнего моего слова.
— Говори скорее.
— Я беру у тебя пушнину, — У немного оправился. — Беру пушнину,
взамен даю муку, крупу, порох...
— Сахар, водку.
— Нет, храбрый Токто, водки у меня нет. Русские дянгианы приходили,
забрали последнюю, они запрещают торговать.
— Больше двух лет запрещают торговать, но у тебя всегда она водилась.
Нет, так нет. Бери пушнину и давай муку, крупу, сахар.
Токто обменял пушнину на необходимые товары и все перенес в дом Лэтэ. А
Пота на оморочке Лэтэ поехал в Нярги проведать сына, брата и всех
родственников. Вернулся он на следующий день и сообщил, что Богдан решил еще
на лето остаться в Нярги, возможно, другой учитель откроет школу, и он
продолжит учебу. От Поты Токто услышал, как жена Пиапона скрыла рождение
внука от незамужней младшей дочери.
— Все в стойбище знают, а Пиапон ничего не знает, — возмущался
Пота. — Все над нам смеются. Я не мог смотреть на это, хотел раскрыть ему
глаза, да как-то неудобно было. Слишком я его уважаю. Он тоже, как и ты,
честный и храбрый человек. Единственный, наверно, справедливый человек из
всех детей Баосангаса.
— Ты думаешь, он убьет дочь, когда все узнает? — спросил Токто.
— Не знаю. Но он решительный человек.
«А что делает Пачи над дочерью? — вдруг подумал Токто. — Может,
мальчонку задушил? Может, дочь убил?»
— Я хочу посмотреть на сына Гиды, — сказал он.
Пота согласился, и они заехали в Джуен.
Худенькая в девичестве Онага пополнела, округлилась, стала женственнее,
чем была. Она с женской гордостью показала ребенка, получилось это несколько
вызывающе, будто она хотела сказать: «Смотрите, ну, смотрите. Да, он родился
без отца!»
Мальчишка понравился Токто и Поте, они разглядели в нем черты лица Гиды,
и оба обрадовались. Пачи ничем не выказывал своего недовольства, гнева, он,
по-видимому, согласился со своей участью опозоренного отца. Токто заметил,
как теплели его глаза, когда он смотрел на внука.
«Любит, не убьет», — подумал Токто и успокоился.
Семьи Токто и Поты находились в Хэлге, напротив Джуена, всего только
переплыть озеро Болонь.
Когда на следующий день они подъехали к берегу, где стояли летние
берестяные юрты-хомараны, к ним выбежал бледный, испуганный Гида.
— Отец! Отец! Гэнгиэ умирает! — воскликнул он.
Гэнгиэ бледная, вытянувшись, лежала на постели, возле нее хлопотали
Идари и Кэкэчэ. Токто растолкал их, подсел к невестке.
— Гэнгиэ, ты слышишь меня? — спросил он.
Гэнгиэ открыла глаза, посмотрела на Токто.
— Она собирала черемшу, перепутала и съела вместо черемши гу (Гу —
ядовитое растение, очень похожее на черемшу, растет с ней вместе.), —
сказала Идари.
— Чего же тогда мешкаете, — закричал Токто. — Подайте рыбий жир!
Скорее! Побольше дайте!
Он наклонился над невесткой, попытался открыть рот, но челюсти так
сильно свело, что разжать зубы было невозможно. Токто обвел взглядом
хомаран, но, не найдя нужной вещи, рывком вытащил нож из ножен и стал им
разжимать зубы Гэнгиэ. Все в хомаране замерли, стало так тихо, что слышно
было только клацание стали о зубы женщины.
— Осторожнее, нож ведь, — прошептал Гида дрожащим голосом.
Когда появилось небольшое отверстие между зубами, Токто осторожно
тоненькой струйкой влил в него рыбий жир. Гэнгиэ сделала глоток, другой. Она
глотала спасительный жир. Немного спустя ее вырвало. Токто вытер ее рот и
опять продолжал лить жир. Еще через некоторое время Гэнгиэ открыла глаза,
зашевелились, задвигались, сведенные судорогой, челюсти.
— Кажется, проходит, — шептал Токто, глядя на любимую невестку.
Гэнгиэ долго смотрела на него, и вдруг слезы струей потекли из глаз к
вискам.
— Ничего, все хорошо. Лежи, — сказал Токто громче, вытер слезы с лица
Гэнгиэ и вышел из хомарана.
К нему подошла Кэкэчэ.
— Я хочу тебе сказать, — проговорила она. — Хочу сказать... — она
замялась, опустила глаза.
— Говори, чего ты скрываешь от меня?
— Не скрываю. Гэнгиэ от подружек узнала, что наш сын имеет ребенка.
— Ну и что?
— Спрашивала у меня, правда это или нет, я сказала, что это ее не
касается, что наш сын любит ее... Она какая-то не такая... Я думаю, она
нарочно хотела умереть...
— Как это нарочно?
— Когда узнала, что наш сын имеет ребенка от другой, она съела гу. Она
хорошо отличает гу от черемши, это я знаю, сама мне прошлый раз показывала
гу.
— Зачем же умирать из-за того, что Гида имеет ребенка? — спросил
Токто.
— Ревнует.
— Так это же было до женитьбы.
— Все равно. Она хочет быть единственной...
— Родился ребенок, пусть живет. Что теперь сделаешь?
— Она, наверно, чувствует, что бесплодна, — тихо сказала Кэкэчэ, —
сколько они уже живут, а она все не беременеет. Я кормила ее утиным яйцом,
смешанным с мукой... Давала пить чай с сухой пуповиной ребенка. А она не
беременеет.
«Надо с ней поговорить», — подумал Токто, но в этот день Гэнгиэ
чувствовала себя плохо, и он не стал говорить с ней, а в последующие дни
рыбная ловля, охота увлекли его, и он забыл об этом.
Проходили дни за днями. Токто с Потой и Гидой ловили рыбу, ходили на
охоту, они, как обычно, заготовляли запасы на зиму. Приезжал в гости Богдан,
пробыл с родителями полмесяца и уехал обратно в Нярги. Приближалась осень,
утки начали сбиваться в стаи, готовиться к отлету. Рыбаки готовились к
кетовой путине. Токто чинил невод, невод был старый, латаный-перелатанный.
— В следующем году купим новый невод, — говорил он ползавшему возле
него сыну. — Новый невод у нас будет. Понял? Такой невод купим, тебе еще
достанется. Будешь кету ловить, носы их грызть.
Токто любил, когда сын находился возле него, ловил муравьев, букашек.
Мальчик колокольчиком разливался, когда по его руке ползли муравьи. Токто
смеялся вместе с ним, ловил кузнечиков, бабочек, отрывал у них крылья и
отдавал сыну. Тэхэ с серьезным видом разглядывал незнакомых насекомых, давил
их и выбрасывал.
— Охотник! — смеялся Токто.
Мальчик рос здоровым и крепким, и ничто не предвещало о несчастье. Но
однажды, ползая возле отца, он уткнулся лицом в траву и начал дергаться.
Токто схватил его, прижал к груди.
— Гида, неси... — закричал он в растерянности, но что нести, сам не
знал.
Прибежала Кэкэчэ, за ней Идари с Гэнгиэ. Взрослые столпились возле Токто
с Тэхэ, и никто не знал, что делать.
— Опять... — прошептала Кэкэчэ и заплакала. Она вспомнила сына,
который так же внезапно начал дергаться, судорогой свело ему руки и ноги, а
к вечеру он скончался.
— Гида, езжай за шаманом Тало! — сказал Токто.
Гида сел в оморочку и поехал в Джуен, где жил шаман.
— Может, он что проглотил, — предположил Пота.
— Нет, он ничего не брал в рот, я смотрел, — ответил Токто.
Мальчик побледнел, дышал отрывисто, его била судорога. Токто смотрел в
закатывавшиеся глаза сына, и его слезы закапали на новый халат мальчика.
— Сын, что с тобой?.. Хоть умел бы говорить... Что с тобой, сын? —
шептал он.
Мальчик вытянулся и замер. Токто плакал, он впервые плакал над трупом
своего ребенка.
Оморочка Гиды далеко отошла от берега, не было смысла кричать, чтобы он
возвратился. Пота соорудил из юкольных палок усыпальню. Мальчика положили на
усыпальню, как взрослого, прикрыли лицо белым коленкором.
Токто посидел перед сыном и вышел из хомарана.
Из-за облаков выглянуло солнце. Токто вышел на берег, сел на траву. Он
смотрел на озеро, на сопки на другой стороне озера, на чернеющую точку —
оморочку Гиды. Пота принес ему раскуренную трубку, сел рядом. Они курили и
молчали.
Следующий день тоже выдался солнечный, спокойный. Вернулся Гида и
сообщил, что не застал Тало, он уехал в Болонь.
Токто пошел в хомаран, вынес жбан с замурованной душой сына.
— Смотри, солнце! Смотри!
Он поднял жбан над головой и бросил о камень. Жбан с гулким звоном
разлетелся на куски, на камне остался мешочек, сшитый руками Кэкэчэ. Токто
вернулся в хомаран.
— Гида, слушай меня, — сказал он не своим голосом. — Ты женишься на
Онаге, ребенок твой. У нас нет лишних людей, мы не можем бросать своих
людей. Женишься, я тебе говорю, я твой отец. А ты, Кэкэчэ, собирай вещи.
Токто зажал труп сына под мышкой и размашисто зашагал к густым
тальникам. Он далеко отошел от хомарана, положил трупик на поваленный
толстый тальник.
— Слушай, солнце! Смотри, солнце! — закричал он, глядя на небо, на
ослепительное солнце. — Я молился тебе всю жизнь, я верил тебе и эндури. Ты
могущественный, ты всесильный, докажи теперь мне свою силу, убей меня здесь
на месте! Убей! Ну, убей! — Токто широко расставил ноги, он искал опору,
чтобы достойно принять смерть. Солнце смотрело на него и будто смеялось.
Токто закричал вновь: — Если ты эндури, если ты все можешь, убей меня на
месте! Почему не убиваешь? Не можешь? Ты ничего не можешь. Даже детей моих
не мог уберечь, даже сейчас меня не можешь убить! Я тебе больше не верю! Вот
тебе мой последний сын, и последнюю жертву я тебе приношу. На! На тебе,
солнце! На!
ЧАСТЬ 3
ГЛАВА ПЕРВАЯ
День и ночь шумел Амур широкий, с грохотом рушил забереги и играючи
перекидывал с места на место многопудовые льдины, крошил их на мелкие
осколки и нес это крошево — «сало» на своем хребте вниз к морю. Проходили
дни в шуме и грохоте, но с каждым днем все тише, все покладистей становился
Амур. Крепли забереги, скоро совсем они сомкнутся. Затихал Амур
умиротворенный.
Пиапон с зятем и с Богданом уже месяц ловил на заберегах ангалкой
сазанов и сомов. Много пудов рыбы наловил он. Пиапон каждое утро встречался
с Амуром, наблюдал, как он сражался с морозом. Слишком долго затянулась эта
борьба. Лет десять назад Пиапон бесстрастно наблюдал за этой борьбой: ему
было совершенно безразлично, когда встанет Амур, потому что он никуда не
спешил. Он и сейчас никуда не спешил, но нынче он очень хотел, чтобы быстрее
застыл могучий Амур.
«Безлюдный Амур, что тайга без зверей, — думал он. — Амур без людей,
что мертвец в гробу. Он оживает только тогда, когда обозы потянутся по нему,
когда колокольчики ямщиков зазвенят среди торосов».
Если бы кто спросил его, почему он так думает, то Пиапон, пожалуй, не
смог бы ответить. Наверно, сказал бы, что просто хочет видеть людей, хочет
услышать новости. Теперь времена настали другие. И новости не те, что
приходили лет десять назад из соседнего стойбища. Умер такой-то старик,
родился сын у такого-то охотника, шаман спас такого-то охотника, случилась
ссора между двумя такими-то большими домами, вымерло стойбище на такой-то
реке, молодой охотник увел такую-то... Теперь такие новости волнуют только
родственников, друзей, не захватывают как раньше все стойбище, не становятся
предметом обсуждения всех взрослых жителей стойбища.
Теперь люда ждут известий от таких отдаленных мест, о которых раньше и
слышать не слышали, и во сне не видели; ждут новостей из больших городов с
низовья и с верховья Амура — Николаевска и Хабаровска.
Летом хорошо, что ни день приезжали люди в стойбище или няргинцы сами
ездили в Малмыж и привозили ворох новостей, летом пароходы ходили, развозили
людей, а с ними и всякие слухи.
Шумит Амур, не хочет сдаваться могучий Амур. Всему свое время. А жаль.
Больше месяца грохочет он и не пропускает в стойбище ни одного человека. А
кто же привезет известия? Сорока на хвосте? Она может только сплетни
переносить из одного стойбища до другого...
Разносят же русские эти новости с низовьев Амура до верховьев, а оттуда,
говорят, на запад, туда, где солнце запаздывает чуть ли не на целый день.
Пиапон слышал об этих местах, там жил и теперь, наверно, живет его друг
Павел Глотов, которого прозвали нанай Кунгасом. Убежал Кунгас два года
назад в этот же месяц, как только Амур был побежден морозами. Что он теперь
делает? Боролся против царя, а царя уже нет почти год. С кем он теперь
борется? Пиапон помнит тот теплый мартовский день, когда зазвенели возле его
дома колокольчики ямщицких лошадей. Когда он вышел на улицу, Митрофан,
привязав лошадей, направлялся к крыльцу. Полы его длинного тулупа мели снег.
— Думал не застану тебя, — сказал Митрофан после приветствия. — Ты
что же, совсем ушел с лесозаготовок?
— Зачем совсем? — усмехнулся Пиапон. — Приехал отдохнуть, рыбу
половить для лесозаготовителей.
Пиапон с самой осени работал на лесозаготовках на озере Шарго, где
Санька Салов поставил лесопильную машину. Санька, которого теперь все
величали Александр Терентьич, год назад уехал жить в Николаевск, а на
лесопильном заводе оставил управляющего. Александр Терентьич Салов стал
одним из крупных рыбопромышленников Нижнего Амура, во время кетовой путины
на его двух семиверстных заездках, на рыборазделочных плотах, в засольных
цехах работали тысячи людей. Лесопильный завод по сравнению с этими
заездками ничего не стоил неожиданно разбогатевшему Салону, и он переехал в
город, ближе к заездкам, к рыбозаводам.
Вместе с Пиапоном на лесозаготовках трудились няргинцы, которые
отказались от зимней охоты. Полокто с артелью продолжал работать. Ближе к
весне лесозаготовители стали испытывать затруднения с продовольствием, в
ларьке исчезли мясо, мука и крупа. Недовольные рабочие требовали
продовольствия. Тогда управляющий решил организовать свою рыболовецкую
артель, она должна была снабжать лесозаготовителей свежей рыбой. Услышав об
этом, няргинцы сами ушли с лесозаготовок, занялись рыбной ловлей. Пиапон был
среди них.
— Рыбу буду продавать лесозаготовителям, сделаюсь торговцем, — смеялся
Пиапон, помогая Митрофану сиять тяжелый тулуп.
Митрофан разделся, подсел к столу, огляделся. Аккуратно постеленные
кровати, сделанные его и Глотова руками, стояли в глубине дома. Табуреты,
стол, пышущая жаром русская печь — все это сделано его руками. Он с
удовольствием оглядел дом и про себя отметил — чище стали жить. По середине
пола ковылял на кривых ногах двухлетний мальчик и хозяйственно собирал с
пола мусор и отправлял в рот.
— Брось! Тьфу! Тьфу! — кричала на него Хэсиктэкэ.
— Вырос, охотник, — улыбнулся Митрофан. — Но зачем же все в рот
отправлять?
Он погрозил мальчику пальцем, вытащил кисет и неторопливо стал набивать
трубку. Пиапон видел, что Митрофан чем-то озабочен.
— Не знаю, Пиапон, хорошая это новость или нет, — начал он говорить,
раскурив трубку. — Наши ссыльные, те, которые все время твердили: «Убить
нужно супостата! Стрелять!» Они рады. Но отец, когда услышал эту весть,
сильно разволновался. Слег. Болеет старик. Не один он разволновался, многие
волнуются.
— Что случилось, говори яснее! — потребовал Пиапон.
— Царя не стало.
— Умер?
— Нет, ушел, отказался от власти.
— Сам отказался? — удивился Пиапон.
— Дождешься, чтобы сам отказался. Заставили.
Пиапон помнил рассказ Павла — Кунгаса о злодеяниях царя и никак не мог
понять, почему разволновался старик Колычев при известии о его свержении. Об
этом он и спросил Митрофана.
— Как не понимаешь? — ответил Митрофан. — Он всю жизнь верил царю. Ты
же знаешь, нам всем говорили: бог на небе, царь на земле. И вдруг без царя
остались...
— Ты тоже волнуешься, что ли?
— Я? — Митрофан задумался и ответил: — Отец заболел — это волнует. А
царь? Что царь? Умные люди говорили, не будет царя — жизнь станет лучше,
всяких дармоедов-нахлебников не станет. Глотов Павел да его друзья говорили,
свергнем царя — война закончится. Мне что царь? Я о сыне думаю, об Иване.
Кончится война — сын вернется домой. Где-то там с германцами воюет.
Вот с того теплого мартовского дня все и началось, что ни день —
новости? Одна интересней другой. В Хабаровске, в Николаевске, на Сахалине,
во Владивостоке (города-то какие, не выговоришь даже) менялись власти, народ
волновался. А война все не кончалась, говорили, что новые люди у власти не
хотят кончать войну, они хотят воевать до победы. Теперь говорили, чтобы
закончить войну, надо изгнать тех людей у новой власти и захватить власть
рабочим и крестьянам.
Пиапон часто выезжал в Малмыж, слушал эти известия, и голова его пухла
от всяких мыслей. А тут еще Митрофан с Надеждой совсем перестали получать
письма от сына, и Надежда сохла с горя.
— Вот вам и жизнь без царя, — твердил старый Колычев, — Все пошло
прахом без самодержца нашего. Это что, еще натерпитесь, помяните мое слово.
Бог на небе не потерпит...
Пиапон совсем растерялся, он ничего не мог понять, что происходит
вокруг, и никто толком не мог ему объяснить. Пиапон нутром чувствовал, что
на земле поднялась невиданная пурга, она крутила снежные вихри, и снежная
крошка слепила людям глаза, вой пурги сводил людей с ума. Нет, не совсем
так, не снежные вихри крутила пурга, крутила она человеческие жизни,
человеческие судьбы. Все, что слышал Пиапон, было не понятно, не ясно. Даже
то, что происходило в семье Колычевых, было не ясно. Старик Колычев стоял за
царя горой и молился за него, сын его Митрофан против царя, а сын
Митрофана — Иван воюет с германцами. Знает ли он за что воюет? Может,
знает: он среди грамотных людей находится. Вот и разберись, в семье трое
мужчин, и все по разному пути идут.
Пиапон смотрит на медленно движущиеся льды по середине Амура и думает,
что как бы ни был могуч Амур, все же он вынужден будет сдаться морозам,
какая бы пурга не поднялась на земле, она прекратится когда-нибудь и
наступят ясные, солнечные дни. Может, сейчас уже установилось спокойствие на
земле, закончилась война, наладилась жизнь, сын Митрофана возвратился домой.
Все может быть. Но пока Амур не встанет, Пиапон так и будет находиться в
неведении.
Томился неизвестностью и Богдан. Он уже несколько раз порывался сходить
на лыжах в Малмыж, но каждый раз его удерживал Пиапон: лед на протоке был
тонок и было опасно пробираться по нему.
Богдан за год окреп, возмужал, восемнадцатилетний юноша не уступал в
силе некоторым зрелым мужчинам. Молодые женщины подшучивали над ним,
прикидывались влюбленными, обещали изменить мужьям и вводили стеснительного
юношу в краску. Известие о свержении царя Богдан воспринял так же
равнодушно, как и все няргинцы.
«Был царь, не стало его, кто-то будет вместо него», — подумал Богдан и
позабыл бы он об этом событии, если бы не последующие сообщения с верховьев
и с низовьев Амура. Эти сообщения взволновали молодого охотника и заставили
призадуматься. «Почему был изгнан царь?» — впервые спросил он. Но кто мог
ему объяснить, почему был изгнан царь? Пиапон пересказал слова Павла
Глотова, но юношу это не удовлетворяло. Митрофан, которого раньше Богдан
считал всезнающим, тоже не мог ничего объяснить.
— Дед, провели бы русские в наше стойбище железные нити, и мы могли бы,
сидя в стойбище, слушать все новости, — говорил Богдан, глядя на грохочущий
Амур.
— Да, это было бы хорошо, — поддержал его Пиапон. — Только кого
найдешь понимающего в этих...
— Аппаратах, — щегольнул юноша своим знанием.
— Может, ты уже все понимаешь, ведь ты часто встречаешься с хозяином
железных ниток.
— Нет, там все сложно. Русский тот говорит, надо долго учиться, чтобы
передавать и принимать разговоры.
— Вот и учись.
«Так же говорил большой дед», — подумал Богдан и вспомнил рассказ
Баосы, как он принял телеграфную линию за ловушку на пролетающую дичь...
Однажды утром, когда рыбаки пришли на лов рыбы, их встретила тишина.
Амур застыл. Присмирела могучая река. Ночью выпал небольшой снег, припорошил
лед, прибрежные тальники. Куда ни взгляни — кругом первозданная белизна. И
тишина. Белая тишина на Амуре. Надоедливые вороны исчезли куда-то,
сороки-трещотки замолкли в густых тальниках. Все замерло вокруг, казалось,
что все живое скорбит над Амуром.
— Тишина, хорошо, — сказал зять Пиапона.
— Дед, — обратился Богдан к Пиапону, — дня через два, три можно в
Малмыж?
— Можно, — согласился Пиапон.
Но ни через три, ни через пять дней Богдан с Пиапоном не смогли съездить
в Малмыж: после ледостава рыба стала ловиться, да все крупная, жирная.
На десятый день после ледостава на Амуре, когда они вернулись вечером
домой с богатым уловом, их поджидал Митрофан.
— Первую почту гоню, — сообщил он и, не выдержав, воскликнул: —
Пиапон! Власть взяли большевики. Ленин главенствует! Понял? Выходит, что это
наша власть, она сразу заявила, что земля — землепашцам, а фабрики и
заводы — рабочим. Вот как! А еще Ленин заявил — конец войне! Слышишь,
конец войне, выходит наш Иван скоро возвернется домой. Надя радуется и опять
плачет. Но это ничего, пусть плачет, от радости не засохнет.
— Хорошие новости принес, Митропан, — сказал Пиапон. — Очень хорошие,
мы ждали их. Богдан давно собирался сходить на лыжах, да я не пускал — лед
слишком тонок был. А потом рыба пошла, хорошо пошла.
Пиапон вспомнил слова Павла Глотова, когда он, упомянув имя Ленина,
добавил: «Запомни, Пиапон, это имя, оно тебе не раз встретится в жизни».
Прошло всего два года, и Пиапон второй раз услышал это имя. Но Пиапон многое
забыл из того, что рассказывал Глотов, перепутались понятия, казалось бы,
усвоенные накрепко. Большевики, меньшевики, Ленин... Пиапон не мог распутать
этот клубок и махнул рукой: он знал главное — большевики и Ленин боролись с
царем, чтобы уничтожить его, уничтожить хозяев фабрик, хозяев земель. Теперь
они у власти, теперь вся жизнь изменится... Но как она изменится — это тоже
было не ясно.
— Кто такой Ленин? — спросил Богдан.
— Он главный большевик, он боролся с царем, чтобы рабочим и крестьянам
лучше жилось, — ответил Митрофан.
— Это я понял, ты расскажи, кто он такой, как боролся.
— Откуда я все это могу знать, я про тебя-то не все знаю.
Богдан опять был разочарован в Митрофане. Как же так? Митрофан русский,
живет в русском селе, где летом пристают пароходы, а зимой ямщики меняются
на этом полустанке, у них хозяин железных ниток и как же он не знает о
человеке, который боролся за народное счастье. Все это было непостижимо. И
расстроенный Богдан сказал:
— Ты же русский.
— Ну и что? — не понял Митрофан.
— Ты должен все знать.
Митрофан пристально поглядел на расстроенное лицо Богдана и понял, что
тот глубоко обижен.
Известие, привезенное Митрофаном, было важное и интересное, потому
Пиапон послал младшую дочь Миру за соседями. Пришли жители большого дома:
Улуска, Дяпа, Калпе, Хорхой, они еще днем приехали с лесозаготовки навестить
жен и детей. За ними пришел Полокто с сыновьями Ойтой и Гарой. Приплелся
Холгитон. Гости расселись кто где мог, табуреток всем не хватало. Митрофан
вновь повторил свой рассказ и закончил так:
— Пришла наша власть, простых людей, рабочих и крестьян. У помещиков
отбираем земли, у хозяев отбираем заводы и фабрики. Народ становится
хозяином. Всех богачей уничтожим!
Некоторые из сидящих не понимали того, что говорил Митрофан, хотя он
говорил по-нанайски. Но никто не стал переспрашивать.
— Как это понять — уничтожить? — спросил только Холгитон. — Убить?
— Не знаю, — ответил после раздумья Митрофан. — Всех, наверно, не
будут убивать.
— А Американа надо убить! — неожиданно жестко проговорил Холгитон.
— Санька Салов тоже богач, — сказал Калпе.
— И Ворошилин.
— И торговец У.
Еще некоторое время продолжался подсчет местных богачей, и все это время
Полокто не проронил ни слова. Он сидел с застывшим лицом, и казалось, что он
безразличен ко всему на свете, а более всего к проходившему горячему
разговору. Разговор этот продолжался за ужином, и гости разошлись только
тогда, когда недовольная Дярикта при них начала стелить постели.
Утром Митрофан повез почту дальше, колокольчики на дугах его лошадок
зазвенели над Амуром. Через день-два Амур ожил, потянулись почтовые кошевки
с колокольчиками, длинные скучные обозы, упряжки нарт. Богдан в эти дни
повез в Малмыж к Колычевым нарту отборных сазанов и сомов. Там он зашел в
лавку Саньки Салова, где теперь хозяйничал приказчик, где встретился с
вернувшимся из Николаевска управляющим Шаргинского лесозавода.
— Черт те знает, что происходит в городе, — рассказывал управляющий,
тучный малоподвижный мужчина с толстой шеей и расплывшимся лицом. Он мельком
взглянул на Богдана и хотел продолжить рассказ, но приказчик подал ему знак.
Управляющий остановился на полуслове и спросил:
— Он знает язык?
— Оно знакомец хозяина-с, — определил Богдана приказчик. — Хозяин
благосклонно относится к ним.
— А, — промычал управляющий. — Так вот, волнения везде, в городе, в
порту, на рыбопромыслах. Хозяин имеет две огромные заездки, как он их
приобрел — этого никто не знает. Даже я не знаю.
— Хозяин-с умен, — сказал приказчик.
— Раньше эти заездки принадлежали другому лицу, говорят, то лицо теперь
нищенствует. Правда то или нет — не знаю. Вот на этих заездках
заволновались рыбаки. Подстрекали их большевики. Везде расплодились эти
большевики, где только их нет! Подстрекают они и рыбаков Амгуни, и те
потребовали — снять заездки. Видишь ли, к ним в Амгунь меньше стала
проходить кета и горбуша. За ними рабочие засольных цехов потребовали
повышения заработной платы. Черт те знает, что такое? Потом потребовали,
чтобы хозяин повысил заготовительные цены. А тем временем рыбаки захватили
обе заездки хозяина. Что было! Черт те знает. Но хозяин везде имеет друзей.
Он к одному, к другому, и смотрим, сам уездный комиссар Временного
правительства Колмаков, начальник милиции поручик Кудрявцев садятся на
катер, с ними солдаты с винтовками, даже с пулеметом, чувствуешь, с
пулеметом сели. Черт те знает. С голыми руками что сделаешь против пулемета?
Конечно, рыбаки подчинились. Порядок водворился, и лов продолжался. Вот что
было на Амурском лимане осенью. Хозяин, когда рассказывал это, потирал руки,
видно не понес убытка. Но теперь я не знаю, что там будет, теперь и там
Советская власть установилась. Колмакова спихнули, поручика Кудрявцева —
тоже. Хозяин с виду спокоен, но заметно волнуется. Велел тебе дела вести
точно, не обижать охотников, склады беречь. Надо ожидать, всякое может
случиться.
Рыбаки борются! Никогда Богдан об этом не подумал бы, ему казалось, что
борются только крестьяне за землю, рабочие в городах за власть, но чтобы
рыбаки боролись... Оказывается, они боролись за справедливость! И правильно
делали, будь Богдан на их месте, тоже не сидел бы сложа руки. Ишь чего
придумали, Амур загораживать, кету не пускать на нерестилища. Как же так
можно! Если не будет кета нереститься, то скоро ее совсем не станет. И
сейчас с каждым годом все меньше и меньше ловится она. Оказывается, заездки
в этом виноваты. Виноват и Санька Салов, хозяин двух длинных заездок.
— Большевики взбудоражили народ, Ленин какой-то у них возглавляет, —
продолжал управляющий. — Ты знаешь, первый декрет его о мире с Германией.
Черт те знает. Чувствуешь, о мире. Русский народ заключает мир с немцами!
Черт те знает, что это такое. Это позор! Только предатель русского народа
может пойти на это. Да, да, все умные, мыслящие люди говорят, что Ленин не
что другое — это немецкий шпион. Говорят, он по-русски умеет говорить.
Ленин — немецкий шпион! Эта новость поразила Богдана. Всю дорогу в
стойбище юноша думал над этим. Ленин никакой не борец за счастье народа, он
шпион, потому он заключает мир с немцами. Но всем же надоела эта война,
говорят, из-за нее настала тяжелая жизнь, мало стало муки, крупы, сахару. А
сын Митрофана, Иван?
ГЛАВА ВТОРАЯ
В фанзе было темно, через неплотно прикрытую заслонку очага краснели
остывающие угли. Холгитон раздул угля, зажег щепку и от нее — жирник.
Заколыхало жиденькое пламя жирника, тени побежали по черным стенам фанзы.
Холгитон подошел к спавшему возле дверей Годо и сказал:
— Годо, простые люди, как я и ты, у власти встали, богатых людей,
хозяев, будут уничтожать.
— Правильно! — воскликнул Годо. — Когда начнем?
— Не меня ли хочешь уничтожить?
— Зачем?
— Я все же твой хозяин.
Годо засмеялся и сквозь смех проговорил:
— Какой ты хозяин, только людям говоришь... В этом доме нас двое
хозяев.
«Обнаглел совсем, — с обидой подумал Холгитон. — Если спишь с моей
женой, то ты еще не хозяин, вот детишек понаделал — это другое дело. Но
хозяин я, потому что я тебя нанял в работники».
Холгитон, шаркая ногами, поплелся на свои нары, не спеша разделся,
потушил жирник и залез под теплое одеяло.
Супчуки сонно заворочалась, отодвинулась. Холгитон лег на спину и закрыл
глаза.
Богатых будут уничтожать, правильно делают, их всех давно пора
уничтожить, от них все несчастья на земле. Хорошо, что отец Холгитона и он
сам не разбогатели, а то сейчас подверглись бы уничтожению, и все их
богатство развеяло бы ветром. Хорошо! А как они хотели разбогатеть! Отец,
избранный халада, важничал, иногда совершенно не к месту показывал свою
власть, любил хвастаться своим богатством, которого не было, потому что пост
халады ему ничего не приносил, и он охотился и рыбачил наравне со всеми.
Отец мечтал привезти из Маньчжурии жену, но у него на это всегда не хватало
соболей. Сам Холгитон, избранный старостой Нярги, тоже любил прихвастнуть
своей властью, которой не имел. Встречая приезжих, он всегда прикреплял на
груди знак старосты, медную бляху: он тоже мечтал стать богатым, но тоже не
стал богатым и тогда, чтобы показать, что живет в достатке, приобрел себе
работника Годо. Кого обманывал Холгитон? Может, все это заставляло делать
тщеславие? Скорее всего, так, к концу жизни в этом можно признаться. Если бы
Холгитон был плут, обманщик, негодяй, то он, пожалуй, на самом деле стал бы
богатым. Стал ведь признанным богачом на Амуре Американ. Почему бы Холгитон
не мог им стать? Только требовалось быть наглым, потерять совесть,
человеческое достоинство... Нет. Разрубите Холгитона на куски, но он не
пойдет на обман! Он прожил хорошую жизнь, честную жизнь! Если чем немного
погрешил, то это не в ущерб другим. А вот Американ... Этот Американ,
опозоривший весь нанайский народ... Он первый должен быть уничтожен.
Так думал старый Холгитон и с этими думами уснул. На следующий день по
возвращении Пиапона с рыбалки пошел к нему. Младшая дочь Пиапона Мира
нарезала ему талу из жирного сазана. После талы он попил горячего чайку и
закурил трубку.
— Я всю ночь думал об Американе, — сказал он сидевшему рядом
Пиапону. — Вспоминаю я, как хунхузы напали на нас, когда мы возвращались из
Сан-Сина. Почему тогда хунхузы не забрали муку, крупу и всякие другие вещи?
Поверь мне, Пиапон, стариковская моя голова думает, что Американа узнали его
друзья хунхузы и потому ушли. Понял? Я уверен, так было.
— Но сколько лет прошло с тех пор и мы ничего не узнали, — возразил
Пиапон.
— Верно, верно, не узнали. Ты рассказывал, как нанайский торговец
избивает и убивает орочей, наших братьев, людей одной крови. Кто это мог
делать? Никто не мог делать, кроме Американа. Поверь мне, старику, это мог
делать только Американ. Это он, не спорь со мной, это он. Американ на фасоль
менял соболей.
— Это тоже не известно, никто не видел, как торгует Американ, — опять
возразил Пиапон. — Я же спрашивал его напарника Гайчи, он говорит, что
никогда не ходили к орочам.
— Умный ты человек, а такой доверчивый. Это плохо. Гайчи тебе никогда
ничего не скажет, они с Американом делают одно нехорошее, грязное дело,
потому он никогда ничего не скажет. Понял? Когда начнется уничтожение
богатых, его надо первым уничтожить.
— Никто еще никого не уничтожает...
— Митропан что говорил?
— Митропан говорил, но мы его не так поняли. Подумай сам, мы с тобой,
Богдан, с моим зятем вышли из дому и идем, присматриваемся по сторонам. Аха,
идет человек, видать, богатый человек, я стреляю, и он уничтожен. Идем
дальше, встречаем другого, смотрим, тоже, кажется, богатый. Ты стреляешь, и
он убит. Так же будут убивать и Богдан с моим зятем, так же будут убивать и
другие. Так, что ли, ты думаешь богатых уничтожить?
— Зачем так? Зачем встречного убивать? Я знаю — Американ богач, я его
убью.
— Кровожадным ты стал к старости. Нет, богатых будет уничтожать власть.
У нас есть наши родовые судьи, а у них, у власти, есть судьи еще грознее,
умнее. Я думаю, не всех надо богатых убивать, отбирать у них богатство, и
все.
— Ты умнее меня, и голова у тебя молодая, ты больше знаешь, тебе
виднее, — обиделся Холгитон. — Умный ты и голова молода, но ты тоже... —
Холгитон запнулся, но, взглянув на Пиапона, жестко добавил: — Потому стал
посмешищем на весь Амур.
Холгитон заковылял к двери и, не прощаясь, вышел.
«Совсем состарился Холгитон, — подумал Пиапон. — Нападал на Американа
и вдруг меня стал ругать. Почему говорят, что я стал посмешищем?»
Пиапон не заметил, как при последних словах Холгитона побледнела Мира,
как отвернулась Дярикта с Хэсиктэкэ. Женщины засуетились возле печи.
Пиапон курил и думал. Он и раньше слышал от добрых друзей, что некоторые
злые люди насмехаются над ним. Но над чем насмехаются, почему Пиапон стал
вдруг посмешищем на весь Амур — никто не осмеливался сказать ему в глаза.
Пиапон много думал над этим. Жена совсем постарела, навряд ли она способна
закрутить кому-нибудь мозги, она и в молодости не привлекала особенно других
мужчин. Дочери, как все молодые женщины, любят одеваться наряднее, хотят
понравиться молодым охотникам — в этом тоже нет ничего предосудительного:
все молодые женщины хотят быть красивыми. Зять? Зять — молчальник, хороший
семьянин, бредит охотой и рыбалкой. Он сам? Что же он сделал такого?
Кажется, тоже не совершил никакого смешного проступка...
«Что не придумают люди, когда захотят над чем-нибудь посмеяться», —
подумал Пиапон.
К нему подполз младший внук и встал за его спиной. Мальчика звали
Иванам.
— Что, Иван, играть будем? — Пиапон посадил внука на колени, поцеловал
в щеки. — Во что играть будем? Давай погребем.
Пиапон посадил перед собой Ивана, взял за руки, и они начали грести, то
Пиапон потянет внука на себя, то внук деда.
— Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо.
Мальчишка смеялся довольный, будто его щекотали.
Женщины начали стелить постели, мальчишку Хэсиктэкэ уложила в люльку.
Взрослые тоже легли, потушили свет. Пиапон лежал с открытыми глазами и думал
о Холгитоне. Старик совсем возненавидел Американа, он целое лето ездил по
Амуру из одного стойбища до другого, встречался с другими охотниками, с
которыми он ездил в Сан-Син на халико Американа. Друг его из Хунгари умер, а
те охотники, с которыми он встречался, весьма неохотно говорили об
Американе. Было видно, что они побаиваются разбогатевшего сородича. А
мэнгэнские жители все находились у него в долгу, поэтому и говорили о богаче
только лестное.
— Откуда такое богатство у Американа? — допрашивал Холгитон охотников,
и каждый повторял рассказ о том, как Америкой нашел су богатства и как этот
су удваивает его состояние. Холгитон узнал, что Американ женился на ульчанке
в низовьях Амура, построил там второй большой дом, что не живое он летом и в
том доме со второй женой, разъезжает на русских железных лодках по Амуру,
часто бывает в Николаевске, в Хабаровске, где у него куча друзей-торговцев.
Когда он возвращается в Мэнгэн, привозит много водки, хотя эту водку в
нынешние тяжелые времена не достать ни в городе, ни у торговцев. Где он ее
достает — никто не знал. Никто не знал, что он делает в городах, хотя
находился там по месяцам. Не знал об этом и его друг, напарник на охоте
Гайчи. Гайчи теперь бывал с ним только на охоте, а в летнее время Американ
его не брал с собой, ездил один. Холгитон пытался узнать у Гайчи, где они
охотятся зимой, но напарник Американа не назвал места охоты, ответил, что
охотятся там, где больше соболя. Холгитон еще спросил, каким способом они
добывают много соболей, хотя в тайге бывают всего два, два с половиной
месяца. На это Гайчи только усмехнулся и ответил: «Умеем».
Старый Холгитон не завидовал богатству Американа — это все знали. Он не
мог простить гибель двух молодых охотников при возвращении из Маньчжурии, он
был уверен, что кровь молодых людей пятном лежит на Американе. А Американ
после поездки в Сан-Син стал богатеть на глазах, перед многими охотниками по
пьянке хвастался, показывал сундучок, наполненный золотыми, серебряными
монетами.
Холгитон, посмеиваясь, спрашивал у охотников, почему Американ на ночь не
кладет сундучок под подушкой, наутро у него появился бы второй такой
сундучок, а на второе утро, если он положит оба сундучка, то найдет сразу
четыре. Но охотники не поддерживали этот разговор старика.
Дотошный старик встречался и с русскими торговцами, расспрашивал их, не
встречают ли они Американа в ороченских стойбищах, но торговцы только
посмеивались и отвечали, что в тайге даже медведи становятся поперек дороги.
Так Холгитон понял, что торговцы — будь они русские, китайцы, маньчжуры,
нанай — все состряпаны из одного теста. Поняв это, старый хитрец пошел на
обман. Однажды при встрече с вознесенским торговцем Берсеневым он, как бы
невзначай, спросил, знает ли торговец, кто в него стрелял. Берсенев
вздрогнул и спросил, откуда Холгитон знает, что в него стреляли, потом
спохватился, деланно засмеялся и сказал, что никто никогда в него не
стрелял. Но Холгитон уже знал — русский торговец, в кого стреляли, был
Берсенев.
И у охотников, ездивших с ним в Маньчжурию, старик выудил признания,
один поклялся, что своими ушами слышал, как Американ кричал по-китайски на
хунхузов, что хунхузы тоже ему отвечали, потом тихо собрались и уехали. А
другой охотник даже обиделся и сказал: «Ты думаешь, тогда мои уши от испуга
оглохли, как у тебя? Может, думаешь, что я тогда позабыл родной язык? Своими
вот этими ушами слышал, как разговаривали хунхузы по-нанайски, когда вязали
меня». После этого Холгитон уже не сомневался, что Американ был связав с
хунхузами, которые напали на их халико.
— Американ знал тех хунхузов, у него и богатство пошло от них, —
твердил он всем.
Охотники качали головой — совсем старик спятил с ума. Пиапон тоже
сперва не склонен был верить старику, но однажды он вдруг вспомнил разговор
двух русских офицеров, один из них уверял другого, что старик со старухой, у
которых ночевали охотники, были связаны с хунхузами.
После поездки Пиапона в Маньчжурию прошло восемь осеней, и только в
последнюю осень, четыре месяца назад, он впервые поговорил с Американом.
На исходе был сентябрь. Тайга на сопках разукрасилась в пышные цвета,
вода на Амуре уже студила по утрам руку, пожухлая трава покрывалась пушистым
инеем. По Амуру поднималась последняя кета, почерневшая, усталая. Артель,
сколоченная Пиапоном, ловила эту кету для Александра Салова.
Однажды поздно вечером, сделав последний замет, рыбаки задержались на
берегу, зашивая дыры в стареньком неводе. Пиапон сидел на корме лодки и
закреплял поплавки невода. Услышав всплеск воды, он поднял голову и увидел
большой, тяжело нагруженный неводник с четырьмя гребцами и пятым кормчим на
корме. Лодка бесшумно, тенью проскользнула мимо него.
— Эй! Вы не воры? — озорно закричал Пиапон. — Чего не пристаете к
нам? Думаете, мы попросим вашей кеты? У нас у самих хватает.
— Мы спешим домой, — ответили из неводника.
— Чего же плывете так тихо? Когда спешат, то гребут так, что на другом
берегу Амура услышат.
— Это ты, Пиапон? — спросил кто-то из темноты.
Пиапон узнал Американа.
— Если узнал, чего же не пристаешь?
Неводник пристал ниже рыбаков. Пиапон вышел из лодки и пошел к
Американу. Четверо гребцов втащили нос лодки на песок. Пиапон ухватился за
кочеток и стал помогать. На глаза сразу бросились берданки, лежавшие на
сиденьях возле каждого гребца.
— Чего вы с берданками ездите по Амуру? — спросил он.
Американ вышел с кормы на нос лодки, осторожно переступая по накрытому
брезентом грузу.
— Везде опасно ездить без оружия, — ответил он. — Будто и не знаешь,
в какое время живем.
Американ спрыгнул на мокрый песок, обнял Пиапона.
— Пиапон, друг мой! — воскликнул Американ. — Ну, как живешь, как
семья? Слышал я о гибели твоего отца. Жаль старика.
— Ничего не сделаешь, жизнь это, а в жизни чего не случается.
Пиапон догадывался, откуда везет груз Американ и что везет, но спросил:
— Кету-то зачем укрываешь?
Американ замялся, взглянул на подходивших к лодке рыбаков и ответил:
— Это не кета, Пиапон, кое-что везу для тебя и для этих гребцов.
«Появились важные дела, — подумал Пиапон. — Что же во время хода кеты
может быть важнее ее добычи?»
— Кету дети ловят, женщины юколу готовят, — продолжал Американ. — Но
ты не ответил, как живешь?
— Так же, Американ, в моей жизни ничего не изменилось. Правда, одно
время без косы ходил, но теперь, видишь, и коса отросла. А ты теперь не
рыбачишь, не охотишься?
— Почему? И рыбачу и охочусь, когда время есть.
— Говорят, много добываешь.
— Найдешь, друг мой, такой же су, какой я нашел, все тебе легко будет
даваться.
— На соболей тоже...
— А как же? Соболи — это те же деньги.
Окружавшие разговаривающих рыбаки с уважением смотрели на Американа, они
все знали о его су богатства, о его сундучках с золотыми и серебряными
монетами. И некоторые из них думали, что действительно, зачем богатому
Американу ловить кету, бегать за соболями в тайге, когда он может жить, как
русские и китайские торговцы; стоит ему только захотеть — и рыба, и пушнина
будут у него.
«Привык к богатству и к власти», — думал Пиапон, слушая бывшего
приятеля.
— Что же ты, Пиапон, не пригласишь в хомаран, — засмеялся Американ. —
Сам звал, приставай да приставай, а в гости не зовешь.
Пиапон пошел рядом с Американом в свой хомаран. В тесной маленькой
берестяной юрте не могли поместиться все приезжие, потому другие рыбаки
позвали остальных в свои хомараны. Дярикта с Мирой поставили перед мужчинами
столик.
— Давно не виделись с тобой, Пиапон, — сказал Американ, — нельзя нам
так встречаться, надо выпить.
— Мы водку все лето не видим, забыли даже, как пахнет, — засмеялся
Пиапон.
— Водку всегда найдем. Эй, Гайчи! — закричал Американ.
В проеме юрты показался Гайчи.
— Принеси мне бутылку.
Гайчи исчез и через некоторое время принес бутылку ханшина.
— Чего ты принес? — возмутился Американ. — Русскую водку неси. Эту
отдай гребцам. Принеси им еще одну такую, пусть угощают рыбаков, а то люди
запах водки забыли. Когда тебе понадобится водка, — сказал Американ,
понизив голос, — приезжай ко мне.
Пиапон вспомнил о разговоре с братьями, о решении провести летом касан и
отправить душу отца в буни.
— Летом нам много водки потребуется, — сказал он.
— Лодку, две? — усмехнулся Американ.
— Касан устраиваем.
— Найдем. Весной напомнишь.
Гайчи принес русскую водку. Американ разлил ее по кружкам, налил и
Дярикте с Мирой.
— Красивая у тебя дочь, чего замуж не отдаешь? — сказал он, оглядев
Миру.
— Когда захочет, сама найдет мужа, — ответил Пиапон.
— Плохо. Это плохо, — сказал Американ, нажимая на слово «плохо».
Дярикта бросила на него злой взгляд, Мира опустила голову. Мужчины выпили.
— Нет хо, нет чашечек, пьем по-русскому, — сказал Пиапон.
— Ничего, так даже лучше.
Американ всячески старался показать, как он рад встрече с Пиапоном.
Вызвал Гайчи и потребовал вторую бутылку водки, банку леденцов, но стоило
Пиапону упомянуть о поездке в Маньчжурию, как он начинал морщиться и пытался
увести разговор на другую тему.
— Американ, я никогда не кривил душой, — сказал Пиапон, глядя, как
бывший его приятель разливает прозрачную влагу.
— Знаю, — кивнул головой Американ, не отводя глаз от кружки.
— На русской земле каждый день власти меняются. Это ты знаешь? Богачей
преследуют. Это знаешь?
— Я много езжу. Сейчас из Хабаровска возвращаюсь. Там богачи сидят на
своих же местах. В Николаевске богачи кету солят, икру солят и еще больше
богатеют.
— Не будет их, я верю умным людям, они сказали, что наступит такая
жизнь, когда богачей не будет. Куда ты тогда денешь свой су?
— Выброшу, — засмеялся Американ и опрокинул в рот крутку.
Пиапон подождал, когда он выпьет содержимое кружки, смотрел на ползавший
вверх и вниз кадык.
— Су твой — обман, — сказал он, когда Американ перестал крякать после
водки. — Никто не верит в твой су.
— Верят, — ответил Американ, прожевывая жаренную на огне юколу. — Не
все еще такие умные, как ты.
Пиапон ожидал, что Американ вскипятится, начнет ругаться, отпираться,
доказывать, но он был совершенно невозмутим.
— Слушай дальше. Хунхузы, которые напали на нас...
— Были мои друзья, — досказал за Пиапона Американ и усмехнулся. — Это
же я давно знаю, друг мой. Мне давно рассказали, что Холгитон ездит по
стойбищам, выискивает, за что бы зацепиться и обвинить меня в смерти двух
охотников.
— Если знаешь — хорошо, — спокойно проговорил Пиапон. — Так знай, я
тоже думаю так же, как и Холгитон.
— Тоже знаю. Слухом полнится Амур. Я о тебе-то больше знаю, чем ты сам.
— Еще бы, если бы я имел столько должников, все амурские новости знал.
Но не будем уходить от прямого разговора. Скажи, Американ, почему хунхузы не
забрали халико?
— Потому, что халико был мой, а хунхузы — мои друзья. Ты же знаешь об
этом.
— А откуда эти хунхузы?
— Из Маньчжурии, наверно, вслед за нами плыли.
— Ты же говоришь, что они твои друзья...
— Это ты и Холгитон говорите.
— Об этом говорят все, кто с нами ездил. Старик со старухой были тоже
на стороне хунхузов.
Американ строго взглянул на Пиапона и сказал:
— Все это ваши выдумки.
— Ты кричал хунхузам по-китайски — тоже выдумки?
— Выдумки.
— Хунхузы говорили по-нанайски — тоже выдумки?
— От страха показалось.
Пиапона стала раздирать злость, но он крепился. Американ невозмутимо
уплетал поджаренную юколу.
— Американ, идут новые времена...
— Пиапон, я часто бываю в городе, не учи меня. Сам запомни, какие бы
времена ни настали, умники всегда будут умничать, бедные — нищенствовать, а
богатые — приумножать свое богатство.
— Нет, не будет этого! Мне говорили умные люди.
— Мне тоже говорили, люди еще умнее, — Американ стал заметно
нервничать. — Если Холгитону и еще кому-нибудь не дает спать мое богатство,
то я могу уделить...
— Холгитону и мне не нужны твои богатства, понял, Американ? Мы боимся
стать богатыми, потому что слишком метко стреляем, от нашей пули не ушел бы
Берсенев.
Американ вскочил на ноги, ударился о согнутый тальник, поддерживающий
хомаран.
— Кто сказал?! Пиапон, скажи, кто сказал?
— Друзья твои, хунхузы.
— Не шути, Пиапон!
— Боишься? За это, пожалуй, и нынешняя власть не погладит по головке.
Американ побледнел. Теперь он походил на молодого, темпераментного
Американа, который по вечерам веселил охотников в зимнике. Походил тем, что
уже не скрывал свои чувства за маской невозмутимости; лицо его отражало
страх и гнев.
— Вот, давно бы так, — сказал Пиапон и выпил свою кружку.
— Откуда ты знаешь? Кто сказал? — допытывался Американ.
— Ты сам сейчас сказал. Я не знал, кто стрелял, теперь знаю.
Американ недоверчиво смотрел на Пиапона, разлил еще водки, выпил,
пожевал юколу.
— Я не стрелял, никто этого не видел, тайга, она...
— Она все знает, — подхватил Пиапон. — Правильно, ты не стрелял,
стрелял другой.
Американ перестал жевать юколу и прошептал:
— И это знаешь?
— Знаю. Знаю, что не ты на фасоль меняешь соболя.
Американ засмеялся, смех этот не был похож на его смех, из горла его
вырывалось бульканье, клохтанье, будто из бутылки с широким горлом выливали
жидкость.
— Не я! Пиапон, не я! Просто я хотел тебя попытать, что ты знаешь,
потому что я сам слышал этот рассказ, о выстреле мне рассказывал сам
Берсенев. Не веришь? При встрече спроси его. Он сам рассказал, как в него
стреляли? Рассмешил ты меня, Пиапон, сильно рассмешил. Давай допьем, мне
надо спешить.
— Твой груз только ночью можно перевозить, правильно, надо спешить.
— Могу и днем везти, да вот ночь застала.
— Потому тихо плывешь, тишину чтобы не нарушить.
— Ты все понимаешь, Пиапон, все понимаешь. Эй, Гайчи! Собери гребцов,
выезжаем.
Американ опрокинул кружку, надел шапку и вылез из хомарана. Гребцы,
провожаемые рыбаками, шли к лодке.
— Пиапон! Не забывай, умники всегда будут умничать, — сказал Американ,
когда лодка закачалась на воде.
— Помню, Американ, но, посмотрим, будут ли богачи приумножать свое
богатство.
— Будут, Пиапон, будут!
Пиапон устало закрыл глаза и подумал: «Теперь посмотрим, как ты
богатство свое будешь приумножать».
Он лег, и ему приснился неприятный сон. Всю ночь он ссорился с женой,
дочерьми, ругался с Американом. Он ворочался с боку на бок, но сон
преследовал.
«Видно, неудача ждет нас», — подумал Пиапон, проснувшись. После
завтрака Пиапон с зятем и с Богданом нагрузили две большие нарты рыбой и
повезли на лесопильный завод Александра Салова. Собаки резко волокли тяжелые
нарты, и после полудня рыбаки прибыли на Шарго. Управляющий Салова сам
принял рыбу и расплатился с Пиапоном.
— Сазанчики, сомишки, черт те знает, хороши, — говорил он, тяжело
дыша. — Если есть еще рыба, привози, всю заберу.
— Есть еще рыба, — ответил Пиапон и подумал: «Все хорошо обошлось».
Из тайги возвращались лесорубы, усталые лошади тащили тяжелые сани с
усталыми людьми. Пиапон собрался было домой, но Богдан попросил подождать,
он хотел что-то передать мужчинам большого дома.
— Вон наши, видишь Гнедко, — сказал Богдан.
Пиапон тоже узнал лошадь Полокто, купленную нынче осенью у того же
Александра Салова. Это была вторая лошадь Полокто. Первая, подаренная
Саловым, зиму вывозила бревна из тайги, а ранней весной околела. Все
няргинцы жалели ее, ругали Полокто, что из-за жадности не купил сена у
русских и заморил лошадь. На самом деле сено было у Полокто, но лошадь не
хотела его есть, то ли от того, что сено было не пригодное для корма, то ли
была сама лошадь больна. Услышав о смерти лошади, Митрофан сказал: «Это мы
знали. Разве Санька подарил бы здоровую лошадь».
Полокто долго убивался, он всем говорил, что сам виноват в смерти
лошади, потому что слишком намучил ее на вывозке леса. Было отчего убиваться
ему — он на этой вывозке заработал хорошие деньги, а лошадь была дареная,
он за нее не уплатил ни копейки. Нынче осенью Салов продал ему Гнедко по
умеренной цене.
— Мы еще купим женщину-лошадь, приплод будет от нее, — хвастался
Полокто.
— Говори, кобыла, — поправлял его младший сын Гара.
— Кобыла, так кобыла, мне все равно, лишь бы она приплод приносила
каждый год. Надо только, чтобы она резвая была, Гара на ней почту будет
гонять. А что? Маленько поработаем в лесу, подзаработаем денег и купим. Знаю
я, Гара не хочет работать в тайге, его все тянет к молодой жене. Пусть он
почту гоняет.
Многие завидовали Полокто, теперь только они поняли, что лошадь ценное
животное, она кормит человека. А на собаках в нынешние времена что сделаешь?
Почту нельзя гонять, лес не вывезешь...
Гнедко подошел к пилораме, остановился. Братья поздоровались.
— Мы домой едем, — сказал Калпе.
— Все же едешь? — спросил Полокто.
— Едем.
— Ты за всех не отвечай. За себя говори.
— Он за нас говорит, — ответил за Калпе Улуска.
Полокто искоса взглянул на него и сказал:
— Ты слишком разговорчивый стал в последнее время.
— Потому что язык расшевелился да зубы разжались.
Пиапон слушал эту перебранку. О недовольстве мужчин большого дома главой
артели он давно знал. Полокто договорился с управляющим лесозавода, что он
со своей артелью будет заготовлять лес отдельно и сами же вывезут на
лесозавод. Увидев, что один Гнедко не справляется с вывозкой заготовленных
бревен, он попросил лесозаводскую лошадь, а возчиком назначил старшего сына
Ойту. Деньги за работу получал Полокто сам и делил в присутствии всей
артели. И тут артельщики с удивлением узнали, что лошади зарабатывают больше
людей.
— На корм им надо? — спрашивал Полокто. — Надо. Сбруя прохудилась.
Новую надо купить? Надо. Подковы надо новые? Надо. А лошади работают не
меньше вас.
Дяпа с Улуской молчали, но горячий Калпе не мог сдержаться и при каждой
дележке денег ругался со старшим братом. Потом он стал допытываться у
рабочих насчет оплаты, но многие рабочие сами не разбирались в тонкостях
бухгалтерии и не могли объяснить Калпе. Только Ванька Зайцев однажды сказал:
«Вот это да! Старший брат сосет кровь младших. Обманщик он!»
— Останьтесь на несколько дней, — сказал Полокто. — Вырубим что
осталось, вывезем, и тогда можете уезжать.
— Нет, мы сейчас выезжаем, — ответил Калпе.
— Когда вернетесь?
— Может, совсем не вернемся. Хватит нас обманывать.
Полокто помолчал, пожевал губами, тугие желваки катались по скулам.
Искоса посмотрел на Пиапона, видно, ему неприятно было его присутствие: при
Пиапоне он всегда сдерживал свой гнев.
— Ладно, пусть будет по-вашему, — сказал он. — Лошадь будет получать
столько же, сколько получаем мы.
Калпе не знал, как расценивается труд лошади, потому он не стал
возражать. Улуска с Дяпой смотрели на него, ожидали, что он скажет. И Калпе
сказал:
— Поедем домой, послезавтра вернемся. Вот еще что думаю я, ага. Если
кто не выходит на работу день, второй, то он не должен за эти дни получать.
Гара часто ездит домой, а получает наравне с нами. Это несправедливо.
— Он ездит за продуктами.
— Неправда, сам знаешь.
— Калпе, ты из-за денет совсем забываешь старые наши обычаи. Всегда
нанай помогали друг другу...
— И никто никого не обижал, — подхватил Калпе. — А ты обижаешь родных
братьев.
Полокто гневно посмотрел на брата и со злостью проговорил:
— Ты опять за свое, ты становишься слишком наглым. Я твой старший брат.
— Ты не кричи на меня! Обманщик ты, это я говорю при твоих детях.
Попробуй еще покричи, мы уйдем из твоей артели, и ты будешь получать
столько, сколько получают все возчики. Понял?
Полокто знал, сколько получают возчики, и те, которые вывозят лес на
своих собственных лошадях, и те, которые пользуются лесозаводскими лошадьми.
Без артели Полокто невыгодно работать в лесу. И Гнедко не принесет больших
денег. Но как оставить эти нападки без ответа? Полокто хотел что-то
ответить, но тут раздался голос Пиапона.
— Чего вы ругаетесь? Если не можете вместе работать, работайте
порознь, — сказал он.
— Не вмешивайся в наш разговор, мы сами поладим.
— Но ты перестань обманывать братьев, они тебе не работники.
— Ты учить меня приехал?! Езжай домой да следи, чтобы милая твоя дочь
не принесла тебе второго зайчонка!
Пиапон сперва не понял, о чем сказал Полокто. Но когда дошел до него
смысл слов Полокто, он побледнел, зачем-то вытер лицо рукавом, оглядел
братьев, будто спрашивая, правду ли говорит старший брат. Потом подошел к
Полокто, вцепился железными пальцами за грудь.
— Повтори, что сказал, — прохрипел он.
— Чего мне повторять? Чего ты меня учишь? Чего за грудь хватаешь? —
Полокто попытался вырваться, ударил по руке брата. — Чего повторять? Все
знают, ты один два года не знаешь. Мира опозорила тебя, всех нас, наш род
Заксоров.
Пиапон оттолкнул брата с такой силой, что тот перелетел через нарту и
зарылся и сугроб. Он подошел к своей упряжке, сел на нарту. К нему подсел
Калпе. Собаки рванулись с места. Калпе сидел сзади брата, смотрел на его
сгорбившуюся спину, и ему хотелось обнять его, утешить, сказать слово,
отчего бы он разогнулся, выпрямился и стал бы прежним, сильным, прямым. Но
где найти эти слова, что сказать? Он оглянулся назад, за ними мчалась вторая
нарта с мужем Хэсиктэкэ и Богданом. Далеко позади тряслась лошадь Полокто.
«Поехал тоже, — с ненавистью подумал Калпе. — Поехал посмотреть, как
брат будет убивать дочь родную. Негодяи, два года ни один человек, даже
самый злой человек, не посмел брату сказать о родившемся зайчонке, а он
сказал. Нарочно сказал. Знал, что бьет наверняка, наповал».
Собаки бежали быстро, лапы их мелькали на белом снегу, хвосты пушистые
мели твердый санный путь. Свежий ветерок трепал лицо. Пиапон чувствовал, что
кто-то сидит за спиной. Ему было все равно, кто там сидит, лишь бы молчал.
Пиапон думал и вспоминал болезнь Миры, разговоры с женой, как он предлагал
ей повезти дочь к другу, доктору Харапаю, и как она испугалась при этом. Все
вспомнил Пиапон и думал, ведь все женщины Нярги, наверно, уже тогда знали о
беременности Миры, а он, родной отец, жил рядом и не догадывался об этом.
Как же так получилось? Почему дочь скрыла свою беременность? Боялась? Видно,
боялась. Непременно мать твердила, что отец убьет ее, когда узнает о ее
беременности. Это она подстроила все, она уговорила Хэсиктэкэ представиться
беременной. Это она!
Два года внуку. Два года люди молчали и только за спиной смеялись над
ним. Два года... Почему молчали люди? Боялись? Чего? Что станут виновниками
смерти Миры?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
30 декабря 1917 года во Владивостокский порт прибыл японский крейсер
«Ивами». 1 января 1918 года прибыл английский крейсер «Суффолк», а 4 января
встал на якорь другой японский крейсер — «Асахи». Стоял на рейде и
американский крейсер «Бруклин».
16 января 1918 года банда Семенова перешла границу и заняла станцию
Оловянную, начала наступление по направлению Читы. Возник Даурский фронт под
командованием С.Г.Лазо. 22 февраля советские войска разгромили банду
Семенова у станции Даурия.
Обе нарты все дальше и дальше удалялись, усталая лошадь не могла
меряться силой с отдохнувшими собаками. Полокто хлестал Гнедко, но лошадь,
пробежав сотню шагов, опять переходила на шаг. Седоки молчали. Улуска
задремал, Дяпа смотрел на синие сопки, а двое сыновей Полокто отвернулись от
отца и смотрели назад. Потом они соскочили с саней и зашагали скорым
охотничьим шагом. Никто еще не проронил слова, как выехали из Шарго.
Нарты скрылись за тальниками.
— Вы старше Калпе, почему вы слушаетесь его? — наконец проронил первые
слова Полокто.
— А мы его не слушаемся, — ответил Улуска.
— «Не слушаемся», — передразнил его Полокто, — а сами смотрите ему в
рот, ждете, что он скажет. Будто нет у вас своей головы.
— Головы есть, да голова Калпе больше, ум светлее.
— Ум, ум. Тоже нашли умника. Он младше вас, и стыдно вам его слушаться.
— Отец не стыдился, — сказал Дяпа.
- Чего?
— Отец слушался иногда второго брата а не стыдился.
— Ты отца не трогай!
— Ты не кричи, я не твоя жена.
Дяпа спрыгнул с саней и зашагал рядом с племянниками.
— А ты чего сидишь! — крикнул Полокто на Улуску. — Лошадь устала за
день, тяжело ей, не видишь разве.
— Я столько же работал, пусть везет, на то она лошадь, чтобы везти.
Полокто сплюнул и выругался. Впереди показались нарты, они огибали мыс,
за которым поселились корейцы.
«Так и не увижу, как Пиапон будет омывать свой позор кровью дочери, —
подумал Полокто. — Неужели убьет? Так ей и надо! Женщины всегда позорят
мужчин».
И вдруг Полокто вспомнил свой позор, приезд братьев Майды, побоище на
берегу Нярги, ранение. До сих пор по всему Амуру вспоминают этот случай. За
спиной Полокто говорят: «Это тот самый Полокто, сын старика крикуна
Баосангаса, муж белокожей красавицы Гэйе, которого братья первой жены
поколотили шестами».
Он молчит, терпит. Может, он еще несколько лет будет молчать, но
настанет такое время, и Полокто покажет себя. Еще как покажет! Только бы
быстрее ему разбогатеть, и тогда он расправится и с женами и с братьями
Майды. Не нравится Полокто слух, который распустил Митрофан, будто всех
богатых будут уничтожать, богатство отбирать. Живут же Санька Салов, Феофан
Ворошилин, Американ...
— Ты, правда, вторую лошадь купишь? — перебил размышления Полокто
Улуска.
— Куплю. Тебе какое дело? Завидно?
— А они сдохнут у тебя, чего мне падали завидовать? Малмыжские русские
говорят, что любая хорошая лошадь сдохнет у тебя.
— Пусть говорят, а я куплю.
— Покупай. Я думаю, мы больше не будем с тобой работать.
— Ты думаешь, — передразнил Полокто. — У тебя голова маленькая, сам
только что говорил.
— Калпе тоже не будет работать. Дяпа тоже.
— А ну, слезай! — крикнул Полокто.
— Теперь могу слезть, потому что замерз, — засмеялся Улуска.
«Паршивец, вот как заговорил. Жил бы я в большом доме, ты так не стал бы
разговаривать».
Полокто зло хлестнул лошадь. Гнедко нехотя затрусил.
— Эй, сыновей прихвати! — закричал Улуска и, обернувшись к Ойте и
Гаре, засмеялся. — Ну и отец у вас, даже сыновей оставил. Спешит домой.
Полокто спешил, ему не терпелось скорее узнать, что произошло в доме
Пиапона. Вернувшись домой, он небрежно спросил:
— Что-нибудь случилось в доме Пиапона?
— А что? — спросила Гэйе.
— Я спрашиваю, ничего не случилось?
— Кажется, ничего, — ответила Майда. — Где дети?
— Пешком идут.
Только на следующий день Полокто узнал, что произошло в доме брата.
— Отец Миры, не распрягая собак, вбежал в дом, — рассказывала
невестка, — схватил за косы Миру и вытащил нож. «Ты опозорила меня», —
сказал он...
— Нет, не так было, — перебила ее Гэйе.
— Обожди! — рассердился Полокто. — Убил он ее?
— Нет, Калпе вовремя схватил за руку.
— Да не так было, — нетерпеливо сказала Гэйе. — Он схватил жену и
хотел ее зарезать. Потом уже Миру.
— Так что же там было?
— Мы тебе рассказываем, как нам рассказывали, мы ведь сами не были там.
Не веришь — сам сходи узнай.
— Врете вы все, — хмуро проговорил Ойта. — Ты бы меньше
сплетничала, — набросился он на жену. — Умеешь только сплетни по стойбищу
собирать да разносить. Еще услышу — будет тебе.
Полокто остался недоволен, он ждал большего. Но в этот день он услышал
другую весть, которая надолго расстроила его. Калпе сообщил ему, что он,
Дяпа и Улуска больше не будут работать в его артели.
«Пропала вторая лошадь! Не увидеть мне ее, — думал Полокто, — все было
хорошо, все уладилось. Не было бы этого Пиапона, у меня появилась бы вторая
лошадь. Чего он подвернулся? Пропала моя женщина-лошадь. Но обожди, Пиапон,
я тебе тоже когда-нибудь отомщу!»
— Не хотите со мной работать — не надо! — запальчиво закричал он
Калпе. — Мы втроем без вас управимся, сыновья мои будут валить лес, а
Гнедко будет отвозить. Без вас обойдемся!
Ойта с Гарой, страстные охотники, тоже не желали возвращаться на лесную
деляну, их тянула тайга. Во время коротких перекуров у костра не раз
затевался разговор об охоте, вспоминались разные охотничьи истории. После
этих разговоров руки отказывались брать топор, пилу или вожжи. А теперь,
когда дяди ушли из артели, не было смысла возвращаться к рубке и вывозке
леса.
— Отец, мы уходим в тайгу, на охоту, — заявили оба сына.
— Куда?
— На охоту. Нынче разрешается охотиться на соболя.
— Без моего разрешения не уйдете в тайгу. Я вам, взрослым, морды
окровеню!
— Можешь. Ты отец. Тогда нам придется уйти из этого дома.
— Как уйти?! Как вы со мной разговариваете?!
Полокто задыхался, гневом полыхали глаза, но он понимал свое бессилие,
знал, что не сможет поднять руку на сыновей. Он в это время походил на
разгневанного Баосу, но походил только криком. Баоса в такие мгновения
никогда не раздумывал, лез кулаками на взрослых сыновей, бил, не думая о
последствиях. А Полокто и в гневе думал о последствиях своего поступка.
— Как уйдете?! — кричал он, бессильно сжимая кулаки.
— Соберемся и уйдем, как ты ушел от деда.
— Это ты, ты их против меня, — кричал Полокто на Майду.
— Ты не кричи на маму, — сказал Ойта. — Когда будем уходить, мы
заберем ее с собой.
— Вот это настоящие сыновья! — воскликнула Гэйе.
Полокто растерялся, он не знал, что предпринять. И сделал единственное,
что мог сделать. Он вихрем сорвался с места, снял со стены берданку.
— Собаки, не дети вы, собаки! Всех перестреляю!
Женщины заголосили, Майда бросилась к нему, но ее схватил Гара.
— Хватит тебе женщин пугать, — сказал Ойта. — Будто мы не знаем, что
берданка не заряжена. Я помню, как ты однажды собирался стрелять в отца
Миры, да дедушка тебя...
Полокто швырнул берданку в сына, Ойта отпрыгнул в сторону, берданка
ударилась об очаг, и добрый кусок отколотого приклада попал в кастрюлю с
кипящим супом.
— Всех перебью! Всех выгоню! — вопил хозяин дома.
— Мы сами уйдем, не будем жить с сумасшедшим! — заявила за всех Гэйе.
Полокто еще долго метался по нарам, кричал, плевался, он весь вспотел и
тяжело дышал, широко разинув рот. Потом сел на свое место, младшая невестка
со страхом подала ему трубку. Полокто закурил. В доме наступила тишина.
— Повторилось то, что однажды случилось в большом доме, когда я
маленький был, — сказал Ойта. — Мы забываем, с того времени прошло много
лет, да и дом наш деревянный. Готовьте нас в дорогу, завтра мы выезжаем на
охоту.
Полокто курил трубку. Он не возражал. Он молчал. Нет, старший сын
старика крикуна не походил на своего отца. Он был рассудительнее отца.
На следующий день Ойта с Гарой ушли в тайгу, они спешили: оставалось до
конца сезона полтора-два месяца.
Полокто долго отсиживался дома, изредка выезжал с женщинами на рыбную
ловлю, ездил в Малмыж, надеясь на встречу с Александром Саловым.
— Нет-с, они не приедут ноне в Малмыж, — отвечал приказчик.
Полокто решил возвратиться на лесозаготовки и уже совсем собрался
выехать, когда из Малмыжа приехал посыльный с предписанием мобилизовать
лошадей на перевозку грузов. Напуганный устрашающим видом посыльного, его
бумагой с печатями, Полокто запряг Гнедко и поехал в Малмыж. Здесь собралось
много подвод со всех стойбищ и ближних русских сел. Полокто не знал, какой
груз и куда он повезет. Не знали и другие возчики. Шел разговор, будто груз
красных, отобранный белыми, вместо того чтобы везти вверх по Амуру, требуют
везти вниз. Полокто не разбирался, кто такие красные, кто белые, он впервые
слышал о них. Ему объяснили, что красные — это те, которые за бедных,
белые — за богатых. Полокто достаточно было этого объяснения. «Если белые
за богачей, то я буду за них, — сказал он себе. — Когда-нибудь и я буду
богатым. Пусть Пиапон будет за красных, он не любит богатых».
В сани Полокто погрузили ящики и какой-то длинный предмет, зашитый в
мешковину.
— У меня какие-то вкусные вещи, наверно, — сказал охотник из Чолчи. —
Ящики не тяжелые.
— А у меня маленькие да тяжелые, — сказал болонец.
— Э-э, это патроны для винтовок.
— Неужели патроны?
— Патроны, в таких ящиках только патроны хранятся.
— Никогда в жизни не видел столько патронов. Наверно, тысяч сто будет,
а?
— Больше, в каждом ящике по сто тысяч.
«Откуда это чолчинец все знает?» — думал Полокто, слушая разговор
соседей.
— Ты не знаешь, докуда нам везти этот груз? — спросил его мэнгэнский
охотник.
— Не знаю. Спроси вон у этого чолчинского, он все знает.
— Не знаю, — сознался всезнающий чолчинец, — куда скажут, туда и
довезем. Зря мы заимели лошадей, не будь их — не пришлось бы сейчас
отлучаться от жен.
— Это ты верно говорить. Обещают хорошо заплатить.
— Обещают, да не верь им.
— Чей груз мы везем?
— Это белых груз, из Хабаровска в Николаевск перевозят.
— Говорили, красные там.
— Кто их разберет сейчас. Вон русских, малмыжских спроси — никто
ничего не знает. А нам откуда знать, если сами русские о русских ничего не
знают.
Длинный обоз, более тридцати саней, сопровождаемый солдатами, вышел из
Малмыжа. Впереди обоза на тонконогом скакуне ехал белогвардеец с пышными
усами, с шашкой на боку, с красивой нагайкой в правой руке.
Полокто ехал в середине обоза и, прислонившись к мешковине, дремал.
Маленькое, затерявшееся в голубом небе, январское солнце скупо обогревало
лицо. Полокто вытянул ноги, лег поудобнее, положив голову на твердую
мешковину.
«Хорошо, что уехал из дому, отдохну от этих сварливых женщин, — думал
он. — Что за люди, эти женщины? Пока молоды — хороши, и ласкают, и
обходительны — все, что надо, выполняют без лишних слов. Состарились — и
все изменилось. Сплетницы стали. Склочницы. А Гэйе, какая была! А теперь?
Тьфу!»
Полокто сплюнул, О женщинах ему не хотелось больше думать. О сыновьях —
тоже. О чем же тогда думать? Странное дело, всего год назад, бывало, ехал
один на оморочке на охоту или рыбную ловлю и всю дорогу думал. Голова
лопалась от этих дум. А теперь не о чем думать. Голова пуста, как выпитая
бутылка из-под водки. Старость, что ли, подходит? Рано стариться, пожалуй,
мог бы заиметь еще третью молодую жену. А что? Взять да жениться, назло этим
двум старухам. Дети прокормят их. Только тогда денег не накопить. Богатым не
стать. Если бы был счастлив, как Американ, тоже нашел бы су богатства.
Несчастливый, потому не нашел су. А то был бы богатым... Не успел Полокто
додумать, что бы он сделал, если бы стал богатым, над ним раздался громовой
голос:
— Не спать в пути!
Он открыл глаза и увидел пышные усы, сверлящие глаза под густыми
бровями. Это был белогвардеец на лошади.
Полокто, хотя и не знал русского языка, но понял смысл сказанного. Он
улыбнулся и закивал головой.
— Хоросо, хоросо.
Полокто немного застыл, он соскочил с саней и зашагал рядом. К нему
подошел чолчинец, которого окрестил Полокто «всезнайкой».
— Анда, нам еще долго ехать, а мы друг друга не знаем, — сказал он. —
Меня зовут Бимби, из рода Актанка.
— Я Полокто...
— А-а, Полокто, — обрадовался чолчинец, — знаю, знаю.
«Ты все знаешь», — неприязненно подумал Полокто, слушая перечисления
всех своих и отцовских «заслуг», из-за которых они стали так известны на
всем Амуре.
— Ты что, спал? — спросил Бимби.
— Нет.
— Я сидел и смотрел на тальники, а он говорит: «Правильно, наблюдай,
увидишь хунхузов, кричи». Какие хунхузы могут здесь быть? Он боится красных,
я это сразу узнал. Ты с русскими из Малмыжа знаком?
— Да, Санька Салов мой друг, — не выдержал и похвастался Полокто,
заранее предвкушая удивление и восторг Бимби. Бимби на самом деле удивился,
но восторгаться не стал.
— Хитрый человек, — сказал чолчинец. — Где только он выучился этой
хитрости и ловкости? Говорят, теперь он самый богатый торговец в низовьях
Амура.
«Тоже завидует богатству Саньки, — подумал Полокто. — Похож на нашего
Пиапона. Санька умнее всех вас вместе взятых завистников, потому
разбогател».
— Ты по-русски говоришь? — спросил Бимби.
— Нет, не научился. Понимаю немного, когда говорят.
— Как же тогда дружишь с русскими?
— Так дружу.
Полокто становился неприятен этот разговор.
«Если умеешь говорить по-русски, то ты лучше меня, что ли? — сердито
думал он. — Умник, как наш Пиапон».
— Мы вместе с русскими живем, из одного Амура воду пьем, потому надо
знать их язык. Ты, наверно, не знаешь, какой груз мы везем? Среди этих
солдат есть один, я с ним и Малмыже познакомился. Он говорит, что этот груз
белых. Когда в Хабаровске к власти пришли красные, они вывезли оттуда груз,
хранили где-то в селе, а теперь везут в Николаевск. Там, говорят, белые.
Солдат говорит, белые очень сердиты, хотят власть отобрать у красных.
Воевать хотят. Солдат думает, что белые обязательно победят красных.
Говорит, у них много солдат, много оружия везде, оружия, говорит, еще японцы
дадут.
— Что же тогда получается, если белые будут воевать с красными, то это
будет война русских с русскими?
— Выходит так.
— В Малмыже тоже начнут русские между собой воевать?
— Начнут, там тоже есть бедные, есть богатые.
«Война бедных с богатыми, — думал Полокто. — Где же бедным победить
богатых? У богатых все есть, кто богат, тот силен всегда. Правильно говорит
солдат, белые богатые должны победить. Может, и я тогда разбогатею. Тогда
Пиапон и Холгитон не посмеют кричать: «Уничтожим богатых!» Нет, тогда не
уничтожите богатых».
— Пусть воюют, — сказал Полокто, — не наше дело. Русские будут
воевать, а мы будем смотреть на них.
Бимби засмеялся.
— Будешь смотреть! Воевать они, может, еще не начали, а тебя уже
заставили их оружие, патроны и еду всякую перевозить. А когда начнут
воевать, тогда что будет?
— Перевозить нетрудное дело, здесь только лошади работают. Зато они
деньги платят.
— Не знаю, будут они платить или нет. Пока в карман не положу эти
деньги — не поверю им.
«Неприятный все же человек этот Бимби — всезнайка», — подумал Полокто,
когда чолчинец отошел к своим саням.
Поздно вечером, когда совсем стало темно, обоз подошел к Вознесенску.
Посланные вперед солдаты приготовили ночлег для возчиков, корм для лошадей.
Охотникам отвели отдельный нежилой, не протопленный дом, без кроватей,
нар, даже не было стола и стульев. Возчики тут же стали варить себе похлебку
на ужин, заваривать чай.
— Какой же охотник ляжет спать без горячей еды, — говорил Бимби. —
Плохо спится, когда желудок не прополощешь горячим чаем. Устраивайтесь,
друзья, как в тайге в зимнике.
Охотники долго и весело чаевничали, потом ели, основательно, досыта,
чтобы назавтра утром похлестать чайку и отправиться в путь и не есть целый
день, если не будет какой оказии.
После ужина Полокто вышел проверить сани, лошадь. Гнедко стоял боком к
саням и не ел сено, наброшенное на ящики и мешковину. Узнав хозяина, он
жалобно заржал.
— Почему сено не жуешь? А? Сыт, что ли? Жри, жри, — Полокто похлопал
Гнедко по шелковистой спине. — Пить хочешь? Напился уже, хватит.
К нему подошел один из часовых.
— Понимай его? — спросил часовой.
— Да, да. Хоросо.
— Оне такие, к любому языку привычные. Чего не жрешь сено? Вон, смотри,
все соседи хрустят. Жри, работы много назавтра. Глянь, боится, что ли? Чего
боишься, глупый?
Полокто вошел в дом, сказал Бимби, что Гнедко не ест сено, как бы не
заболел. Охотники подбросили дрова в печи и улеглись на полу, договорившись,
что первый проснувшийся должен подбрасывать дрова, чтобы всю ночь тепло не
уходило из дома. Утром возчики проснулись до рассвета, лежали,
переговаривались и наслаждались теплом.
— Топи печь, чтобы железная дверца стала красной, — смеялся Бимби. —
Чего дрова жалеть? Дрова белых.
Рассвело. Мутные окна посерели, пропуская скупой свет. Становилось все
светлее и светлее.
Полокто вышел проверить Гнедко. Лошадь, как и вечером, стояла боком к
саням и испуганно заржала, увидев хозяина. К сену она не притрагивалась.
Полокто смахнул со спины иней.
— Что с тобой, Гнедко? Не заболел ты?
Гнедко опять заржал, испуганно косясь на сани.
— Гнедко совсем не ел, — сообщил Полокто возчикам. — Что с ним может
быть?
— Надо русским показать, они все понимают, — сказал Бимби.
Охотники сели чаевничать. Вошел белогвардеец с усами, с шашкой и с
нагайкой в правой руке.
— Поднялись? Ох и вонь у вас! Чем это от вас так прет? Через час
выезжаем, — сказал он, поморщил нос, подвигал усами, будто птичьими
крыльями, и вышел.
— Говорит, от нас воняет, — переводил Бимби друзьям слова
белогвардейца. — Чем это от нас воняет? Просто, наверно, маленько рыбой
пахнет.
— От него от самого воняет, — сказал болонец. — Вонючий пес!
— Со сколькими русскими я ни встречался, даже доктор Харапай был у
меня, грамотный-преграмотный человек из Хабаровска был у меня, но никто не
сказал, что от меня воняет, — сказал Бимби. — А этот белый сказал.
— Белый он, богатый, нас за людей не считает!
Глубоко оскорбленные охотники еще долго перемывали кости белогвардейца.
Когда успокоились, кто-то спросил:
— Этот пес с шашкой, наверно, с плетью в руках спит?
— Может, и с плетью спит.
— Красных боится.
Охотники стали собираться. Бимби с Полокто пошли к русским возчикам.
Бимби разыскал одного малмыжца и привел к Гнедко. Малмыжец долго осматривал
лошадь и сказал, что она здоровая, и нечего за нее беспокоиться. Полокто
облегченно вздохнул, похлопал Гнедко по крупу. Маленькое желтое солнце
выглянуло из-за сопок, и поступила команда запрягать лошадей.
— Боится, гад, красных, — говорил Бимби, затягивая супонь. — Вот
почему выезжает, когда солнце начинает прожигать ему зад.
— Красные да красные, ты этих красных когда видел? — спросил Полокто.
— Нет, не видел.
— Чего тогда говорить про них?
— Они почему-то мне по душе.
Полокто сел на сено, не съеденное лошадью. Мягко. Гнедко все косил на
него и изредка ржал. Первые сани стронулись с места и начали спускаться на
амурский лед. Спускались не по очень крутому склону, но многие лошади
застоялись за ночь, подгоняемые тяжелыми санями, пускались вскачь. Полокто
придерживал Гнедко, и жеребец слушался хозяина. Но вдруг над головой Полокто
заржала лошадь, раздался треск разламываемого дерева, сани под Полокто круто
повернулись боком, и он полетел с ящиков на твердую растоптанную дорогу.
Полокто почувствовал боль в левой руке, которой ударился, хотел
приподняться, но тут на него скатилась мешковина и прижала к снегу. Громко
заржали лошади, кричали возчики. Полокто столкнул с себя тяжелую мешковину и
сел. К нему подбежали спутники, подняли на ноги.
— Не ушибся? Ничего не болит? — тревожно спрашивал Бимби.
— Это я виноват, не удержал свою лошадь, — сознался болонец.
Подошли малмыжские возчики, тоже ощупывали Полокто, спрашивали, не
ушибся ли он.
Подъехал белогвардеец на лошади.
— Чего рассыпал казенное имущество?! — гаркнул он.
— Он не виноват, — ответил малмыжец. — Ваше благородие, это лошади
шибко норовистые, а у них опыта нету.
— «Норовистые», — передразнил белогвардеец. — Клячи, а туда же,
норовистые. Живо загрузить имущество и марш вперед!
Подвели Гнедого, и возчики стали помогать Полокто грузить ящики.
Малмыжец Иван и Бимби подняли мешковину.
— Бимби, пощупай, — проговорил Иван.
— Чего? — не понял Бимби.
— Что в мешковине, пощупай.
Бимби пощупал и побледнел.
— Это человек, — сказал он.
— Как человек? Какой человек? — одновременно спросили несколько
возчиков. Ближние начали прощупывать мешковину и отдергивали руки, будто кто
бил их по рукам.
— Это труп.
— Зачем везут труп?
— Как труп? Какой труп? — спросил Полокто, подходя к мешковине. Он
дотронулся до мешковины, нащупал нос, твердые губы и отдернул руку.
— А я дремал рядом... — проговорил он, и у него задрожали бледные
губы. — Он меня давил...
Полокто попятился со страхом, глядя на мешковину.
— Теперь понятно, почему лошадь не стала есть сено, — сказал Бимби, —
она чувствует мертвого.
— Нет, я не повезу его, — сказал Полокто и ногой спихнул труп с
ящиков.
— Правильно, зачем же людей заставлять трупы возить, — сказал болонец.
— Да еще охотника, какая потом будет ему удача в тайге?
Полокто стал сбрасывать с саней ящики.
— Что тут происходит?! — раздался над возчиками голос верхового. —
Что такое? Почему ты имущество казенное бросаешь?
— Я не повезу дальше! — закричал в ответ Полокто по-своему.
— Что ты говоришь?
— Его не хочу груз везти, — перевел Бимби.
— Как это не хочу?! Эй, ты, макака, что ты делаешь?!
Полокто, не слушая окрика, сбросил с саней ящик. Фанерный ящик
подпрыгнул и упал на труп. Белогвардеец соскочил с коня, подбежал к Полокто
и схватил его за грудь.
— Ты, узкоглазый! Макака вонючая! Ты знаешь, что делаешь? Ты
измываешься над геройски павшим русским офицером!
— Я не поеду! Понимаешь, не повезу дальше! — кричал в ответ Полокто
по-нанайски.
— Чего тарабанишь, сволочь?!
— Его говори, не вези дальше груз, — перевел Бимби.
Возчики столпились вокруг белогвардейца и Полокто.
— Почему не вези?!
— Человек мертвый, нельзя вези.
— Мертвый человек, не вези?! Я тебе, узкоглазый, расширю глаза! —
белогвардеец ткнул Полокто в нос. Полокто упал на снег, и под ним снег
обагрился кровью.
— Собака ты! Собака! — кричал он, поднимаясь и сжимая кулак. — Была
бы моя берданка, я тебя как собаку пристрелил бы!
Бимби растерялся, но тут же нашелся и перевел:
— Его боится, мертвый человек боится, потому не могу ехать.
Белогвардеец хлестнул нагайкой по лицу Полокто.
— Я тебя заставлю уважать русского офицера-героя! Я тебя, сволочь,
заставлю!
Полокто прикрыл руками лицо, между пальцами текла густая кровь. Он
чувствовал жгучую боль в правой щеке и прощупал пальцами открытую рану,
тянувшуюся из угла рта к уху.
— Я тебя запорю, сволочь! Насмерть запорю, вонючая тварь! — орал
белогвардеец, хлестая Полокто нагайкой. — Повезешь ты тело героя! Я тебя
заставлю!
Полокто упал на снег вниз животом.
— Полокто, слушай, Полокто. Скажи, что повезешь труп, — сказал Бимби.
— Не повезу, я никуда не поеду дальше. Я убью его, собаку!
Белогвардеец смотрел на Бимби, по выражению лица понял, каков ответ, и
начал вновь хлестать поверженного Полокто.
— Ваше благородие, по ихним законам... — заступился малмыжец Иван.
— Что?! Молчать! Нашелся заступник! Он сейчас же встанет, нагрузит
ящики, тело русского героя и повезет дальше! Если этого не выполнит, то
останется здесь лежать! Переведи!
Малмыжские мужики обступили белогвардейца. Бимби увидел в руке
белогвардейца пистолет.
— Полокто, быстро поднимайся, он хочет стрелять в тебя.
Полокто поднял голову, увидел пистолет в руке белогвардейца и вскочил на
ноги.
— Грузи ящики, тело русского офицера! — приказал белогвардеец.
— Хоросо, — ответил Полокто и ухватился за фанерный ящик, лежавший на
трупе. Ему бросились помогать и русские и нанайские возчики.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
5 апреля 1918 года. Во Владивостоке высадился десант около двух рот
японских солдат и полроты английской морской пехоты. 6 апреля высадилось еще
250 японских матросов.
25 мая белочехи внезапно захватили город Мариинск. 26 мая — город
Новониколаевск (Новосибирск) и Пензу.
Мятеж продвигался на восток. Захвачены Челябинск, 7 июня — Омск.
Воодушевленные мятежом белочехов, выступили банды атаманов Калмыкова и
Орлова.
Образовался фронт с направлениями: Гродековское, Полтавское,
Камень-Рыболовское.
Амур бунтовал. Амур неистовствовал, он грохотал, подобно весеннему
грому, рвал огромную толщу льда и нес ее на своих плечах. Все вниз, все
вниз. Амур бушевал, он походил на зверя, который отлеживался всю зиму, но
теперь, почуяв весну, поднялся на ноги и ни с того, ни с сего начал крушить,
ломать все вокруг. В этом было что-то зловещее, непостижимое.
Мимо лодки, в которой сидели Богдан с Хорхоем, неторопливо плыли большие
глыбы льда со следами санных полозьев, черные, обсыпанные глиной. Странно
было смотреть, как на середине Амура, зажатые со всех сторон, вздымались
огромные льдины, будто рвались к небу, просили у неба помощи. Шла
непонятная, неведомая борьба. Из-за чего? Будто этим льдинам не хватало
места на широкой груди Амура. А всю зиму они спокойно спали на этой же
груди, и все умещались...
Весной Богдана охватывало всегда какое-то непонятное состояние, ему
хотелось совершить что-то необычное, неслыханное, и он чувствовал, что для
этого у него хватило бы силы и мужества, потому что сами небо и солнце,
земля и вода вливали в его тело эту силу.
— Хорхой, ты слышал? Старики говорят, если пальцем покажешь на льдину,
то она протаранит тебя, лодку, снесет дом, — сказал Богдан. — Слышал?
— Слыхал, — баском ответил Хорхой.
Он сидел на корме лодки и тоже смотрел на бегущие льдины.
— Тогда смотри, вон та большая льдина с ветками тальника, — Богдан
показывал указательном пальцем. — Вот, вот, налезает на другую льдину.
— Ну и что?
— Ничего, я пальцем ткнул в нее. Она должна протаранить меня, лодку мою
и дом. Ну, пусть таранит. Давай, тарань! А она плывет дальше и не вернется
назад.
Вдалеке раздался выстрел.
— Есть! Если дедушка выстрелил, то будем есть утятину, — сказал
Хорхой. — Наверно, штук пятнадцать убил.
— Нет, двадцать.
— Двадцать так двадцать.
— Патронов у него мало, он будет стрелять только тогда, когда столько
уток, что негде дробинке упасть. Поехали, все равно нам не рыбачить сегодня.
Дед оставит нам уток в землянке, на берегу залива.
Молодые охотники столкнули лодку и осторожно стали продвигаться по
разводью. Вокруг них то тут, то там всплывали донные льды, серые от песка,
похожие на диковинные рыбы. Всплывали маленькие, чисто-голубые льдинки и тут
же рассыпались в нежном звоне на мелкие кусочки. Льды прижимали лодку к
берегу, разводье так суживалось, что лодка кое-как могла впритирку пройти
между ними. Хорхой молчал, насупившись. Он веслом отталкивал лед, суетился.
Когда небольшой кусок донного льда ударил в борт лодки, он сказал:
— Храбрый нашелся, пальцем тычет.
— Это же не та льдина, та была огромная, — ответил Богдан.
— Вместо той — другие ударят, нечего было тыкать.
Лодка пробилась в широкое разводье, которое привело друзей в протоку,
свободную ото льда, а оттуда в залив, где стояла землянка. Здесь было тихо и
спокойно. Тишину нарушал только свист крыльев пролетавших уток. Богдан
задумчиво смотрел на стаи уток.
Перед отъездом он чуть не поссорился с Хорхоем, который пристал к отцу и
к нему, требовал пороху и дроби для охоты на уток. Каждая щепотка пороха
теперь дорога, кусок свинца дороже такого же куска серебра. Этого Хорхой по
молодости не понимает. Сколько лет уже прошло, как начались затруднения с
боеприпасами, с продовольствием. Теперь самое тяжелое время года. В тайгу не
доберешься. В Амуре ничего не поймаешь. Люди в стойбище голодают. Женщины и
дети болеют и умирают. Вот почему охотники выезжают на Амур, не дождавшись,
когда он очистится ото льда. На разводьях возле берега сейчас должны
ловиться сазаны. На сазанов не требуется драгоценного пороха и дроби.
Все мужчины стойбища сейчас на Амуре, кому подвалило счастье, тот уже с
пол-лодки, а то и целую лодку сазанов успел начерпать. А Богдан с Хорхоем
вынуждены отсиживаться в тихом заливе.
«Ничего, не надо только унывать, не удалось сегодня закинуть сеть,
закинем завтра. Удача придет», — думает Богдан.
— Ты чего приуныл, Хорхой? — спросил он. — Утки не дают покою? Пойдем
в землянку, найдем там уток и сварим.
Юноши подтянули лодку и поднялись по обрыву в землянку. У входа в
землянку висела связка уток.
— Ну, что я говорил тебе! — торжествовал Богдан. — Двадцать две
штуки.
— Говорил, говорил, — проворчал Хорхой, снимая связку. — Когда сам
подстрелишь, вкуснее.
Хорхой начал ощипывать уток, а Богдан разжег костер, повесил на тагане
котел. Вдалеке раздались выстрелы. Богдан, не считая выстрелов, знал, что у
Пиапона всего десять зарядов, что он завтра утром привезет не меньше двухсот
уток. Юноша знал озера, где кормились утки, на этих озерах всегда обильно
было корму и садилось столько уток, что не находилось места опоздавшей стае.
Пиапон охотился на этих озерах.
Хорхой разделал уток и положил их в котел.
— В этом котле, к этим уткам, знаешь, чего не хватает? — спросил
Богдан.
— Крупы, — ответил Хорхой.
— Нет.
— Лапши.
— Нет. Картошки.
Солнце опустилось за синими сопками, и в наступивших сумерках
отчетливее, грознее доносился грохот с Амура. Сейчас, должно быть, подошли
тяжелые льды с верховьев, за ночь они проплывут, и утром рыбаки закинут
сеть.
Утки сварились. Хорхой молча разлил по мискам отвар, цепляя острием
палочки, вытаскивал утятину.
Юноши опорожнили миски, обсосали косточки и стали пить чай. Пили
неторопливо, обстоятельно. Богдан разговорился, он говорил и за себя, и за
Хорхоя.
— Что-то происходит на земле, Хорхой. Была война, долгая война. Потом
уничтожили царя. Говорят, теперь власть в руках рабочих, простых людей.
Ленин во главе власти. А год назад управляющий Саньки говорил, что Ленин
какой-то немецкий шпион, — последние слова Богдан сказал по-русски, он до
сих пор не понимал смысла этих слов. — Теперь простые люди уничтожают
белых. Это война или не война? Вот мы с тобой идем к богатому Американу и
говорим: «Отдай свое богатство всем бедным». А он не хочет отдавать, он
берет ружье и стреляет в нас. Мы тоже с ружьями...
— У тебя пороха и свинца нет, — сказал Хорхой.
— Для Американа найдем, — ответил Богдан и продолжал: — Если он
выстрелит, мы тоже выстрелим. Верно? Это война или не война, я тебя
спрашиваю?
— Кто его знает.
— Я думаю, это война, если люди друг в друга стреляют.
Костер дышал жаром, обогревал руки, грудь, лица юношей, но спину их
прихватывал вечерний холод. Стало совсем темно, звезды высыпали на темном
небе. Еще явственней доносился грохот с Амура. Молодые рыбаки улеглись на
нарах в землянке и будто провалились куда-то в преисподню. Ни один из них
перед сном не подумал о страшном ледоходе на Амуре, не вспомнил о лодке,
которую оставили на берегу. Беспечность молодости!
Первым утром проснулся Богдан, его разбудил неясный шум, казалось,
разбушевавшийся Амур, как в сказке, перенесся из своего русла сюда, к тихому
заливу.
В маленькое единственное оконце землянки пробился блеклый свет. Богдан
открыл дверь, и сердце его замерло от увиденного — весь залив был
взгроможден льдами, высоко поднялась вода, и льдины, обгоняя друг друга,
стремительно неслись в глубь залива, на затопляемые луга. Там, где стояла
лодка, бежали льды.
— Хорхой! Хорхой! — закричал Богдан не своим голосом. — Лодку унесло!
Слышишь, лодку унесло! Вставай! Вставай!
Хорхой соскочил с нар, подбежал к дверям и замер от удивления, он
впервые увидел, чтобы льдины неслись в обратную сторону, против течения.
— Это ты, ты виноват! Зачем было пальцем тыкать на лед! Пусть плыли бы,
зачем тыкать?! Этот лед возвращается, чтобы убить тебя. Я не хочу умирать с
тобой! Не хочу!
Богдан только теперь вспомнил вчерашнюю шалость, когда ошалевший от
весеннего солнца, воздуха, он тыкал пальцем в плывущие льдины. Вспомнив это,
он затрясся в страхе и опустился на порог, потому что ноги уже не держали
его.
«Неужели это смерть?» — думал он, глядя, как на глазах поднимается вода
в заливе, как спешат льды в глубь залива и дальше — в большое озеро.
Вода все выше и выше поднималась, подбиралась к порогу землянки. Белые,
голубые, зеленые льды мелькали перед Богданом, но он не видел их, глаза его
были закрыты, и между век струились слезы. Хорхой смотрел на мелькавшие
льдины и тоже плакал. Вдруг Богдан упал на колени на пороге землянки, лицом
к поднявшемуся над сопками солнцу и начал молиться. Вода подступала к его
коленям, льдины, сталкивая друг друга, мчались в шаге от него, ломая кусты.
Богдан молился солнцу и эндури, он просил пощады. Хорхой выбежал из
землянки, поискал потолще тальник, подбежал и стал карабкаться на него. А
вода поднималась все выше и выше.
— Богдан! Богдан! Беги сюда! — кричал Хорхой, стуча зубами от страха.
Богдан услыхал шум воды, хлынувшей в землянку, и тут же увидел мчавшийся
на него кусок голубого льда. И только тогда он бросился в сторону большого
тальника.
Обессиленный, подавленный Богдан с трудом взобрался на тальник, сел на
развилке и огляделся. Горловина разлива расширилась, превратилась в протоку,
куда устремились льдины с Амура. Узкий перешеек между заливом и большим
озером был затоплен, и озеро стало заполняться льдом. Как ни всматривался
Богдан в сторону озера, но не мог разыскать в белом крошеве черную точку
лодки.
«Раздавило, — подумал он. — А как дедушка? Где он спасается?»
Богдан взглянул вниз, у входа в землянку образовался ледяной затор,
подходили все новые, новые глыбы льда. Вода непрерывно поднималась, льдины с
прежней скоростью неслись в глубь залива и дальше — в озеро.
— Богдан, ты виноват! — крикнул с соседнего тальника Хорхой. — Молись
эндури, проси пощады! Видишь, как вода поднимается, скоро до нас доберется и
льдиной собьет нас. Молись!
Как же молиться на развилке тальника? Как встать на колени, как отбивать
поклоны! Богдан испуганно смотрел, как вода, заполнив землянку, стала
окружать ее, подниматься все выше и выше.
— Погибнем! Совсем погибнем! — плакал Хорхой.
«Неужели это правда? Неужели нельзя тыкать пальцем в плывущие
льдины?» — думал Богдан.
Он зажмурил глаза, уткнулся лбом в ствол тальника и заплакал. Ему стало
беспредельно жалко себя, своей молодости, он еще ничего не успел сделать в
жизни и не хотел умирать. Выплакавшись, он вытер глаза, посмотрел на залив и
вдруг увидел, что льдины медленно и, как бы нехотя, двигались к горловине
залива.
— Богдан, ты видишь? — спросил Хорхой. — Лед уходит.
Вода начала спадать на глазах, льдины набирали скорость и с шумом, с
грохотом покатились обратно в Амур.
Когда вода ушла, Хорхой соскользнул с тальника, обошел вокруг застрявшей
в кустах глыбы льда, пнул ее ногой.
Он пошел дальше и плевал в каждую льдину, которая недавно только вселяла
в него неописуемый страх.
В землянке было полно воды, у входа на жердочке висела связка уток.
— Котел наш пропал, корзина с посудой тоже, — перечислял Хорхой. Он
совсем оправился от страха и говорил больше обычного.
— Хорошо, Богдан, что ты вовремя помолился, эндури услышал тебя, помог
нам. Все же ты напрасно вчера тыкал пальцем в льдину и храбрился. Зря. В
следующий раз будишь знать. Говорил я тебе, не делай этого, старики
запрещают.
Богдан в пол-уха слушал болтовню Хорхоя и думал о Пиапоне.
Богдану надоела болтовня Хорхоя, и он сказал:
— Давай щипай уток.
— Жарить будем? Хорошо. Только я думаю, нам достанется дома за то, что
не сберегли котел, чайник и посуду. Они ведь дорогие.
«Мальчишка! Хорошо еще, что голову сохранили», — раздраженно подумал
Богдан. Он собрал хворост, разжег костер. Руки его все еще дрожали. Никогда
Богдан в жизни не испытывал такого страха, какой испытал недавно. И сейчас
все еще не приходило успокоение, дрожали руки, тошнота временами подступала
к горлу. Но все же он думал больше не о себе, а о Пиапоне. Где он? Что с ним
случилось?
Хорхой, не прекращая болтовни, общипал три утки, их вдели на вертела и
стали жарить. Запахло вкусным жареным мясом. Только теперь юноши
почувствовали, как они проголодались.
Время шло. Солнце, пройдя зенит, приготовилось опуститься за синие
сопки. Юноши, с жадностью проголодавшихся собак, съели полусырую утятину и
незаметно для себя уснули на подсохшем песке. Проснулся Богдан от легкого
треска ломаемого хвороста. Он открыл глаза и увидел пляшущие красные языки
пламени. Возле костра сидел Пиапон, ломал тонкий хворост и подбрасывал в
огонь. Проснулся Хорхой.
Увидев Пиапона, он стал рассказывать о пережитом.
— Увидел, беда, думаю. Богдан молится, а в него, ка-ак мотнется лед! Я
думал — погиб. А он тоже ловкий, ка-ак отпрыгнет, точно коза. А я хитрый, я
побежал вон на тот тальник и быстро, как белка, взобрался. Оттуда позвал
Богдана, он был белый как снег, еле-еле взобрался. Еще бы не бояться, когда
каждая льдина мечется в тебя, хочет насмерть убить.
— Дед, это Богдан виноват. Он тыкал пальцем в плывущие льдины. Я
говорю, нельзя, это грех, а он тычет, еще говорит, почему не возвращается,
почему не ударит меня. Вот и вернулись льдины, сговорились и вернулись.
Богдан смущенно молчал, чувствуя свою вину. После всех пережитых
потрясений, он уверовал в том, что льды действительно возвращаются, чтобы
наказать за кощунство.
Пиапон молча слушал Хорхоя, он знал, что пережили молодые охотники,
более того, он догадывался, что Хорхой натерпелся больше страха, чем Богдан.
— Храбрый ты, Хорхой, — сказал он. — Когда станешь настоящим
охотником, меньше говори о себе. Хорошо? А теперь слушай. Я не знаю,
наказывают льдины за то, что тычешь в них пальцем или нет. Не проверял. На
этот раз льдины пошли обратно, потому что на Амуре, где-то у Малмыжа,
получился затор. Понимаешь? Лед запрудил Амур. Вода начала подниматься и
хлынула в тихие протоки, заливы, и лед поплыл в обратную сторону.
Богдан смотрел на Пиапона, с каждым его словом ему становилось все легче
и легче. Пиапон будто снял с него тяжелую ношу. Как просто он объяснил это
необычное страшное явление.
— Лодку вашу раздавило льдами, — сказал Пиапон и вдруг, глядя в глаза
Хорхоя, спросил: — А ты не испугался?
— Испугался, — вполголоса сознался Хорхой. «Про свой испуг тоже надо
было рассказать».
Хорхой опустил голову, от стыда заалели щеки. Богдан с благодарностью
взглянул на Пиапона и вдруг вспомнил, как он «вытирал с лица свой позор»,
как говорили в стойбище.
...Собачьи упряжки Пиапона и Богдана намного опередили лошадь Полокто.
Когда приехали домой, никто не стал возиться с собаками, привязали нарты и
молча зашагали к крыльцу. Первым вошел в дом зять Пиапона, за ним сам
хозяин, вслед за ними — Калпе и Богдан. Богдан волновался, у него потели
руки. Он не спускал глаз с Пиапона и с Миры.
— Чего собак не отпустили? Их надо накормить, — сказала Дярикта.
Пиапон снимал с себя верхнюю одежду и молчал. Зять его вдруг подбежал к
жене, схватил ее за косу и начал бить кулаками по спине. Хэсиктэкэ закричала
истошным голосом.
— Что это такое? За что это? — спрашивала Дярикта.
И только Мира молча смотрела на мать. Дярикта поняла наконец, в чем
дело, и отошла за печь.
— Оставь ее, — раздался негромкий голос Пиапона.
Зять словно не расслышал и продолжал избивать жену.
— Оставь, говорю! — уже громче повторил Пиапон.
Зять взглянул на него и закричал:
— Нет, не оставлю! Она опозорила меня, наш дом, отца. За все должна
получить. А я думал, мой сын, мой сын... а он чужой...
— Чужих у нас нет в доме, — сказал Пиапон и устало опустился на
табуретку. — Оставь ее!
На этот раз зять послушался. Хэсиктэкэ упала на кровать и зарыдала. Мира
стояла прислонившись к печи и не шелохнулась. Богдан не спускал с нее глаз,
он догадывался, что происходило в душе этой молодой красивой женщины. Он
жалел ее.
— Твой позор здесь, в стойбище, зарыт, — сказал Пиапон. — А мой,
оказывается, давно гуляет по всему Амуру. Все смеются за моей спиной, все
считают меня... Ничего не скажешь, ославили меня жена и любимые дочери.
Теперь я посмешище, любой, кому не лень, может плюнуть мне в лицо.
Стоявший возле Богдана Калпе закричал:
— Всех опозорили! Повесить вас мало!
Пиапон недовольно посмотрел на него, будто сказал: «Не лезь не в свое
дело».
Тут подала голос Мира.
— Отец, я во всем виновата, я опозорила тебя, — тихо сказала она. —
Застрели меня...
— Пороху и пули жалко, — ответил Пиапон.
— Тогда повесь, утопи в проруби...
Мира не плакала, она сознавала свою вину, и это придавало ей твердость.
— Виновата ты, что и говорить. Следовало бы тебя в прорубь спустить, да
Амур опоганишь, а из Амура все воду пьют.
В доме стояла тишина. Богдан не на шутку испугался: слова Пиапона
звучали зловеще, и он приготовился заступиться за Миру.
Только один человек в доме оставался безучастным, не понимал
происходящего. Это маленький Ваня. Он сидел на широкой кровати деда и
удивленными глазенками смотрел, как избивали Хэсиктэкэ, слушал голоса
старших, будто пытаясь вникнуть в суть разговора.
— Ты виновата, твоя вина раньше искупалась только твоей кровью. Ты
знаешь это, — добавил Пиапон.
Богдан внимательней прислушался к Пиапону и теперь только уловил, что
хотя он говорил о страшных вещах, но голос его не был злым, наоборот, он
говорил успокаивающе, мягко.
— Ты одна не догадалась бы скрыть беременность, не догадалась бы
подсунуть сына сестре...
— Это я! Я! — закричала из-за печи Дярикта. — Убей меня! Это я!
И тут, услышав голос бабушки, заплакал Ваня. Он сполз с кровати и
побежал на ее крик.
Пиапон схватил его на руки и прижал к груди.
— Не сопи, никто не собирается тебя убивать, — спокойным голосом
проговорил Пиапон. — Не пугай внука. Два года носил этот позор, еще всю
жизнь могу с ним не расстаться.
Богдан облегченно вздохнул, Капле заерзал. Зять не шелохнулся, он как
сел на табурет после окрика Пиапона, так и продолжал сидеть. Только у Миры
не выдержали нервы, она упала перед отцом на колени и горько заплакала.
— Это твоя мать, — сказал Пиапон внуку. — Пусть она успокоится и идет
вымоет лицо. Ничего, Ваня. Ты вырастешь крепким, говорят, зайцы всегда
растут крепкими и счастливыми.
И тогда Богдан подумал, что Пиапон, его дед, самый справедливый человек,
он взял на себя позор, не стал его смывать кровью. Богдан видел, какой
любовью загорались у него глаза, когда он брал на руки внука, слышал, как
звонко смеялся, когда играл с ним. Так в доме Пиапона восстановилось
спокойствие.
ГЛАВА ПЯТАЯ
29 июня 1918 года Владивосток захватили интервенты. Свержение власти
Советов во Владивостоке активизировало белогвардейцев во всех концах
Дальнего Востока. На помощь им спешили интервенты. 2 августа в трех верстах
от Николаевска-на-Амуре бросили якоря четыре японских миноносца. В этот же
день в Николаевск отправилась канонерская лодка «Смерч» и 250
красногвардейцев.
3 августа правительство США опубликовало декларацию о посылке своих
войск в Сибирь, якобы для оказания помощи чехословацкому корпусу и русскому
народу в борьбе с германо-мадьярским засильем. В этот же день во Владивосток
из Гонконга прибыл 25-й Мидлсекский полк английских войск. 9 августа из
Индокитая прибыл батальон французов. С 11 по 15 августа выгружалась японская
дивизия. С 15 августа начали прибывать части американской дивизии.
Интервенты наращивали силы.
Шестой день Гара гостил в Мэнгэне у родителей жены. Он несколько раз
выезжал на рыбалку, поймал с десяток осетров, большую калугу, ездил с
молодыми сверстниками бить острогой сазанов. Ловкостью он не отличался, но и
последним не остался. Жена и ее родители были довольны им. Толстощекая,
насмешливая Несульта, жена Гары, рассказывала соседкам:
— В большом доме кто родился, все ловкие, сильные. Правда, мы сейчас
отдельно живем, отец мужа построил деревянный дом, не хуже чем у Американа.
Он тоже богатый, только об этом не говорит.
В Мэнгэне знали всех сыновей Баосы, знали их жен, детей и, усмехаясь,
слушали молодую женщину.
«Разбогател наконец-то Полокто, — будто говорили они своей улыбкой. —
Всю жизнь хочет стать богатым, наконец-то разбогател».
Гара в первый день приезда был удивлен осведомленностью мэнгэнцев, они
знали все, что происходило в Нярги. Удивило Гару и другое. Он думал, что
только в Нярги его отца зовут Хуктэ-мапа (Хуктэ-мапа — старик зуб.), а
оказалось, что в Мэнгэне тоже будто позабыли имя Полокто и звали Хуктэ-мапа.
Так Полокто стали звать после того, как русский начальник выбил у него зубы.
Правда, Полокто еще не старик, но к слову «зуб» очень подходит слово
«старик», потому и стали звать Хуктэ-мапа. Охотники, которые давали это
прозвище Полокто, по-видимому, подумали так: если Баосу звали Морай-мапа, то
сына будем звать Хуктэ-мапа.
— Здесь про твоего отца, про отца Миры знают больше, чем мы с тобой
знаем, — как-то сказала Несульта мужу.
— Потому что нашего деда знал весь Амур, — ответил Гара.
Только рыбная ловля скрашивала жизнь Гары в Мэнгэне, он скучал и подолгу
просиживал возле дома жены, курил трубку за трубкой и смотрел, как
соседка-горбунья хлопотала возле очага.
Низенькая, худенькая горбунья, похожая на птичку с подстреленными
крыльями, целыми днями хлопотала по дому, хотя в доме находились и другие
здоровые женщины. Ей было около тридцати лет, но ее никто не брал в жены,
несмотря на то, что она была бойкая и работящая. Часто многие охотники
ценили в женщинах не красоту, не привлекательность, а трудолюбие. Но за
горбунью никто не сватался.
— Она очень хорошая, добрая, сердечная, — говорила Несульта. — Без
дела не может сидеть, ей хочется все время двигаться. А как она любит детей,
а как вкусно готовит еду! Если бы не было у нее горба, она стала бы самой
хорошей женой.
Наглядевшись на горбунью, Гара шел к дому Американа, обходил дом богача,
приглядывался к жильцам. Самого Американа не было дома, одни говорили, что
он уехал в Николаевск, другие утверждали — в Хабаровск, третьи говорили,
что он у молодой жены — ульчанки в стойбище Карчи. Одним словом, никто не
знал, где находится Американ, даже жена и ее взрослые дети. Гара,
полюбовавшись домом Американа, шел дальше к своему приятелю Пячике Гейкер.
Пячика был единственный мэнгэнский молодой охотник, с кем подружился Гара.
— Скажи, что за человек этот Пиапон? — спросил он при первом же
знакомстве.
— Хороший человек, — сказал Гара.
— Говорят, он умный, — продолжал Пячика. — Почему тогда он не мог
разобраться, которая из дочерей беременна? А потом целых два года не знал,
от которой дочери внук. Так не бывает.
— А с Пиапоном был такой случай, — сказал Гара.
— Он, наверно, рассеянный.
— Он честный человек и о всех людях судит по себе.
— Тогда, значит, он не такой умный, как о нем говорят. Надо же — два
года его обманывали. Скажи, а какая эта Мира?
— Красивая, добрая.
— Наверно, за всеми молодыми охотниками бегает?
— Нет, не бегает.
— Рассказывай! Как тогда забеременела? От ветра?
Гара рассердился:
— Она моя родственница, сестра, понял? За такое на палках дерутся.
— Я и забыл, — усмехнулся Пячика, — вы, няргинские, всегда на палках
деретесь.
Гара размахнулся и ударил Пячику в ухо. Пячика, не ожидавший удара, не
успел защититься. Когда оглушенный, растерянный он поднимался на ноги, Гара
еще раз ударил его и ушел. На следующий день Пячика явился к нему, нашел
возле дома, подсел и сказал:
— Няргинцы и кулаками хорошо дерутся.
— Что тебе надо? — спросил Гара.
— Хочу дружить с тобой. — Пячика закурил. — Слова свои я забираю
обратно, Гара, о твоей сестре ничего плохого не думаю.
«Испугался», — самодовольно подумал Гара.
— Не думай, что я тебя испугался, — словно прочитав мысли Гары, сказал
Пячика. — Не стал я драться, потому что понял, что я не прав, нельзя о
незнакомых людях плохо говорить.
С этого и началась дружба Гары с Пячикой, и они встречались каждый день,
рыбачили плавными сетями, били острогой сазанов.
Пячика оказался любознательным человеком и напоминал Богдана. Он знал
многое, чего не знал Гара, он часто ездил в свободное время в Вознесенское
или в Малмыж, у него было много знакомых среди русских. Но больше всего он
гордился своим знакомством с телеграфистами.
— Они все знают, все, что происходит на земле, — захлебываясь,
рассказывал он. — Ты знаешь, что они говорят? Земля, говорят, круглая. А я
не верю. Не верю — и все! А еще говорят, она крутится. Не верю, если она
круглая, да еще крутится, то все дома, горы, деревья да мы сами, как
камешки, слетели бы с нее. Верно я говорю? Попробуй удержись на круглой
земле! А про другие дела они не врут, все правильно рассказывают.
— Ты проверял, что ли? — недоверчиво спрашивал Гара.
— Как я проверю? Где-то на краю земли что-то происходит, я даже не знаю
где это, как проверю? А они все знают, все слышат, им передают по железным
нитям.
— Эти железные нити всю землю опутали, что ли?
— Да, всю землю. Если что произойдет на том краю земли, мы сразу
услышим в этом краю. Здорово придумали эти русские! Вот бы нам натянуть
железные нити между нашими стойбищами, могли бы обо всем переговариваться,
сообщать новости.
— Без железных нитей новости в один день доходят.
— Доходят, да не так быстро. Ты по-русски говоришь?
— Нет, не умею.
— Тебе надо научиться говорить. Малмыжский начальник железных нитей
говорит, что на земле плохо идут дела, опять, говорит, война идет, большая
война, белые хотят красных уничтожить, богатые хотят власть возвратить,
потом будут бедных мучать как раньше мучали. А бедные не хотят этого, Ленин
не хочет этого. Ты знаешь кто Ленин?
— Слышал о нем, нам Пиапон и Богдан рассказывали.
— Ленин — самый большой дянгиан, он как царь, самый главный. Только
раньше царь за богатых стоял, а Ленин — за бедных. Понял? Все бедные люди
его любят.
«Все он знает, — думал Гара, слушая приятеля. — Он похож на Пиапона и
Холгитона, те тоже все знают. Какое наше дело, что красные воюют с белыми?
Мы находимся совсем в стороне, они нас не касаются, мы их не касаемся, живем
сами по себе».
Шестой день в Мэнгэне Гаре показался самым скучным и тоскливым. Низкие
черные тучи, непрерывный дождь навевали тоску, грустные мысли. Несульта и ее
родители всячески пытались развеселить Гару.
— Жаль, Американа нет дома, можно было бы водки у него взять, —
говорил отец Несульты. — Погода плохая, можно было бы попить, повеселиться.
— Время такое тяжелое, — вздыхала мать Несульты.
...После полудня подул верховик и рассеял тучи. Выглянуло омытое дождем
солнце, птицы запели, защебетали в кустарниках и на тальниках. Собаки
вылезли из-под амбаров, женщины захлопотали возле летних очагов. Одной из
первых вышла горбунья, затопила очаг, и в большом котле задымилось варево
для собак. Собаки чуяли похлебку и разлеглись вокруг очага.
— Чего вы мешаете мне? Ну, чего мешаете? Могли бы лечь в сторонке,
никуда от вас не денется ваша еда, — ворчала горбунья. — Не бойтесь, я
сама не стану есть вашу похлебку, другим собакам тоже не отдам, так что
можете не караулить.
Гара сидел возле своей фанзы и слушал воркотню горбуньи.
Пришел Пячика навестить приятеля.
— У нас на Амуре тоже, видно, неспокойно, — сказал он после
приветствия. — Ты видел сегодня? Пароход с большими пушками проплыл вниз.
Что-то в последнее время они часто здесь плавают, раньше их не видно было.
Приятели закурили трубки, замолчали. Гару не затронуло сообщение друга о
появившемся на Амуре пароходе с большими пушками, он придерживался широко
распространенного среди охотников мнения, что русские живут своей жизнью, а
нанай — своей, что делают русские — не касается нанай, что делают нанай —
не касается русских. Его куда больше беспокоила подготовка к осенней кете,
нынче отец его предполагал выловить кеты больше, чем в прошлые годы, и
собирался хорошо подзаработать. Приказчик Саньки Салова обещал щедро
вознаградить рыбаков, он получил такой наказ из Николаевска от самого
Саньки.
«Еще дня три погощу и домой, — решил Гара. — Хватит бездельничать».
— Ты поднимался по Хунгари? — спросил Пячика, заметив, что его
приятеля не интересуют разговоры о войне красных с белыми и о пароходах с
большими пушками.
— Нет, — ответил Гара.
— Богатая река. Может, поднимемся, лоси сейчас хороши, набрали жирку.
Гаре понравилось предложение Пячики, он был рад поохотиться на лосей. Он
давно приглядывался к берданке отца Несульты, но стыдно охотнику без дела
брать в руки оружие. Теперь есть повод подержать ее в руках. Какой же
охотник не любуется хорошими ружьями!
Гара вынес из фанзы берданку, сел возле Пячики на песок.
— Это хорошая берданка, — сказал Пячика. — Я видел медведя и лося,
которых настигла пуля этой берданки. Мало крови было. Наповал валил.
Гара повертел в руке тяжелую берданку, погладил ствол, и на его ладони
осталась смазка. Он вытер ладони об олочи и, проверяя пружину затвора,
оттянул курок.
— Туго, — удовлетворенно сказал он. — Осечки не даст.
Он нажал на спусковой крючок, раздался оглушительный выстрел, берданка,
как живая, выскользнула из рук Гары. Оглушенный неожиданным выстрелом, Гара
растерянно хватался 'за горячий ствол берданки. Выбежавший из фанзы отец
Несульты закричал:
— Аоси! Аоси! Что ты наделал?!
Гара взглянул на испуганное лицо охотника и сказал:
— Кто же дома ружья заряженными...
Но не досказал он, взглянул в ту сторону, куда смотрели расширенные от
испуга глаза охотника, и замер — возле очага в окружении собак лежала
горбунья. Пячика подбежал к ней, поднял худенькое тело.
— Тетя! Тетя! Ты ранена? Ранена? — спрашивал он. Горбунья не отвечала.
От испуга ноги Гары будто приросли к песку, мускулы окаменели, он
смотрел на Пячику, на горбунью, на висевшие плетью ее руки и ноги, и ничего
не мог сказать. Голова была пустая, в ушах звенело. К нему подбежала
Несульта.
— Что ты наделал?! Что наделал? — рыдала она, обняв его за шею.
А Гара стоял и не отводил глаз от Пячики и горбуньи.
— Тебя убьют, слышишь, тебя убьют! Бежим отсюда! Домой бежим!
Гара стал приходить в себя.
«Да, да, надо бежать. Бежать, как можно скорее». Гара бросил на песок
берданку и, не отводя глаз от Пячики и горбуньи, бочком, бочком зашагал к
берегу и, сделав несколько шагов, припустился бежать.
— Обожди меня, я сейчас вещи соберу! Обожди.
Гара бежал на берег, не оглядываясь. Вот и оморочка, тут же весла,
маховик. Гара столкнул оморочку, сел и бешено замахал маховиком.
— Меня возьми! Зачем меня оставляешь?! Вернись.
Но Гара ничего не слышал, он бежал, он спасал свою жизнь.
Несульта с узлом в руке бежала по берегу и кричала, звала мужа. Гара
оглох от страха, он греб широко и размашисто. Высокие волны бежали ему
навстречу, могучее течение отбрасывало оморочку назад. Оморочка наконец
нырнула в тихую протоку, где не гуляли высокие волны, ветер не хлестал с
лицо. Надвигался вечер, красное, будто окровавленное солнце, садилось за
сопками. Гара спешил, ему казалось, что вот-вот из-за поворота появятся
оморочки с преследователями. Он отложил маховик, пересел вперед и начал
грести веслами. Теперь он немного успокоился: если появятся преследователи,
он их увидит первым, и они не будут стрелять ему в затылок. Гара представил,
как в него целятся из берданки, и зажмурил глаза.
Протока опять вышла на Амур широкий. Ветер на реке утих, волны стали
меньше. На землю опускалась ночь, на небе проклюнулись звезды, звуки на
Амуре стали слышны отчетливее.
Гара вернулся домой в полночь. Он открыл дверь, перешагнул через порог и
тут же опустился на пол.
— Кто там? Свет почему не зажигаешь? — раздался встревоженный голос
матери.
Полокто стал чикать кресалом по кремню, раздул разгоревший кусочек
сухого древесного гриба, от него зажег кусок бересты.
— Кто там? Чего молчишь? — спросил он.
Мида соскочила на пол, взяла у него бересту и зажгла жирник. И все
увидели сидевшего у порога Гару.
— Что случилось, сын, что случилось? — встревожилась Майда. — Где
Несульта?
— Я убил человека, — сказал Гара.
— Несульту убил?! Несульту? Жену свою? — спросили одновременно Майда,
Гэйе и Мида.
— Кого ты убил?! — закричал Полокто.
— Горбунью.
— Какую горбунью?
— Женщину, в Мэнгэне.
— За что убил? Что она тебе сделала?
— Ничего. Случайно.
В доме наступила тишина. Ойта тяжело заворочался в постели. Полокто сел,
открыл коробку с табаком и стал набивать трубку.
Майда подняла сына с пола, посадила на единственную табуретку.
— Где Несульта? — спросила она.
— Не знаю.
— Человека убили! Только этого еще не хватало нам, — кричал
Полокто. — Другие семьи всю жизнь спокойно живут, спокойно умирают, о них
ничего не слышно. А мы? Про нас по всему Амуру говорят. Теперь человека
убили. Что теперь делать? Русские тебя в дальние края сошлют, в холодные
края. Русские законы — строгие законы.
Полокто замолчал. Молчали и остальные, все думали о дальнейшей судьбе
Гары. Майда тихо всхлипывала, сидя на корточках возле сына, она уже
прощалась с ним.
— Может не на смерть, а? — спросила она, всхлипывая.
— Умерла.
Полокто думал о позоре, вспомнил побоище на берегу Нярги, смерть Ганга.
Свой позор он пережил, а теперь появилась новая беда, большая беда, о ней
узнает весь Амур, и люди будут говорить: смотрите, младший сын его Гара —
убийца. С детьми плохо и без детей плохо. Все Заксоры должны выступить, если
Гейкеры выступят против Гары. Но род их небольшой, скорее они к русским
властям обратятся. Русские законы строгие... Может, по своим, нанайским
законам решить? Потребуют человека. А где найти лишнего человека? Кого
отдать взамен?
— Ты к старику Гогда, нашему дянгиану, не заходил? — спросил Полокто.
— Нет.
«Что же делать? Что предпринять? Гейкеры, хотя их немного, но они злые,
могут с ружьями полезть. Посоветоваться бы с кем, как нам быть...».
В Нярги, кроме Пиапона, не с кем советоваться. Не хотелось Полокто идти
к брату, но что поделаешь, без его совета не обойтись.
Утром Полокто зашел к брату. Пиапон очень удивился раннему гостю,
Полокто впервые зашел к нему после зимней ссоры. Гость тяжело опустился на
табурет, закурил поданную трубку и, тяжело вздохнув, сказал:
— Отец Миры, беда большая вороной опустилась на наши плечи. Гара вчера
в Мэнгэне нечаянно убил человека.
В доме все замерли от неожиданности. Пиапон долго думал, попыхивая
трубкой.
— Давно наш род не знал такой беды, — сказал он, подумав. — Да,
большая беда. Я думаю, Гейкеры к русским не обратятся, потому что у русских
сейчас своих дел хватает. Надо ждать, что они предложат. Если молчать будут,
нам самим надо попытаться уладить все миром. У них есть горячие молодые
люди, через всякие законы могут переступить, кровную вражду из-за женщины
могут объявить. Пусть Гара никуда не ездит, пусть сидит дома, а то всякое
может случиться.
— Ты думаешь, они убьют его? — испуганно спросил Полокто.
— Я не говорю этого. Но пусть Гара сидит дома. Готовь гонцов в Болонь,
в Чолчи, в Хулусэн, надо всем Заксорам сообщить о беде. Пусть будут готовы
на всякий случай. Надо еще послать к нашему дянгиану Гогда-мапа, пусть он
сейчас начинает переговоры со старейшинами Гейкеров.
Полокто исполнил все, что говорил Пиапон. Больше нечего было
предпринимать, оставалось только ждать вестей со стойбища Мэнгэн. Первая
весть пришла вечером этого же дня, привез ее отец Несульты.
— Гейкеры собирают ружья, порох, свинец, после похорон приедут сюда, —
сообщил он и встал на колени перед Полокто и его братьями. — Я виноват во
всем, меня надо было застрелить. Я виноват!
Несульта, приехавшая с отцом, подбежала к нему, попыталась поднять отца
с пола, но он отмахнулся от нее.
— Виноват я, простите меня, люди рода Заксор. Всю жизнь ружья держу
заряженными, их никто не трогал без меня. А тут не предупредил я зятя...
— Вставай, отец Несульты, — сказал Полокто. — Женщину уже не
поднимешь из гроба. Беда пришла, надо с открытыми глазами ее встретить.
В стойбище Нярги замерла жизнь, никто из Заксоров не выезжал на рыбалку,
не чинил невода и сети, хотя до кетовой путины осталось совсем немного.
Глядя на Заксоров, перестали чинить невода и люди других родов, они тоже
собирались в большом доме, пили чай, слушали по вечерам сказки. Все стойбище
находилось в ожидании дальнейших событий.
После отца Несульты в Нярги приехал дянгиан — судья Заксоров
Гогда-мапа.
— Гейкеры всегда были несговорчивы, — сказал старый дянгиан. — Теперь
совсем голову потеряли, грозятся. Надо созвать всех Заксоров.
Гонцы тут же сели в оморочки и устремились в стойбища Болонь, Чолчи,
Хулусэн. «Люди рода Заксор! Становитесь один за другим, плотнее ряды, на нас
грозятся с оружием идти Гейкеры!» — разнесся клич по Амуру.
«Гейкеры! Заксоры убили нашего человека, пролита кровь Гейкеров. Где бы
вы ни были, на Сунгари или Уссури, на Анюе или Харпи, на Хунгари или Горине,
собирайтесь!» — летела и другая весть по Амуру.
Большинство Заксоров жили рядом, в соседних стойбищах, потому на
следующий же день стали подъезжать на лодках, на оморочках, многие приезжали
с семьями. Приехал даже престарелый хозяин Хулусэнского жбана счастья
Турулэн с сыном Яодой и внуками. Старик еле стоял на ногах и почти не видел.
— В моей жизни два раза Заксоры убивали людей, это третий случай, —
прошамкал старик. — Внуки, ружья вы захватили? Хорошо, в такое время без
ружья нельзя.
Стойбище Нярги стало похожим на рыбацкий стан во время кетовой путины —
весь берег был обставлен берестяными хомаранами. С приездом сородичей
няргинские Заксоры повеселели.
Богдан ходил между этими хомаранами, разговаривал с приезжими,
расспрашивал о знакомых, он вместе с Полокто и Пиапоном встречал всех
приезжающих.
— Вы верите, что Гейкеры будут драться? — спрашивал он приезжих.
Почти все отвечали, что сомневаются в этом. Гейкеров совсем мало на
Амуре, а Заксоров много, как же они могут драться.
— Зачем вы тогда приехали в Нярги? — задавал второй вопрос Богдан.
При этом вопросе все удивленно глядели на Богдана и отвечали, будут
воевать Гейкеры или нет — это неважно, но приехали они, потому что родная
кровь Заксоров их позвала; когда беда нависла над Заксорами, все должны
сесть в одну лодку и вместе сражаться.
Богдана не удовлетворяли эти ответы, и он обратился к Пиапону.
— Так надо, — ответил Пиапон. — Если мы все не объединимся, даже
небольшая кучка Гейкеров нас поодиночке уничтожит. В беде, в радостях надо
всем Заксорам вместе быть. Иди, потолкуй с дянгианом Заксоров, он тебе
объяснит.
Богдан встретился с Гогда-мапа, дянгианом Заксоров. Высокий жилистый
старик Гогда, с коричневым, обветренным лицом, не обратил внимания на
Богдана: среди Заксоров много было юношей.
— Дака, я хочу с тобой поговорить, — сказал Богдан.
Дянгиан Заксоров взглянул на него поблекшими глазами и кивнул.
— Дака, справедливо ли Заксорам воевать с Гейкерами? — спросил Богдан.
— Почему не защищаться, если они нападут? — ответил старик.
— Они не нападут.
— Откуда ты знаешь? — старик разговаривал с юношей, но ни разу не
взглянул на своего собеседника.
— Все это знают. Их совсем мало, а нас много. И нам стыдно собирать
столько людей, отрывать от дела. Скоро кета подойдет, людям надо готовиться
к ней.
Теперь только старик Гогда взглянул на Богдана, оглядел его, будто
прощупывал, и спросил:
— Ты откуда, нэку?
— Я сын Идари.
— Сын Идари, который по отцу Киле, а стал Заксором? — старик
смягчился, даже улыбнулся. — За людей беспокоишься — это хорошо. Но ты
знаешь, в беде весь род вместе становится в ряд.
— Знаю, дед. Но сейчас Заксоры не правы...
— Э-э, ты не Заксор, твои слова выдают тебя, ты не Заксор...
— Нет, я Заксор, я большому деду дал слово и я — Заксор. Только я
говорю, мы не правы. Мы убили человека, мы должны просить, чтобы Гейкеры
смягчили сердца, и это было бы справедливо. А сейчас, что выходит? Мы убили
человека, и мы же собираемся воевать, когда другой род не собирается
воевать.
— А если внезапно нападут?
— Дед, убита женщина, немолодая, некрасивая, горбатая, которую никто не
брал в жены. Разве какой род пойдет войной из-за женщины? Да еще некрасивой.
— Женщина тоже человек, — сказал старик Гогда и уставился на Богдана.
— Но женщину у нас покупают и продают, она рожает людей не для своего
рода, а для рода мужа.
Старик Гогда теперь уже не спускал глаз с молодого охотника.
— Воевать из-за горбатой женщины — это позорить свой род, — продолжал
Богдан.
Вокруг него и старика Гогды собрался народ, все слушали молодого
охотника, и никто не перебивал его. Охотники понимали, что это не простой
разговор — это спорят два ума — молодой и старый. Всем было интересно
знать, кто из них выйдет победителем. Старый Гогда был настроен миролюбиво,
он не хотел спорить, он хотел только проследить за ходом мыслей молодого
охотника.
Старик Гогда давно приглядывался к молодым людям рода Заксор. Он искал
себе преемника. И сейчас он понял, что Богдан как раз тот человек, которому
он сможет передать свое мастерство, свой опыт дянгиана-судьи.
— Он умеет русские книги читать, — сказал кто-то, и этим совсем
расположил старого дянгиана к Богдану.
— Если будет суд, нэку, ты будешь моим помощником, — сказал Гогда и
мягко улыбнулся.
Тут слова престарелого дянгиана-судьи подхватили охотники, и вскоре все
стойбище заговорило, что старый Гогда готовит себе преемника, а его преемник
должен быть умный молодой человек, и трудно кого-нибудь найти, кроме
Богдана.
На третий пасмурный, дождливый день снизу к острову, на котором стояло
стойбище Нярги, подошли три больших неводника, нагруженные охотниками.
Раздалось три выстрела, извещавшие, что Гейкеры прибыли на остров. Вскоре
послышался стук топоров — Гейкеры очищали площадку для табора, весь
вырубленный тальник сложили стеной вокруг площадки.
Стойбище Нярги всполошилось, молодые охотники с ружьями наперевес бегали
между фанзами, женщины собирались кучками у какой-нибудь хозяйки и тоже
говорили о войне. Дети, не признававшие никаких законов, бежали к
тальниковому валу Гейкеров и смотрели, как они ставили свои берестяные
хомараны. Никому из взрослых Заксоров не разрешалось приблизиться к
тальниковому валу, но детям все позволено, и Гейкеры не обращали на них
внимания. В середине площадки они поставили самый большой хомаран, здесь
будут жить старейшина, дянгиан, старые мудрецы, здесь они будут держать
между собой совет. Возле хомарана разожгли большой костер. Надоедливый дождь
перестал, и Гейкеры собрались возле костра. Тут же были старейшина рода
старый Иту, дянгиан-судья старик Мукэчэн (Мукэчэн — палка для драки.).
Гейкеры молча грелись, они ожидали мангу (Манга — посыльный на суде,
передающий решение старейшин рода.) Заксоров. Прошло много времени, выкурены
трубки, к костру подбросили новую охапку плавников, но манга Заксоров все не
появлялся.
— Гордые все Заксоры, — сказал старейшина старый Иту, — будто не они,
а мы виноваты. Ждут нашего мангу. Пусть от нас мангой будет Пячика.
Согласны? Пячика, ты знаешь, какие твои обязанности?
— Знаю, — ответил Пячика.
— Иди к ним, спроси, что думают Заксоры?
Пячика отстегнул ремень, снял с него ножны с ножом и, застегивая на ходу
ремень, вышел за тальниковую ограду, на территорию Заксоров. Пячика в
сопровождении мальчишек зашагал к стойбищу. Он смотрел по сторонам,
приглядывался к каждому молодому человеку, надеясь увидеть Гару. Пячике
хотелось подбодрить его, сказать, что в смерти горбатой больше виноват отец
Несульты, который в стойбище держит берданку заряженной. Но Пятака не знал,
что приятель его сидит взаперти и выходит из дому только по нужде.
Мангу Гейкеров встретили и провели в большой дом, где его ожидали
старейшина Заксоров дряхлый Турулэн, дянгиан-судья старик Гогда, Полокто,
Пиапон, Дяпа и Калпе.
Пячика переступил порог, поздоровался и сказал:
— Мы хотим знать, что вы думаете.
Сказав это, Пячика вышел и зашагал обратно.
Все ждали, что скажет старейшина.
— Кланяться не будем, мы сильны, нас много, — прошамкал Турулэн. —
Кто у нас манга?
— Не выбрали еще, — ответил Полокто.
— Чего выбирать, быстроногого надо.
— Хорхой подойдет, — подсказал Пиапон.
Когда привели Хорхоя, Турулэн сказал:
— Ты подойдешь к их ограде и скажешь: я манга Заксоров. Тебя проведут к
старейшине, вот и ему и сидящим вместе с ним скажешь: «Кланяться не будем,
что хотите, то и делайте, нас много, а вас мало».
Полокто переглянулся с Пиапоном. Калпе удивленно уставился на дряхлого
Турулэна. Дянгиан Гогда-мапа заворочался на месте.
— Нет, лучше сказать, что мы согласны на переговоры, — предложил
Гогда-мапа.
Члены совета согласились с мудрым Гогда-мапа и Хорхой побежал передавать
их решение совету Гейкеров. Его встретили у входа в табор Гейкеров, провели
к костру, и Хорхой, передав слова Заксоров, с достоинством вышел за ограду.
— Без суда не обойтись, Заксоры хитрые, умные, могут нас обмануть, —
сказал старик Иту. — Пячика, передай им, что мы приехали со своим
дянгианом.
Пячика, передав слова старейшины совету Заксоров, повернул в табор, на
полпути его обогнал Хорхой.
— У нас тоже есть свой дянгиан, требуется третий, посторонний, —
передал он ответ Заксоров.
Совет Гейкеров недовольно встретил своего мангу, им не нравилась его
медлительность, ответы Гейкеров приходили к Заксорам с опозданием, и это
могло быть растолковано, как нежелание вести переговоры.
— Пячика, — сказал старейшина Иту. — Манга должен быть быстрым.
Смотри, манга Заксоров ходит скорее тебя.
— Он бегает, — сказал Пячика.
— Если он бегает, ты тоже бегай, — ответил Иту.
«Мы предлагаем пригласить дянгиана рода Бельды — старика Питроса из
Болони», — таков был ответ, который принес Заксорам Пячика. На обратном
пути его опять обогнал Хорхой.
— Слушай, эй, — попросил его Пячика, — ты тише бегай, из-за тебя меня
ругают.
Но Хорхой обогнал его и передал:
— Мы тоже согласны, Питрос справедливый дянгиан. Кто поедет за ним?
Пячика, тяжело дыша, стоял возле Хорхоя, когда тот передавал ответ
совета Заксоров.
— Ты, как коротконогий енот, — опять упрекнул Пячику Иту. — Бегай
быстрее! Передай, что мы согласны съездить за Питросом.
На этот раз Пячика вернулся одновременно с Хорхоем.
— Вы приехали издалека, устали, мы съездим за Питросом.
Когда Хорхой передавал эти слова, мимо табора Гейкеров с шумом пролетела
лодка.
— Это Заксоры, — удовлетворенно проговорил Иту, — все они такие,
быстрые, ловкие. Как вы думаете, — обратился он к членам совета, —
Заксоры, кажется, пошли на уступки.
— С чего ты взял? — спросил один из стариков.
— Своих послали в Болонь за Питросом.
На этом переговоры закончились. В таборе Гейкеров охотники сварили еду,
поужинали и, выставив караульных, улеглись спать. Заксоры в Нярги впервые
уснули спокойным сном: состоится суд, значит, не надо ожидать нападения
Гейкеров.
В эту печь приехал третейский судья рода Бельды старик Питрос, а утром
начался суд. Троим дянгианам-судьям отвели фанзу в середине стойбища между
большим домом Заксоров и табором Гейкеров. Старые дянгиане сидели на нарах,
на жестких кабаньих шкурах и курили трубки. Богдан, помощник Гогда-мапы,
находился в стороне, в его обязанности входило открывать и закрывать двери
посыльным Гейкеров и Заксоров. Он впервые присутствовал на суде, да сразу
попал в качестве помощника и потому волновался. Высокий, худой Гогда-мапа,
возвышаясь над другими, сидел вполоборота от своего противника, маленького,
как подросток, дянгиана Гейкеров Мукэчэна. Дянгиан Гейкеров совсем не
соответствовал своему грозному имени. Полный, низкий Питрос, казалась,
дремал, только дымок трубки говорил, что дянгиан рода Бельды бодрствует.
— Всегда в таком деле начинают с виновных, — сказал Питрос. — Что
думают Заксоры?
— Мы не виноваты, — ответил Гогда-мапа.
— Как не виноваты? Ваш человек убил человека из рода Гейкер.
— Он убил случайно.
«Честь рода не хочет ронять», — подумал Богдан.
— Что думают Гейкеры? — спросил Питрос.
— Надо поговорить, — вдруг басом ответил маленький Мукэчэн.
— Что вы хотите? — спросил Гогда-мапа и впервые взглянул на своего
противника.
— Человека человеком надо возместить.
— Она не человек, женщина.
— Женщину возмещают женщиной.
— Богдан, позови мангу, — попросил Гогда-мапа. — Передай совету, —
продолжал он, когда вошел Хорхой. — Они требуют женщину за женщину.
Хорхой выбежал. Старики дянгиане опять запыхтели трубками.
— В той семье, где живет убийца, женщин нет, — принес ответ Хорхой.
— Не семья, а род отвечает. У Заксоров много женщин, — сказал Мукэчэн.
«Кто же из другой семьи согласится отдать свою дочь? — подумал
Богдан. — Старик, видно, забыл, что живет в новое время».
— Да, у нас много красивых женщин. Так вы хотите, чтобы мы за горбатую
вашу женщину отдали красавицу.
Мукэчэн понял издевку, он не ответил, а позвал Пячику и отправил
донесение: «У Заксоров одни только красивые, здоровые женщины». Пячика
принес ответ: «Пусть отдадут самую некрасивую, но работящую». Это решение
Гейкеров Хорхой понес совету Заксоров и вернулся с ответом: «Некрасивые у
нас только старухи. Предлагаем старуху, полную сил, работящую».
— Наша женщина была молодая, — сказал Мукэчэн.
— Но ее никто не брал в жены, — отпарировал Гогда-мапа.
— Она была молодая...
— Но она не смогла бы родить ребенка.
Мукэчэн отправил новое донесение: «Кроме старушки, нет у Заксоров других
женщин», и получил ответ: «Старушку нам не надо».
— Вы, Гейкеры, хитрите, за горбатую, которая и рожать-то не могла,
требуете здоровую женщину. Наша женщина наплодит людей для вашего рода, а
ваша горбатая не принесла бы нам ни одного человека, — сказал Гогда-мапа.
«Нечестно, — подумал Богдан. — Нельзя о погибшей так говорить. Дянгиан
стал нападать. Что-то будет дальше».
Тут вмешался дянгиан рода Бельды, Питрос.
— Я думаю, Заксоры уже договорились с Гейкерами, — сказал он. —
Возмещать Заксоры женщину за женщину не могут. Тогда можно поговорить о
другом. Вы, почтенные дянгианы, в горячем разговоре позабыли, что у нас
женщин можно покупать и продавать. Могут, например, Заксоры купить эту
женщину?
— Все может быть, — согласился Гогда-мапа.
— Да, так может быть, — согласился Мукэчэн и, позвав Пячику, послал
донесение: «Если Заксоры покупают ее, сколько мы потребуем». Пришел ответ:
«300 рублей царскими деньгами». Совет Заксоров, которому передали требование
Гейкеров, ответил: «За такие деньги мы можем купить дочь маньчжурского
богдыхана». Услышав этот ответ, Богдан подумал: «Дяди издеваются, большой
многочисленный род заставляет маленький род принимать свои условия.
Нечестно. Они не хотят признать свою вину».
— Слишком дорого, — сказал Питрос. — Пусть совет Гейкеров лучше
подумает.
Совет Гейкеров срезал цену наполовину, но и это было слишком дорого.
Цена была сбавлена до восьмидесяти рублей, и вышедшие из терпения Заксоры
ответили: «Не забывайте, ваша женщина была горбатая, но могла рожать, а вы
требуете, как за кармадян (Кармадян — красавица.)». Гейкеры сбавили до
шестидесяти рублей, такова была средняя цена женщины. Заксоры согласились, и
Пячика, не чуя ног, побежал в свой табор сообщить радостное известие. Вслед
за ним в табор Гейкеров прибежал Хорхой и от имени старейшины Заксоров
пригласил Гейкеров в стойбище.
— Вы наши гости, переезжайте в стойбище, — передавал престарелый
Турулэн.
А старики дянгианы сидели на своих жестких кабаньих шкурах и мирно
беседовали о своих стариковских делах. Им подали чай, и старики совсем
позабыли о только что прошедшем суде.
Богдан вышел из дому, яркое солнце ударило ему в глаза, и он зажмурился.
Было время чуть больше полудня. На улице громко разговаривали, шутили и
смеялись приехавшие со всех концов Амура Заксоры: большая беда миновала, и
народ веселился. Богдан вышел на берег, сел на лодку. Шторм утих на Амуре,
река была спокойна и тиха.
Возле Богдана пристали три неводника Гейкеров, выбежавшие им навстречу
Заксоры обнимались со многими Гейкерами — встретились родственники и
друзья. Рядом с Богданом стояли Гара с Пячикой и смеялись, хлопая друг друга
по спине.
«Заксоры все же не почувствовали своей вины», — подумал Богдан.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1 сентября в Читу вошли белочешские и семеновские отряды. Власть в
Забайкалье захватил атаман Семенов. 2 сентября в Читу вступили японские
войска. 5 сентября Хабаровск был занят отрядом Калмыкова, за ним появились
японцы и американцы. После оставления Хабаровска в Николаевске-на-Амуре
Советская власть продержалась еще три дня.
Канонерская лодка «Смерч» и отряд Красной гвардии покинул город. А 9
сентября японцы высадили десант в Николаевске. Начался террор, как и в
других захваченных районах Дальнего Востока. 16 сентября в Благовещенске
состоялся последний прощальный митинг рабочих и краснофлотцев.
«Мы уходим под напором японских штыков, — говорил на митинге большевик
Ф.Мухин. — Мы не побеждены. Мы только отступаем в тайгу... Прощайте,
товарищи рабочие. Мужайтесь, крепитесь, мы скоро придем».
Наступил новый этап гражданской войны и борьбы против иностранных
интервентов, за окончательную победу Советской власти на Дальнем Востоке.
Предстояла тяжелая зима, может быть самая тяжелая из всех пережитых зим.
Это знали все охотники и рыбаки. Торговцы не могли выкупать пушнину: у них
не было ни муки, ни крупы, ни пороха, ни дроби. Зато на Амуре появилось
много спиртоносцев-контрабандистов. В прежние годы их преследовали, карали
по законам, ныне им никто не препятствовал.
На рыбацком стане няргинцев они были частые гости, и рыбаки, позабыв о
детях, семье, об ожидавшей их тяжелой зиме, продавали им за бесценок рыбу,
юколу, пушнину и пили, будто пытались одним духом утолить жажду, мучавшую
несколько лет во время запрета продажи водки.
— Одной водкой сыт не будешь, — сказал им однажды Пиапон. — Пока идет
кета, надо ловить ее, готовить побольше юколы.
— Ты, Пиапон, всегда умный, а дочери тебя обманули. Ха-ха! —
засмеялись пьяные рыбаки.
Пиапон молча отошел. У него горело в груди от обиды на рыбаков, но он не
сердился на них, он знал, что рыбаки не от злости бросают ему в лицо эти
тяжелые, как свинец, слова, они просто перепились, потеряли разум; когда они
бывают трезвы, никто из них ни единым словом не оскорбил его. Может, Пиапон
и дурак, слепой и глухой, но разве он стал бы еще умнее, зрячее, если бы в
порыве гнева убил родную дочь? В молодости всякое бывает. Молодость — это
первый неуверенный шаг в жизнь. Кто не ошибается, делая этот шаг? Мира
призналась ему, что хотела сразу же во всем сознаться, но ее отговорили.
Пиапон знал, кто ее отговорил, хотя она и не сказала, кто.
Он обнял дочь, поцеловал и сказал укоризненно:
— Я всегда учил вас быть честными. Признавать свою вину очень тяжело,
но кто признается честно, тот преодолевает самого себя. Это делают только
сильные, мужественные люди.
Пиапон не тронул ни дочь, ни жену, он молча простил их. Узнав об этом,
охотники изумились.
— А что оставалось ему делать? Несколько лет прошло, внук уже на ногах.
Задним числом умным стать? — говорили одни.
— Если бы он и сразу узнал о беременности дочери, все равно не стал бы
ее трогать, — твердили другие.
— Какой-то он непонятный, загадочный человек, — говорили третьи.
— Все же он правильно поступил, человек в наше время дорого стоит, —
поддерживали Пиапона его друзья.
Долго еще велись разговоры о непонятном поступке Пиапона: одни
соглашались с ним, другие удивлялись, третьи ругали, но никогда не
напоминали ему о его позоре. Только теперь перепившие рыбаки впервые
высказались в открытую.
Пиапон отошел от рыбаков на несколько шагов и услышал сзади пьяные
выкрики, шум. Он обернулся и увидел, как Калпе с Богданом вступили в драку с
рыбаками.
— Мы не дадим в обиду его! Не дадим! — кричали они.
Пиапон вернулся к ним, расшвырял в разные стороны дравшихся и увел Калпе
с Богданом.
— Меня защищали? А чего меня защищать? — спросил он.
— А чего они оскорбляют? Я им глотки вырву! — закричал Калпе.
— Меня не надо защищать, лучшая моя защита — это молчание. Поняли? А
ты, Калпе, с этого дня больше не пей. Иди, отоспись. Ты чего полез
драться? — спросил Пиапон Богдана, когда Калпе удалился в свой хомаран.
Богдан шел рядом с Пиапоном, высокий, стройный, с обветренным
возмужавшим лицом.
— Не вытерпел, дед, — ответил он, опуская голову.
— Ты же умный, понимаешь, что кулаками защищать меня — это глупо.
Богдан мог бы ответить ему, что не одного его защищал он, что вступился
за Миру. Как же не заступиться за любимую?
— Не вытерпел, — хмуро повторил он.
— Иметь выдержку — это тоже хорошо. Когда станешь дянгианом-судьей,
она тебе очень пригодится.
— Не стану я дянгианом.
— Почему?
— Не знаю. Только не быть мне дянгианом. Я считаю, что Заксоры
поступили несправедливо. Если бы я был судья, то защитил бы Гейкеров.
— Выступил бы против своего рода?
— Не совсем так, я потребовал бы, чтобы Заксоры уплатили больше, потому
что они убили человека и платят за убитого, а не покупают живую горбунью.
Пиапон задумался.
— Ты, наверно, прав, — сказал он. — Но на суде ты слушаешься решения
совета рода, стоишь за свой род. Какой же ты дянгиан рода, если пойдешь
против интересов рода?
— А зачем мне слушаться этого совета, если он принимает несправедливое
решение?
— Но ты дянгиан рода.
— Вот потому я и не хочу быть дянгианом рода, где старейшина...
Богдан не досказал своей мысли, но Пиапон и так понял его и усмехнулся:
— Старейшина тоже слушается большинства старших.
— Ты тоже согласился, чтобы Заксоры уплатили шестьдесят рублей?
— Я был один, — Пиапон нахмурился. — Вырастешь и поймешь еще, как
плохо бывает на душе, когда находишься среди людей и все же одинок. Люди
кругом, а ты один.
Богдан еще не понимал этого, он был слишком молод, а молодость не
признает одиночества, молодость без дружбы, без единомышленников, что река
без воды.
Прибежал Хорхой, позвал Пиапона и Богдана закидывать невод. Наступил
короткий отдых. Пиапон ушел к себе в хомаран.
Мимо Богдана прошли Хэсиктэкэ с Мирой, они несли тяжелую корзину с
кетой. Богдан бросился было помогать им, но остановился, сделав шаг, густо
покраснел — ему показалось, что все рыбаки смотрят на него, все заметили
его любовь к Мире. Он огляделся и, не увидев никого, облегченно вздохнул.
Женщины подходили к своему хомарану, Богдан провожал их взглядом. Мира
изогнулась в пояснице, маленькие ноги ее утопали в песке. Ей было тяжело
нести корзину.
«Милая, родная Мира», — прошептал Богдан.
Женщины скрылись за хомараном. Богдан сел на песок и стал наблюдать, как
забрасывали невод Полокто с сыновьями. Но мысли юноши совсем были далеки от
Полокто и его сыновей — Богдан думал о Мире. Перед его глазами все еще
маячила фигурка молодой женщины, такая дорогая, такая милая. Богдан закрыл
глаза, и тотчас же появилось круглое красивое лицо Миры с грустными глазами.
«Я бы тебе не дал грустить, — прошептал юноша, — Ты бы была счастлива,
была бы весела». Богдан давно может жениться, у него много дорогих шкурок
соболей, енотов, лис, выдры — хватят даже на два тори. «Если ты сам не
находишь невесту, то я разыщу», — предложил ему однажды Калпе. «Я хочу,
чтобы в большом доме появилась молодая женщина», — говорила Агоака.
Богдан отшучивался, но на душе было тяжело. Зачем ему искать невесту,
когда она рядом? Он любит Миру. И ему другая не нужна невеста. Но ему нельзя
жениться на ней, нельзя, потому что он Заксор и она Заксор, они брат и
сестра. Если бы он был Киле! Если бы... Зачем ему надо было переходить в род
Заксоров! Если бы он знал, что так случится, то, может быть, не послушался
бы большого деда... Законы рода запрещают браки внутри рода. Если Богдан,
вопреки законам, женится на Мире, то на них падет новый тяжелый позор. Их
станут называть Гаки — Вороны, станут смеяться над ними, обходить их
стороной. Нет, Богдан не хочет нового позора любимой, он будет ее любить
тайком, будет любить до конца жизни. Он даже не женится. Да, не женится.
— Ты что, сидя спишь?
Богдан открыл глаза. Перед ним стоял Пячика Гейкер из Мэнгэна.
Богдан с Пячикой познакомился во время суда в Нярги. Еще тогда Богдан
заметил, что его новый знакомый часто поглядывал на Миру. Потом Пячика
приезжал на рыбный стан в начале путины и опять буквально не спускал глаз с
Миры и даже хвалил, как она ловко разделывала кету.
— Когда приехал? — спросил Богдан.
— Только что, маховик и оморочка еще мокрые.
— А чего разъезжаешься? Кета не ловится, что ли?
— Нет, хорошо ловится, — ответил Пячика.
— Значит, надо довить, надо запасаться юколой.
— Ты что это решил меня поучать? И чего это ты на меня злишься?
«Знаю я, чего ты приехал — на Миру глазеть», — ревниво подумал Богдан.
— Я не злюсь, просто говорю, что зима будет тяжелая, юколы много надо
заготовить.
Молодые охотники закурили. Полокто с сыновьями вытянули невод, женщины
из лодки в корзинах понесли кетины на разделку.
— Заезжал я на тони к твоему отцу, — сказал Пячика. — Все здоровы. А
твой отец с Токто и правда, как родные братья живут. — В это время из
хомарана вышел Пиапон и позвал Богдана пополдничать. Богдан пригласил с
собой Пячику, хотя ему очень не хотелось, чтобы он опять пялил глаза на
Миру. Но ничего не поделаешь, Пячика гость, а гостя нельзя не пригласить к
себе в хомаран.
Пиапон посадил юношей на мягкую травяную подстилку, покрытую жесткой
кабаньей шкурой. Хэсиктэкэ подала столик, расставила еду. Пиапон
расспрашивал о знакомых, о родственниках, спросил об Американе.
— Американ только что вернулся в стойбище, — сообщил Пячика, — он
привез плохое известие.
— А что случилось? — спросил Пиапон,
— Вы, наверно, слышали, белые победили красных в Хабаровске.
— Слышали.
О поражении красногвардейцев Пиапон с Богданом узнали от приказчика
Саньки Салова. Приказчик с восторгом рассказывал, как калмыковцы с японцами
захватили Хабаровск, а затем Николаевск.
«Весь Амур-с опять наш! Слышите, весь Амур-с. Лапотники хотели отобрать
у Александра Терентьича заездки, лесозавод, пароходы, но теперь — шиш!
Теперь мы хозяева-с, все, что было наше, останется за нами-с, может другое
еще чего прихватим. Хе-хе! Вся Сибирь-с стала нашей, Рассея-с останется за
нами. Вот так-с».
— А еще Американ, когда пьяный был, кричал, что никто теперь у него
ничего не отберет, что хорошие люди опять вернулись к власти и что главаря
красных Ленина убили...
— Как убили? — одновременно спросили Пиапон с Богданом.
— Ленина убили и всех красных задушили, нет теперь Советской власти.
— Неужели это правда? — спросил Богдан.
— Не мог умереть Ленин, — продолжал Пячика. — Царя сбросил, богатых
уничтожил, бедным людям власть добыл — такой человек не может умереть.
Никто не притронулся к ухе, и она остыла в мисках. Все трое молчали, и
каждый думал о Левине, о Советской власти. Все они знали, что Ленин самый
справедливый, самый честный человек на земле: и этого было достаточно, чтобы
эти три охотника поверили в него, полюбили. Среди нанай и среди других
охотников величие человека определялось умом, его справедливостью и
честностью. Никто из трех охотников не знал, что такое Советская власть, но
эта власть уничтожила богачей, обманщиков-торговцев, и это явилось лучшим
доказательством ее справедливости.
— Дедушка, отпусти меня в Малмыж, — прервал молчание Богдан.
— Езжай, — ответил Пиапон, — возьми кеты Митропану, лишние не будут,
хотя он сам ловит. Не забудь взять и тому, к кому едешь.
Богдан торопливо похлебал остывшую уху, запил чаем и стал собираться в
дорогу. Уже складывая в мешок кетины, он вспомнил про Пячику и вернулся в
хомаран. Пиапон с Пячикой ели уху и о чем-то говорили.
— Пячика, ты дальше не едешь? — спросил Богдан.
— Нет, я отсюда домой возвращаюсь, — ответил Пячика.
«Так и есть — к Мире приезжал», — подумал Богдан, и у него защемило в
груди.
Он оттолкнул оморочку и выехал на Амур. Богдан греб, что было силы, и
мысленно твердил, что Мира — его сестра, она никогда не сможет стать его
женой, он должен любить ее как сестру. Но успокоение не приходило.
Богдан пристал к берегу, прошел несколько шагов и бросился на высохшую
траву. Он заплакал. Слезы, как в детство, принесли облегчение. Успокоившись,
Богдан перевернулся на спину и увидел все голубое небо усеянным большими
красными шарами. Он вытер глаза, и расплывшиеся красные шары превратились в
обыкновенные яблочки.
«Ивану надо привезти», — подумал Богдан и вдруг вспомнил, что он едет в
Малмыж к хозяину железных ниток, у которого есть дети, и их не плохо было бы
порадовать яблочками.
В Малмыже он был вечером, отнес к Митрофану рыбу.
— Зачем ты привез рыбу? Митрофан же сам ловит, — набросилась на него
Надежда.
— Дед сказал, лишнее не будет, — улыбнулся Богдан.
— Этот Пиапон чего еще выдумал? Да, скажи ему, у нас радость, письмо
получили от Вани, жив, здоров, находится где-то в Хабаровске или под
Хабаровском, точно не пишет где. Ох, время какое!
Митрофан с Надеждой ждали сына и никак не могли дождаться, Иван с
воинскими частями год назад возвратился на Дальний Восток, но не мог
навестить родителей. Письма его были скупы, он сообщал о себе, о службе.
— Беспокоимся мы об Иванке, времена такие, — вздыхала Надежда.
Телеграфист, щуплый человек невысокого роста, с большим носом, впалыми
щеками, встретил Богдана у дверей.
— Молодой человек, ко мне нельзя приходить, — сказал он громко.
Богдан растерялся, хозяин железных ниток никогда раньше не встречал его
так неприветливо.
— Вот ребятам, — пробормотал он, протягивая красные яблоки, — я еще и
рыбу привез.
Телеграфист вышел на улицу и тут же возвратился.
— Спасибо, Богдан, и не сердись на меня, так надо, — сказал он,
принимая подарки.
Телеграфист повел Богдана в свои комнаты, жена его и дети поздоровались
с гостем, как с давним знакомым.
— Тяжелые времена настали, Богдан. Белогвардейцы победили, вся Сибирь
их, весь Дальний Восток в их руках. Теперь надо быть очень осторожным, —
говорил телеграфист за чаем.
— Ты скажи, Ленин жив? — спросил Богдан.
— Жив, Богдан, жив, но в тяжелом состоянии. В него стреляли.
Голос у телеграфиста дрогнул, а глаза повлажнели.
Богдан о многом хотел спросить, но и к его горлу подступил комок, и он
стал маленькими глотками допивать чай.
— Нет, Советскую власть не задушить им. Рабочие и крестьяне будут
воевать за свою свободу. Лишь бы Ленин остался жив.
Телеграфист замолчал, отхлебнул чай из кружки.
— Скажи, Советская власть есть еще где? — спросил Богдан.
— Есть и будет Советская власть!
— Тогда почему ее здесь нет? Почему белые победили?
Телеграфист взглянул на юношу и понял, что собеседник его расспрашивает
не ради любопытства, что его глубоко волнуют эти вопросы. «Если и таежные
гольды за Советскую власть, — мы победим и здесь, на Амуре», — подумал он.
— Белые победили потому, что им помогают другие богачи других стран.
Они прислали свои войска, пулеметы и пушки. Николаевск захватили японцы.
Хабаровск захватили японцы, американцы, французы, англичане; Читу захватили
чехи и словаки. Вот сколько стран выступили в защиту белых! А мы одни,
голые, разутые, оружия не хватает на всех. Так и рассказывай своим, почему
белые победили. Только будь осторожен, теперь белые мстят всем красным,
расстреливают, вешают.
— Хорошо, я буду осторожен. Скажи, Ленин будет жив?
— Ленин будет жить! Так и передай своим, — сказал он на прощание.
Несмотря на ночь, Богдан выехал на рыбацкий стан, он знал, что Пиапон
ждет его. «Ленин будет жить!» — так и скажет Богдан, как только войдет в
его хомаран. «Ленин жив! — будет говорить он охотникам. — Не верьте
приказчикам и торговцам, Ленин будет жить!»
Черная, холодная сентябрьская ночь накрыла землю. Так темно, что не
видно носа оморочки. Но Богдан уверенно плыл по течению. На стане его ждет
Пиапон, он ждет, он не спит.
«Хороший человек малмыжский хозяин железных ниток», — думает Богдан,
вспомнив слезы на его глазах.
Далеко впереди залаяли собаки. Значит, скоро рыбачий стан. Он спешил, но
даже себе не сознавался, зачем он спешил, зачем, глядя на ночь, выехал из
Малмыжа, когда мог спокойно переночевать в доме Митрофана. Вот и рыбачий
стан. Богдан пристал, вытянул оморочку и зашагал к хомаранам. Рыбаки спали,
ни в одном хомаране не горел жирник.
«Не буду будить деда, утром все расскажу», — подумал Богдан и прошел
мимо хомарана Пиапона; дошел до другого, постоял в раздумье, повернулся
обратно. На этот раз он раздвинул вход в хомаран Пиапона.
— Кто там? — сонно спросила Дярикта.
— Я, Богдан. Я только хотел сообщить, Ленин жив.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В центре Приамурья в городе Хабаровске действовал подпольный комитет
большевиков под руководством рабочего Хабаровского арсенала, талантливого
партийного работника Д.И.Бойко-Павлова. Подпольная организация, несмотря на
жесточайший террор, расширяла свои связи с рабочими, крестьянами, вела
работу среди калмыковских частей, готовя вооруженное восстание. Б ночь на 28
января 1919 года восстание началось. Вмешательство американских, японских
войск позволило белогвардейцам удержаться, восстание было подавлено.
В 1919 году в Приамурье выросла грозная партизанская армия.
— Богдан, помоги мне, с русскими надо поговорить, — сказал Полокто. —
Когда был Санька, не надо было толмача.
— А почему не выучишь русский язык? — спросил Богдан.
— Трудно. Я все понимаю, что они говорят, а сам сказать не могу.
— Согласен тебе помочь, куда ехать? На лесозавод?
Полокто с сыновьями с самого начала лесозаготовительного сезона работал
на Шарго возчиком на собственной лошади. Зарабатывал он хорошо, но на
заработанные деньги не мог купить ни продуктов, ни материи на одежду: лавки
на Шарго пустовали. Полокто не очень беспокоило отсутствие продовольствия и
товаров, он копил деньги и ждал лучших времен, когда полки лавок будут
ломиться от муки, крупы, сукна, дабы. У него уже накопилось несколько
больших связок китайских монет с квадратными дырками посредине. Полокто
давно собирает эти монеты, они ему очень нравятся, потому что удобны для
счета и хранения: он считает их по сотням, нанизывает на нитку и получается
вроде ожерелья. Очень удобно. Когда имеешь дело с торговцем, не надо
пересчитывать, бросил ему связку — сотня, бросил другую — другая сотня.
Очень удобно. Только теперь почему-то торговцы не берут эти монеты, русские
машут руками, китайцы улыбаются, маньчжуры хитро щурят глаза. Но Полокто не
обращает на это внимания — деньги есть деньги, если их сейчас не берут
торговцы, то возьмут после. Нынче зимой, когда он на несколько дней вернулся
домой отдохнуть и порыбачить, проезжал какой-то китайский торговец, он купил
у Полокто лису, выдру, пятьдесят белок и щедро заплатил — дал три с
половиной связки дырчатых монет и одну большую серебряную, где был изображен
толстый китаец с расплывшейся шеей. Монета была новенькая, возьмешь ее
кончиками большого и указательного пальцев, дунешь, и она издает тонкий,
сладкий серебряный звон. Хорошая монета. Крупная. Новая. Никто в Нярги
никогда не видал раньше таких монет, даже Пиапон с Холгитоном, побывавшие в
Маньчжурии, не встречали такой монеты. Полокто бережет ее и очень ценит. Он
завернул ее отдельно в чистую тряпочку и положил на самое дно сумки с
николаевскими рублями, которых тоже собралось немало. Много теперь у Полокто
денег, на них, пожалуй, три лошади можно купить, а может — четыре.
— Нет, Богдан, в Шарго не поеду, там нечего купить, — ответил
Полокто. — Поедем в Малмыж к Санькиному преемнику.
— Он не преемник Саньки, он его слуга.
— Это Санька слуге доверял все свое богатство?
«Ему не растолкуешь», — подумал Богдан.
— У Саньки в Малмыже ничего не осталось, все его богатство с ним, в
Николаевске, — сказал он.
— Не говори. Санька прислал в свою лавку много муки, крупы и других
продуктов.
— А ты откуда знаешь?
— Э-э, мы все знаем, — самодовольно ответил Полокто. — Мы дружим с
большими людьми.
Богдан усмехнулся. А Полокто вспомнил толстого управляющего в Шарго,
который доверительно сообщил ему, что в Малмыж пришел небольшой обоз из
Николаевска, что его хозяин, Александр Терентьич Салов, не забывает своих
друзей, которые на него работают, прислал продовольствия, товаров. Услышав
это, Полокто не стал задерживаться в Шарго, и быстро возвратился в Нярги.
Теперь он собирался в Малмыж, но чтобы поговорить с приказчиком, ему нужен
переводчик, потому он и обратился к Богдану.
— Большие друзья мне сообщили, — добавил Полокто. — Поехали сейчас,
чего задерживаться? К русским едем, на русской лошади надо ехать, показать
им, мы, нанай, тоже умеем лошадью править.
Лошадь Полокто, привыкшая к тяжелой работе, не хотела бежать. Полокто
стегал ее кнутам, но она, пробежав шагов сорок-пятьдесят, опять переходила
на шаг.
— Ленивая стала, — объяснял Полокто. — Прежде она бегала, как ветер.
Когда она бежала, из-под ее ног летели куски твердого снега, льда. Вот как.
Теперь разленилась. Но она сильная, столько леса везет зараз, ни одна другая
лошадь не вывозит столько. Сильная стала. А отчего, думаешь? Я сено ей
хорошее даю. Приходишь к ней ночью, другие лошади опят, а она свое сено
жует, вот до чего сладкое, даже спать не дает ей. Я берегу это сено. Многие
русские у меня просят это сено, но я не даю.
Богдану надоела болтовня Полокто, и он задремал.
— Как твой отец и мать живут? — спросил Полокто.
Богдан после кетовой путины ездил в Джуен и с полмесяца погостил у
родителей.
— Здоровые, — ответил он.
Богдан вспомнил постаревшего Токто, гордого, тщеславного Гиду, отца и
мать, Кэкэчэ и двух жен Гиды. Ничего не изменилось в их жизни, как они
переехали в Джуен. Онага родила второго сына, на радость Токто и Кэкэчэ.
Токто редко выезжал на охоту и рыбалку, Богдану даже показалось, что ему
просто не хотелось расставаться с внуками. А красавица Гэнгиэ стала еще
красивее и женственнее. Токто с Кэкэчэ ждали от нее внука или внучку, но она
все еще не порадовала их, хотя и была первой и любимой женой Гиды. Отец с
матерью Богдана, как и в прошлые годы, жили спокойно и дружно. Богдану
показалось, что жизнь этих двух семей походила на реку, которая бушевала
весной в половодье, выходила из берегов, но теперь к осени успокаивалась,
вошла в русло и потекла спокойно и тихо.
В Малмыже Полокто остановился у лавки Салова. Здесь толпились женщины,
ребятишки.
— Пойдем быстрее, может эти женщины разобрали всю муку и крупу, —
торопил Полокто, хлопоча возле лошади.
Женщины молча смотрели на приезжих.
— К этому ироду? — спросила наконец одна из женщин.
— Да, — ответил Богдан, хотя не знал, что за слово «ирод», но он
догадался, что женщина имела в виду приказчика.
— Вам он продаст, у вас пушнина есть, — горестно сказала женщина.
Полокто с Богданом вошли в лодку. Приказчик встретил их широкой улыбкой,
пригласил за прилавок и, как делал Санька, провел в жилую комнату.
— Вы друзья-с Александра Терентьича, вы и мои друзья-с, — сказал
приказчик.
— Очень жалею, но, друзья-с, у меня нет-с водочки, не пью, да-с, и на
складе нет-с. У спиртоносов не покупаем. Чайку не желаете? Сейчас, одну
минуту. Настя, чаю-с!
Молодая женщина тут же внесла чайник и стаканы, будто поджидала этого
вызова за дверью. Она расставила стаканы, принесла домашний пирог с
запеченной рыбой, шанежки и удалилась. Приказчик разлил чай по стаканам.
— Бедно-с живем, очен-но бедно-с. Но это временно, только временно.
Красные-с денек всего похозяйничали в крае, за день все разграбили, как
мыши-с в амбаре. Но ничего, ничего, все будет как прежде. Нам помогают
друзья-с, искренние друзья-с никогда не оставляют в беде. Так ведь, верно?
Пробуйте, пробуйте пирог-с. Смотрите, какая мука, а? Белая, вкусная, у нас
нет-с такой муки и не будет. Эта мука-с откуда вы думаете?
Приказчик выжидающе замолчал, оглядел своими светлыми глазами
собеседников.
— Сисанги (Сисанги — японская.), — сказал Полокто, который все же
понял вопрос приказчика.
— Что-с вы сказали?
— Японская говорит, — перевел Богдан.
— Э-э, нет, не отгадали, друзья-с! — торжествовал приказчик. —
Американская! Американская мука-с. Подумать только из-за океана-с сама
Америка-с подала руку дружбы! Наш Александр-с Терентьич теперь на короткой
ноге с американцами, японцами, англичанами, французами. Подумать только-с! С
такими могущественными державами!
— Что он говорит? — спросил Полокто. Богдан стал ему переводить.
Полокто расцвел и, тыча себе в грудь, сказал:
— Санька меня друга.
— Да, да, это я давно знаю-с, они мне наказали, чтобы я вас всегда
приветил-с. Я вам не сказал, от радости забыл сказать, Александр Терентьич
прислал немного-с продовольствия и товаров. Трудно было-с везти этот груз,
но ничего не удерживало Александра Терентьича, он сказал, мои друзья-с
находятся в нужде, у них нет муки, крупы, как бы не было трудно, доставьте в
Малмыж этот груз. И послушались, как не послушаться Александра-с Терентьича?
Привезли груз. Все американское — мука, крупа, ткани — все американское-с.
Новые, могущественные-с друзья Александра Терентьича готовы ему привезти
несколько судов всякого продовольствия и товаров-с. А Александр Терентьич
хочет их отблагодарить мехами, пушнинкой. Он просил, чтобы вы несли мне всю
пушнину-с, я щедро буду отоваривать. Да-с, щедро-с. Так-с велел Александр
Терентьич.
Полокто с Богданом сидели оглушенные не столько ошеломляющим известием,
сколько быстрой нервной речью приказчика. Богдан, сначала слушавший
приказчика с некоторой насмешливостью, был тоже поражен сообщением. Полокто
радовался, что Санька Салов стал таким могущественным, богатым человеком.
«Санька теперь мне поможет, — думал он. — Теперь у меня деньги есть — я
разбогатею. Никто не отберет у меня моего богатства, некому отобрать,
красных уничтожили. Ну, Американ, кто из нас будет богаче! Посмотрим. Мой
друг с японцами, с американцами уже дружит. Друг моего друга и мой друг. Вот
как!»
— Санька моя друга, — сказал Полокто по-русски и заговорил
по-нанайски. — Ты слышишь, какой стал Санька! Я давно знал, что он станет
большим человеком! Весь Амур его знает! Он всегда ко мне хорошо относился,
любил даже, — Полокто повернулся к приказчику: — Хоросо, Санька, хоросо.
Богдан, не слушая Полокто, думал о японцах и американцах, которые сперва
с оружием в руках пришли в русские города, а теперь вслед за солдатами шлют
муку, крупу. Что же они хотят, эти японцы и американцы?
— Александр Терентьич велел мне продовольствие отпускать только за
меха-с, за пушнину-с, — продолжал приказчик. — Пушниной надо американцев
отблагодарить за их вкусную белую муку-с.
— Э-э, мне Санька за деньги может продать, — сказал Полокто. —
Богдан, ты скажи ему, мне надо мешок муки и полмешка крупы, сахару еще.
Скажи, деньги у меня русские, но я ему сперва дырчатые предложу, а то их
много собралось, хранить громоздко в сумке.
Богдан перевел. Приказчик улыбнулся и ответил:
— Только за пушнину-с.
— Я пожалуюсь Саньке, как ты не захотел продать его другу, мне,
Полокто, муку и крупу. Тебе тогда больше здесь не сидеть, не есть вкусную
рыбу в белом тесте.
— Я выполню свой долг-с, то что велено Александром Терентьичем.
— Вот тебе деньги, продай за эти деньги! — Полокто вытащил из-за
пазухи связку китайских монет и положил на прилавок. Приказчик бросил беглый
взгляд и сказал:
— Эти монеты-с можно отдать детям-с на игрушки. Или женщинам-с
пришивать на подолы халатов-с.
— Ты еще смеешься надо мной? Ну, погоди! Приедет Санька! — Полокто
давно отодвинул от себя вкусные шанежки, недопитый стакан с остывшим чаем.
Он вытащил из грудного кармана тряпку, развернул и высыпал царские
серебряные рубли «николаевки».
— За деньги-с не продаю, — невозмутимо ответил приказчик.
Полокто бушевал, гневался, ругался, грозил, но приказчик был
непоколебим. Наконец, Полокто понял, что ему ничего не добиться угрозами, и
он начал упрашивать, потом умолять. Богдану надоел весь этот разговор, и он
отказался переводить. Только после настойчивой просьбы Полокто перевел его
последние слова.
— Слушай, Санька мой друг, ты тоже мой друг, — говорил Полокто. — Ты
сам это сказал. Я никого не обманываю, дома у меня нет совсем муки, дай мне
немного, чтобы вечером лапшу сделать, лепешки испечь. Я тебе завтра привезу
выдры, белок, лис. Я тебя не обманываю.
— В долг-с не даю, не велено-с, — холодно отвечал приказчик.
Полокто выругался, задел шапку и выбежал в лавку, а оттуда на улицу.
Богдан вышел вслед за ним.
— Подожди меня немного, я к Митропану загляну, узнаю дома он или
нет, — попросил он Полокто.
— Только быстрее возвращайся, — сердито бросил Полокто.
«Вот это слуга, — думал с восхищением Богдан про приказчика, шагая к
дому Митрофана. — Такому Санька может доверить все свое богатство. Как
собака сторожит добро хозяина! Даже в долг на одну ночь не дал муки! Вот
почему, оказывается, его женщины называют «иродом».
Митрофана опять не оказалось дома, и Богдан, поговорив немного с
Надеждой, вышел из избы.
— Кому я говорил, возвращайся скорее! — закричал обозленный Полокто,
когда Богдан усаживался в сани.
— Я тебе не приказчик Саньки, и ты на меня не кричи, — ответил с
достоинством юноша. — Ты меня позвал быть толмачом?
Полокто вывел лошадь на дорогу, стегнул ее кнутом и повалился на мягкое
сено, рядом с Богданом. Лошадь довольно резво застучала копытами по
затвердевшему снегу, ветер ударил в лицо. Богдан отвернулся от ветра. Ему
вспомнилась Надежда, усталые ее глаза. «От Ивана нет писем с осени», —
сказала она. «Где же он мот затеряться? — думал Богдан. — Что я говорю, в
такое время и убить могут. Если бы убили, то друзья-товарищи сообщили бы по
железным нитям или письмом». Перед глазами юноши все еще стояла Надежда с
усталыми глазами, потом она будто раздвоилась, утроилась, и стало
много-много усталых серых, голубых, черных глаз. Это были глаза женщин,
стоявших перед лавкой Салова. «К этому ироду? Он вам продаст». — «Пойдем
быстрее, может, эти женщины разобрали муку», — будто услышал Богдан и вдруг
вспомнил, как Полокто торопил его с поездкой в Малмыж, как разговор с ним
вел наедине. «Так он же скрыл от всех охотников, что в лавке Салова мука и
крупа появились! — догадался Богдан. — Как же так можно, не сообщить
охотникам? Хоть бы братьям сообщил... Другой бы на все стойбище кричал об
этом, чтобы все услыхали...»
— Завтра ты поедешь в Малмыж? — спросил Полокто, подъезжая к дому.
— Обязательно.
— Вот и хорошо. Выедем пораньше.
— Я поеду с дедом и с Калпе. У приказчика встретимся.
Богдан соскочил с саней и скорым шагом пошел к Пиапону. Полокто
промолчал, хотя ему очень хотелось вернуть племянника и предупредить, чтобы
он не распространял по стойбищу слух о появлении муки и крупы в Малмыже,
пусть сообщит только дядям. Но зная характер Богдана, он промолчал.
— Дед, вытаскивай всех белок, выдр, енотов, — сказал Богдан, входя в
дом Пиапона.
— Зачем они тебе? — удивленно спросил Пиапон.
Мира хлопотала возле печи, готовила ужин. Щеки ее разгорелись, как
спелый шиповник. Богдан только мельком взглянул на нее.
— В лавке Салова появилась мука, крупа, материи на одежду.
— Что ты говоришь, Богдан! — закричала Дярикта. — Давайте, быстрее
вытаскивайте пушнину.
О том, что в лавке появились продукты, Богдан сообщил всем охотникам
стойбища. Но немногие могли этим воспользоваться. Только самые удачливые
охотники имели пушнину.
Когда Богдан, обежав все стойбище, вернулся в дом Пиапона, к нему
обратилась Дярикта:
— Помоги, Богдан. Ты у нас лучше торговца все знаешь, умеешь читать и
писать. Сколько муки и крупы дадут за все это?
Богдан всю зиму охотился вместе с Пиапоном и его зятем, потому знал,
какие шкурки зверей завтра дед его повезет в Малмыж. Охота была неудачная,
добыли они втроем сотни четыре белок, пять выдр, дикую кошку, шесть рыжих
лисиц, пятнадцать колонков и всего два соболя. Соболь в тайге исчезал.
Добыча для троих до смешного мала, раньше Пиапон один добывал в полтора раза
больше.
— Продукты в лавке Салова привезены из-за большого моря, из другой
земли, — сказал Богдан, — и, наверное, будут стоить дорого.
Затем он немного подумал и предложил:
— Знаешь, дед, обменяем и моих соболей, чего они будут зря лежать?
Но Пиапон отказался.
— Эти соболя должны пойти на твое тори, — сказал он.
На следующее утро еще затемно залаяли собаки в стойбище, и одна упряжка
за другой выехали на проезжую дорогу.
— Кай! Кай! Тах! Тах! — неслось по стойбищу.
Заржала лошадь Полокто и поискала копытами. Из большого дома вдогонку
ему промчались три стремительные упряжки, это выехали Улуска с Агоака, Калпе
с Далдой, Дяпа с Исоака. Теперь уже никто в стойбище не удивлялся, что
мужчины большого дома ездят к торговцам со своими женами.
Пиапон с Богданом и с зятем выехали на двух нартах. Когда они подъехали
к лавке Салова, тут уже собрались все няргинцы, разожгли костер — грелись
вокруг него. Приказчик спал, и никто не посмел разбудить его.
Богдан подошел к костру. Здесь были одни няргинские. «Охотники других
стойбищ не знают еще», — - подумал Богдан. Прошло еще немного времени,
когда приказчик, наконец, открыл лавку.
Первыми приказчику сдавали пушнину самые старшие охотники, большинство
из них привезли только белку и колонка.
— Колонок нынче соболя заменил, — смеялись они. Но смех их тут же
оборвался, когда приказчик объявил, кто сколько получает за сданные шкурки.
Цены на муку и крупу резко поднялись.
— Мука-с эта американская, понимаете, американская, — растолковывал
приказчик, — везли ее, эту муку-с, из-за моря-океана-с. Далеко везли.
Смотрите, какая мука-с, белая-пребелая. Ее везли из Николаевска на
лошадях-с. Это тоже увеличило цену-с.
Охотники не слушали приказчика, большинство из них не понимало русского
языка, их тревожило, что отдают они свою пушнину за бесценок. «Если у них
вздорожала мука, то почему шкурки не вздорожали?» — спрашивали они друг у
друга.
Полокто совсем растерялся, у него было так мало пушнины, что по его
подсчетам едва хватит на пудовый мешок муки и полмешка крупы. «Сыновья
хотели охотиться, надо было их отпустить в тайгу», — с поздним раскаянием
терзал он себя.
Приказчик его встретил, как и раньше, вежливо, будто и не было между
ними вчерашнего разговора, даже извинился, что не может пригласить на чай.
Вежливость его на этом иссякла, в последний раз он улыбнулся, когда хмурый
Полокто снимал с весов пудовый мешок американской муки.
Пиапон привез всю свою пушнину.
— О! Соболь! Давно-с не видел такого, — залюбовался приказчик одним из
соболей. — Хорош, очень хорош, — хвалил он, будто позабыв о законе
торговцев: при охотнике не расхваливать его пушнину. Приказчик высоко оценил
соболя.
— Соболь вытянул, — говорили охотники, глядя, как Пиапон с зятем и
Богданом выносили мешки муки, крупы. Пиапон купил пороху, дроби. Две нарты,
на которых они приехали, были нагружены. Когда они прикрепляли ремнями мешки
к нарте, к лавке подошла большая упряжка болонского торговца У. Он
поздоровался и скорым шагом вошел в лавку. Вскоре оттуда вышел Калпе.
— Приказчик пошел с У водку пить, — сказал он.
К Малмыжу подъезжала упряжка, сильные собаки неслись издалека, шерсть на
них заиндевела, глаза заросли инеем, но собаки бежали, не чуя под собой ног.
Это был Американ и его спутник Гайчи.
— Бачигоапу, Пиапон! — поздоровался Американ весело. — Э-э, друг, ты
совсем разбогател. Помнится мне, ты говорил, будто бы запрещается богатеть.
— Не смейся, Американ, — ответил Пиапон. — Когда ворона сидит на
высоком дереве, ей кажется, что она выше всех других.
— Умом с тобой не состязаюсь, богатством — могу.
— Это богатство, Американ, до наступления лета в землю превратится, а
твое золото может вдруг оборотиться...
— А ты мое золото не считай. Теперь другие времена настали. Не боишься?
— А чего мне бояться?
— Ты ведь много нехороших слов говорил про белых.
— А что теперь они скажут?
— Об этом я не подумал. Может, ты скажешь, что они скажут?
— Сейчас мне некогда, я по делу приехал. — И Американ скрылся за
дверью.
— Как вороны на падаль слетаются, — сказал Калпе. — Что они хотят?
Всю муку и крупу хотят закупить, что ли?
Богдан вспомнил приказчика, горящие глаза его, трясущиеся пальцы, когда
он вертел перед носом соболя, и подумал: «Если торговец У предложит ему
соболей, то он отдаст ему всю муку и крупу».
Пиапон отвязал упряжку, собаки оглядывались на него, ждали приказа,
вожак уверенно выводил упряжку на дорогу в Нярги, но, услышав неожиданное
«Кай!», недоуменно оглянулся на хозяина и повернул в обратную сторону, к
дому Колычевых. Вторая упряжка последовала за упряжкой Пиапона.
Еще подъезжая к дому Митрофана, Пиапон заметил его красивую кошевку, на
которой он гонял почту, и радостно подумал, что наконец-то после длительной
разлуки встретится с другом, поговорит по душам. Он привязывал упряжку к
колу, когда Митрофан появился на крыльце.
— Эй, что за обоз? — спросил он.
— Это нанайский торговец Заксор Пиапон приехал, — ответил ему в тон
Пиапон. — Самый богатый на Амуре.
— Ай да Пиапон, ты на самом деле богач!
Друзья обнялись, похлопали друг друга по спине.
— Постарел ты, Митропан, совсем постарел, борода стала гуще, — говорил
Пиапон, оглядывая друга.
— А ты помолодел, совсем молодой, — отвечал Митрофан.
— Тайга всегда молодит человека. Когда ты ходил на охоту, ты был совсем
молодой, и борода не была такая густая.
Друзья расхохотались.
Подошли Богдан с зятем Пиапона, поздоровались с Митрофаном.
— Мужик уже, — похлопал Митрофан Богдана по плечу. — Скоро на свадьбу
позовешь? Что-то ты задерживаешься, друг.
Богдан смущенно улыбнулся.
— Невесты нет? Хочешь, я тебе малмыжскую девчонку подыщу.
— Правильно, — подхватил друга Пиапон. — Сакачи-Алянский Валчан женат
на русской, она все нанайские обычаи знает, по-нанайски говорит лучше, чем
я.
— Есть у меня на примете златовласая, красивая, — продолжал
Митрофан. — Хорошая будет жена. А дети какие будут?
— Нанай или русские?
— Нет, должны быть серединка на половинку.
Митрофан засмеялся, Пиапон не очень понял, что такое «серединка на
половинку», но тоже засмеялся.
Богдан стоял красный от смущения и молчал.
— Достань из своей нарты белый мешочек крупы, — тихо сказал Пиапон
зятю, и сам стал развязывать ремни своей нарты. Вытащил пудовый мешок муки,
взял его под мышку и направился к крыльцу.
— Зачем муку тащишь? — спросил Митрофан.
— Надя печет вкусные булочки, — ответил Пиапон. — Я самый богатый
нанай, — сказал Пиапон, переступая порог. — У меня мука много, крупа
много. На, Надя, тебе мука.
— И правда, ты богатый, Пиапон, — говорила Надежда. — Две нарты добра
купил. Теперь-то это деньгами не купишь, Санькин приказчик только на пушнину
продает.
Пиапон заметил, что Надежда осунулась, и морщинки на лице стали глубже.
А Надежда тем временем хлопотала возле печи, Митрофан полез в погреб за
солониной.
— Пиапон, может, тебе хлебы испечь? — спрашивала Надежда.
— Не надо хлебы, лепешки есть, — отмахивался Пиапон.
Митрофан подсел к другу, закурил.
— Я тебе рассказал, как я охотился, — опять перешел на родной язык
Пиапон. — Теперь ты рассказывай, как живешь.
— Известно, как живу, гоняю почту, — ответил Митрофан. — Дома бываю
мало.
— Надю не болеет? Она как-то...
— Постарела она, Иван ничего не пишет. Где он, жив ли, нет — никто не
знает. Время такое пришло, Пиапон, тяжелое время. Когда царя свергли, отец
говорил, смута будет, так и вышло. Большая смута на русской земле, большая.
Раньше воевали с японцами, с германцами, нынче между собой воюем. Говорят,
брат против брата иногда воюет, сын в отца стреляет, отец в сына. Разделился
русский народ на красных и белых, да полезли еще всякие япошки, американцы,
английцы, басурмане французы. Кому не лень — все полезли на русскую землю,
все за богатых, за белых. Солдат, пушки, винтовки сперва присылали, теперь
вот муку, крупу и всякое другое присылают. Всю русскую землю ополонили,
говорят, только в Расее держится Советская власть. Тяжелое время, Пиапон,
очень тяжелое. В наших местах еще не стали людей губить, а в Николаевске, в
Хабаровске, говорят, людей за людей не считают, всех, кто с Советами был, —
всех губят.
Богдан слушал Митрофана и глядел в окно на дом хозяина железных ниток,
на легкий белый дымок, вьющийся из трубы, на снежную крышу. «Может, он
сейчас слушает самые интересные, последние новости», — думал он.
— Надя все опасается за меня, потому что все малмыжские знают, что я
дружил с ссыльными, — продолжал Митрофан. — Старик Феофан с собой в могилу
меня хочет прихватить. За что он на меня сердит — сам не знаю. Старый енот
может на самом деле наплести на меня всякое, потому я от белых хорошего не
жду.
«Митропану русские угрожают, а мне нанай Американ угрожает, — подумал
Пиапон, слушая друга. — Угрожали бы избить палкой, а то грозятся оружием.
Если белые везде губят людей, нам тоже, наверно, нечего хорошего ждать».
Надежда поставила на стол дымящуюся картошку, малосольную кету,
маринованные грибы, соленые огурцы и помидоры.
— Присаживайтесь, присаживайтесь, чем богаты, тем и рады, — говорила
она.
— А это чего? — спросил Пиапон, попробовав грибы.
— Грибы, — ответила довольная Надежда.
— Те, что на дереве растут?
— Нет, Пиапон, на земле.
— На земле плохие грибы растут, умирать можно.
— Нет, это хорошие грибы, грузди. Ох, нынче их было в тайге — тьма.
«Я думал, мы все съедобное в тайге собираем, — подумал Пиапон, — а
русские, оказывается, больше нас знают».
Богдану и зятю Пиапона тоже понравились грибы.
— Неплохо было бы сейчас тяпнуть за встречу, — сказал Митрофан.
— Хватит тебе, давеча и так возвернулся выпимший, — прервала его
Надежда.
— Ничего, Пиапон, когда я тебе повезу булочки, то чего, может, и
придумаю.
— Может, и мне приехать, твою жену и дочерей научить стряпать, а? Чего
тебе, теперича ты богатый, — оживилась Надежда.
— Правильно, очень хорошо, — обрадовался Пиапон. — Послезавтра тебя
ожидать будем. Только оманывать не надо.
— Нет, Пиапон, приедем обязательно, — затвердила Надежда.
«Хоть бы осетрина какая попалась», — подумал Пиапон.
Он недавно выставил снасти, раз проверял, но ничего не поймал.
После горячей картошки с малосольной кетой пили чай, потом мужчины
закурили. В беседе время незаметно промелькнуло, и гости стали собираться в
дорогу.
— Митропан, Надя, эта мука и крупа ваши, — сказал Пиапон. — Не
говорите, берите, кашу варите, булочки пеките.
— Да ты что, Пиапон? — запротестовала Надежда первая. — Ты не с ума
сошел? Это же столько стоит...
Пиапон улыбнулся.
— А дом мой сколько стоит? Печка сколько стоит?
— Нет, Пиапон, как хочешь, но муку эту не возьму, — заявила
Надежда. — Или хлебы напеку, шанежки и привезу.
— Тогда я никогда заходить сюда не буду, — нахмурился Пиапон, — тогда
я совсем забуду этот дом. Булочки, шанежки не вези в Нярги, обратно выгоню.
Там, в Нярги, будешь их печь. Пиапон шибко злой, его не надо серчать.
Хозяевам оставалось только согласиться с упрямым Пиапоном. И еще раз
поблагодарив его, Митрофан и Надежда пошли провожать гостей.
— Приезжайте, — сказал на прощание Пиапон и повел упряжку на берег,
удерживая за постромки; собаки смиренно шли за ним, но нет-нет, то одна, то
другая с лаем бросались на коров или свиней.
Богдан вел другую упряжку, он мысленно попрощался с хозяином железных
ниток, глядя на заиндевелые окна его дома.
Пиапон вывел на дорогу упряжку, вскочил на нарты.
— Тах! Тах! — прикрикнул он на собак, и те вихрем помчали тяжелую
нарту. Они спешили домой, дома их ждал корм.
Пиапон смотрел на бегущие назад торосы, на маленькое желтое солнце,
проглядывавшее из-за туч, и думал о Митрофане и Надежде, об Иване, который
позабыл родителей и не сообщает, где находится. Пиапон послезавтра встретит
друзей, достанет водки, поймает рыбы — все будет, как надо. Как только
прибыли домой, Пиапон сказал жене:
— К нам Надю едет посмотреть, как женщины прибирают дом, как они живут
по-новому.
Дярикта замахала руками, будто птица с переломанными крыльями, заохала,
она вспомнила прошлый приезд Надежды и как тогда стыдилась, подавая ей уху
из осетра и боду. Правда, она могла сделать пельмени, но тогда не было
времени на приготовление. Хорошо, она сегодня же начнет делать пельмени.
Хэсиктэкэ с Мирой вдруг заметили, что мокрые унты мужчин оставляют следы
на полу, потребовали, чтобы они сейчас же разулись у порога и в одних ватных
чулках ходили по полу. Сестры тут же решили завтра с утра приняться за
уборку дома.
Митрофан приехал, как обещал, до полудня. Пиапон услышал звон
колокольчиков почтовой кошевки и вышел на улицу. К дому подъезжала знакомая
кошевка, в ней сидели трое.
«Кто же третий?» — подумал Пиапон.
Лошадь остановилась перед Пиапоном. Из кошевки выскочил высокий, широкий
в плечах мужчина, подбежал к Пиапону и обнял.
— Дядя Пиапон, здравствуй! — прогудел он басом в ухо.
— Иван?! — обрадовался Пиапон.
Из большого дома прибежали Калпе, Богдан. Иван обнялся с Калпе, оглядел
Богдана с ног до головы и сказал:
— Вот этого парня что-то не помню. Это сын Дяпы?
— Отгадай, — сказал Митрофан. — Ты его хорошо знаешь, ты с ним
баловался, когда приезжал сюда.
— Да это Богдан! — засмеялся Иван и обнял юношу.
— Когда ты приехал, Иван? — спрашивал Пиапон, но Иван не слышал его,
хлопал Богдана по плечу.
— Позавчера пришел, пешком, — ответил Митрофан за сына. — Зашел,
встал в дверях и улыбается. Мать бросилась к нему, заплакала. Женщина, что
скажешь.
Надежда стояла между мужем и Пиапоном и посветлевшими от радости глазами
смотрела на сына.
Наконец Митрофан вытащил корзину, обернутую вышитым полотенцем, передал
Надежде, а сам стал распрягать лошадь. Ему бросились помогать Калпе с
Богданом, им хотелось показать Митрофану, что они тоже умеют и запрягать, и
распрягать лошадь.
— Торо! Торо! — кричал Калпе, пытаясь удержать ее.
Митрофан с Иваном расхохотались.
— Так только на собак кричат, — сквозь смех проговорил Митрофан.
Пиапон пригласил гостей в дом, а сам пошел в амбар. Вернулся он с
огромным осетром.
— Вот это красавец! Сколько лет я не видел такого, — вскочил Иван,
увидев осетра.
— Под осетра треба водка, — сказал Митрофан и начал разматывать
обернутое вокруг корзины полотенце. Калпе взял топор и приступил к разделке
осетра. Вскоре тала была готова, и мужчины для начала хлопнули по стопке
водки.
— Теперь, Иван, рассказывай, где был, что видел, — попросил Пиапон.
— Эй, мужики, чево забыли малого? — спросила Надежда. — Митроша, ты
распочал корзину, почему малому не подашь гостинец?
Маленький Иванка, увидев столько незнакомых людей, спрятался в дальнем
углу и следил оттуда за взрослыми.
Митрофан достал шанежки и позвал малыша, но Иванка полез прятаться под
кровать. Все весело засмеялись, а Пиапону пришлось угощать младшего внука
под кроватью. Сын Хэсиктэкэ, хоть был старше Иванки, тоже отсиживался в
углу.
— Воевал я с германцами или не воевал — сам не понимаю, — начал
рассказывать Иван, когда Пиапон вернулся к столу. — Когда я попал на фронт,
там началось братание, это, значит, солдаты выходили из окопов, втыкали
винтовки штыками в землю и шли друг к другу, обнимались, курили, менялись на
память всякими вещичками. Никто не хотел воевать, люди устали воевать,
убивать друг друга. Мы, русские, не знаем их языка, а они нашего, а говорим
и вроде бы все понимаем.
Потом революция случилась, Октябрьская. У нас среды солдат оказалось
много большевиков. Они и раньше говорили, будто после революции война
закончится, пока, мол, у власти находятся Керенский и другие всякие
министры, нам не видать мира, как своих ушей. Солдаты говорят, мы за тех,
кто за мир. А те, кто из крестьян, те услышали, будто большевики им землю
дадут, и говорят, мы за тех, кто нам землю даст. И правда, случилась
Октябрьская революция, и тут же декреты Ленина вышли — войне конец, власть
рабочим и крестьянам, землю крестьянам. Что тут было! Рассказать трудно.
— Это понятно, народ весь поднялся, — поддержал сына Митрофан.
— Народ обрадовался, как не радоваться, своя власть, бедняцкая власть
пришла, — продолжал Иван. — Многие солдаты собрались домой, но большевики
говорят, мол, буржуи и помещики за здорово живешь не отдадут свои фабрики и
заводы, не уступят землю, воевать будут. Мы, здешние, амурские, тоже
собрались домой, ехали на паровике, только они по железным рельсам ездят,
пыхтят, волокут много вагонов. Интересная штука, быстро бегает, ежели дрова
и уголь в достатке. А железные рельсы, посчитай, через всю Расею тянутся,
Москва, Питер и другие города, будто узлами, связаны этими рельсами. Они
тянутся через всю Сибирь к нам в Хабаровск. Сколько железа потребовалось,
жуть! Возвратились мы в Хабаровск, здесь тоже Советская власть. Ну,
думаем — теперь по домам! Ушли по домам, да только не мы. С нами были
казаки, те разбрелись по домам. Вскоре у них заявились атаманы Калмыков,
Орлов, Семенов, Гамов. Взбунтовали атаманы против Советской власти.
Иван скрутил новую самокрутку и закурил.
В доме Пиапона собрались соседи, пришли Улуска, Дяпа, Полокто, явился
Холгитон. Старый Холгитон приободрился, он всегда чувствовал себя лучше
зимой. Осенью нынче он промышлял белок на Гили, ставил самострелы на выдр,
колонков.
— Ты в богатых стрелял? — спросил он Ивана.
— Стрелял, — ответил Иван. — Никто не сможет стерпеть, камни и те не
выдержат, глядючи на их зверства. Всюду люди берутся за ружья и уходят в
тайгу к партизанам.
— Кто это такие? — спросил Пиапон, услышав незнакомое слово.
— Это те же красные, рабочие и крестьяне, которые живут в тайте и в тех
селах, где нет белых, нападают на белых, когда они не ожидают нападения,
уничтожают и опять в тайгу. Так и воюют.
— А тайгу они знают? — спросил Холгитон.
— Знают, среди них много охотников.
— Это хорошо, — сказал Пиапон.
— Ты думаешь, — обратился Полокто по-нанайски, — партизаны могут
победить?
Выслушав перевод отца, Иван ответил:
— Обязательно победят! Когда я шел по Амуру и ночевал в русских селах,
я слышал, всюду народ недоволен, не может народ больше терпеть зверства. Под
Хабаровском села горят, белые убивают людей и бросают в прорубь. Осенью,
когда лед еще не встал, я видел, как калмыковцы с моста бросали в Амур
убитых. Кровь стынет в жилах, когда видишь это. Они никого не жалеют,
убивают женщин, стариков, детей. Рассказывают, они маленьких ребятишек
бросают в горящие дома.
Богдан, переводивший на нанайский язык рассказ Ивана, замолчал, у него
вдруг охрип голос, тугой комок подкатился к горлу. Улуска с Дяпой, не
понимавшие русского языка, ждали продолжения рассказа. Полокто внимательно
слушал Ивана, он без перевода понимал рассказчика.
«Как можно убивать детей? — думал Пиапон. — В тайге, когда лосенок с
матерью, не стреляешь в лосиху, а тут детей в огонь бросают! Разве человек
может так делать? Это уже не человек, это бешеная собака, потерявшая разум».
Пиапон взглянул на внуков, которые сидели в дальнем углу и, причмокивая,
ели мягкие шанежки.
Женщины возле печи притихли, слушая перевод Богдана.
— Изверги они, — говорила вполголоса Надежда. — Малых-то детишек за
что губят? Силов нет это слушать, слезы закипают.
Хэсиктэкэ накрошила талу из осетра и подала на стол. Притихшие мужчины
разлили водку и молча выпили. Пиапон прежде всегда пьянел с трех стопок, но
теперь водка, казалось, потеряла прежнее могущество.
Дярикта ставила на стол пельмени.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Когда дырявились котлы, кастрюли, ведра, ломались ружья, няргинцы раньше
обращались к малмыжским мастерам. Теперь в Нярги был свой мастер, работник
Холгитона Годо, он мог отремонтировать все, что сделано из железа и меди. Но
Пиапон не обратился на этот раз к нему, потому что боялся, думал,
заинтересуется Годо устройством швейной машины, разберет ее, да не сможет
собрать. Швейная машина — это не дырявый котел, даже не сломанное ружье, к
ней нужен особый подход, в ней может разобраться только русский мастер,
потому что эта машина русская.
Машинка Дярикты сломалась в мае, и Пиапон не мог ее сразу отвезти в
Малмыж к Митрофану, на то было много причин: ледоход, весенняя путина, охота
на уток. Только в середине июня Пиапон поехал в Малмыж.
Пиапон не застал Митрофана дома и удивился, где же его друг может
пропадать в эту пору: сено косить — трава еще низкая, рыбу ловить — только
нерест закончился, охотиться — звери все худые, да с малыми детьми — не
время охоты.
— Где он? — спросил Пиапон у хозяйки.
Надежда, повеселевшая, помолодевшая было после возвращения сына, теперь
опять будто состарилась за весну.
— И не спрашивай, Пиапон, — сказала она, — Ивашка будто в воду
глядел, появились белые-то. Как только сошел лед, пошли пароходы, тут они
сразу, прямехонько и появились и стали всех мужчин в солдаты забирать.
— А Митропана с Иваном тоже забрали? — испуганно спросил Пиапон.
— Нет, они рыбалили, потому остались.
— Чичас где?
— Вчерась тут пароход подходил, они и ушли в тайгу.
— Теперича так будут жить, пароход сюда — они в тайгу, пароход
уйдет — они домой.
— Это хорошо, — согласился Пиапон.
— Тревожное время-то, Пиапон, все боимся мы, слух про белых страшный
плывет по Амуру. Зверуют они шибко. Ваших-то они не тронут, вы сторонние
люди. В солдаты не возьмут.
«Это верно, — подумал Пиапон. — Нас и раньше в солдаты не брали, зачем
сейчас возьмут?»
Надежда осмотрела машинку, покрутила и начала что-то отвинчивать.
— Надю, не надо, не трогай. Митропан сам посмотрит.
«Женщина есть женщина, что она понимает? — думал он. — Хоть и умница
Надю, но она совсем все разломает. Исправлять такую машинку — дело мужских
рук».
— Надю, не надо, не трогай, Митропан сам посмотрит, — умолял он
хозяйку.
— Чево Митрофан, тут любая хозяйка, которая имеет машинку, справит.
И правда, к несказанному удивлению Пиапона, машинка затарахтела,
застрочила.
— Ое-е, Надю, ты все хорошо умеешь делать! — воскликнул Пиапон.
Надежда, польщенная похвалой, засмеялась.
— Ничево-то я не умею. Скажи жене и дочерям, толстые вещи пусть не
шьют.
Пиапон возвращался в стойбище встревоженный. Он беспокоился за своих
друзей, вспомнил рассказ Ивана о том, как отец воюет против сына, брат
стреляет в брата.
«Так случится, если Митропана белые заберут в солдаты, — думал он, —
Иван уйдет к красным, и они будут стрелять друг в друга. Надо их увезти на
дальние озера, самому тоже уехать на лето туда, и вместе жить. Туда и белые
не придут, и пароходы их не пройдут...»
...В стойбище начали готовиться к большому религиозному празднику касан,
дети Баосы собрались отправить душу отца в буни. Впервые после смерти отца
собрался совет мужчин бывшего большого дома: Полокто, Пиапон, Дяпа и Калпе.
Теперь к ним добавились: Ойта, Гара, Богдан и Хорхой.
Совет решил, кто сколько внесет денег на водку и угощения, кто добудет
мясо и рыбу. Все это было решено быстро и без споров. Но возник вопрос, кто
будет выступать старшим из четырех братьев. Молодым охотникам, впервые
присутствующим на таком совете, вопрос казался бесспорным: Полокто самый
старший, и он должен выступать за старшего. Но двое младших братьев, Дяпа и
Калпе, решительно заявили, что они хотят, чтобы старшим на касане и главой
семьи был Пиапон. Спорили долго, пока Пиапон не сказал, что Полокто старший
брат и он должен возглавить семью.
Большой касан — большое событие в жизни целого рода, и к нему надо
тщательно готовиться. Большой касан требует много денег на водку и угощения,
потому что он продолжается несколько дней, на него приезжают все желающие —
родственники и друзья. Приглашается великий шаман, он только один может
проводить душу умершего в буни.
После совета охотников бывшего большого дама Богдан ездил ставить сеть и
вернулся в сумерках.
— На касане столько бывает всяких игр, — ломающимся баском возбужденно
говорил Хорхой. — Эх! Хочется мне побороть кого-нибудь!
— Ты сильный, поборешь, — сказал Богдан и, взглянув на пане, мысленно
проговорил: «Это тебя будут сжигать. Скоро мы с тобой совсем расстанемся, и
мне не с кем будет делиться своими тайнами. Мы с тобой рядом спали, ели уже
семь лет, я к тебе привык. Жалко расставаться. Ты, дед, совсем уходишь?»
— Не сильный я, не смейся, — обиделся Хорхой.
— Не смеюсь нисколько, ты ловкий, ты быстрый, в прыжках и в беге ты
обязательно победишь, — ответил Богдан.
Подошла Агоака, поставила перед пане рыбный суп, чумизовую кашу и чай.
Семь лет Агоака ухаживает за пане, утром, в полдень, вечером ставит перед
ним еду, раскуренную трубку, вечером стелит его постель, утром прибирает. За
семь лет она ни разу ничем не обделила пане.
На следующий день дети и внуки Баосы разъехались в разные стороны, одни
поехали закупать продовольствие и водку, другие — к хулусэнскому шаману
Богдано и к родственникам — оповещать о касане. Возвратившись домой, они
готовили мясо, рыбу, и на всю эту подготовку ушел месяц.
К назначенному времени в Нярги стали съезжаться гости. Вскоре Нярги
превратилось в большое, многолюдное стойбище. Сколько тут было встреч старых
друзей, сколько было новых знакомств, сколько молодых юношей и девушек
влюблялось! Всего не перечесть.
В начале касана утром к стойбищу подъехала лодка с великим шаманом.
Восемь молодых гребцов сидели за веслами, один к одному, смуглые, сильные,
красивые!
— Шамана привезли! Шамана привезли!
Народ устремился на берег, молодые — бегом, пожилые — размеренным
шажком, старики — ползком. Все шли на берег.
Подъехал неводник шамана, лихо развернулся и пристал к берегу кормой.
Десяток рук подхватили лодку и чуть ли не всю вытащили на песок.
К шаману подбежал Полокто, глава семьи, поднес чашечку водки.
— Ты устал, великий шаман, дорога твоя была длинная и утомительная, —
почтительно проговорил он. — Спасибо тебе, что не отказал нам и приехал.
Выпей, великий шаман.
Шаман выпил водку. Полокто вновь налил в чашечку и подал сидевшей рядом
с шаманом жене.
— Спасибо тебе, что приехала, — сказал Полокто. — Без тебя, может,
великий шаман отказался бы ехать.
— Что от нас, женщин, да еще старых, зависит, — ответила седая
старушка, и этим ответом изумила всех присутствующих. Ответ ее совсем не
подходил этому торжественному моменту.
Полокто пропустил слова старушки мимо ушей, наполнил вновь
чашечку-наперсток и подал кормчему.
— Спасибо тебе, кормчий, что так быстро ты привез великого шамана, —
сказал он.
— Амур, наш кормилец, помогал нам, — ответил кормчий и выпил.
Тут только поднялся с места шаман и вышел на берег. Полокто преподнес
ему вторую чашечку.
— Спасибо, великий шаман, без тебя бы мы никак не обошлись.
— Я еще не совсем уверен в себе, как бы не оставить мне доверенную вами
душу вашего отца на полпути.
— Соберись с силой, великий шаман, — сказал Пиапон.
— Постараюсь.
Калпе взял шапку великого шамана с двумя рогами и вынес из лодки рогами
вперед. Он же взял берестяной короб с одеждой и бубен. Калпе медленно пошел
к дому, за ним поплелся шаман.
Богдано сел на отведенное место, закурил поданную трубку. Возле него
сели сыновья Баосы.
— Как ты в эту зиму жил? — спросил Полокто великого шамана.
— Плохие времена пришли, жизнь стала труднее, — ответил Богдано.
Агоака поставила перед ним столик, подала еду. Полокто налил чашечку
водки.
— Говорят, жизнь скоро улучшится, — сказал он.
— Кто его знает. Наши охотники зимой не купили муки и крупы в Малмыже,
услышали, будто бы торговец У увез всю муку и крупу в Болонь, и поехали
туда. Дорого продавал У муку, очень дорого.
Шаман стал есть. Полокто угощал его водкой, смотрел, с каким
удовольствием он ест, и думал, что хорошо быть шаманом, его в каждом доме
встречают с почетом, он всем нужен, и ему теперь платят царскими серебряными
рублями. Сколько денег накопил он? Много, наверно. Зачем ему, старому,
деньги, когда у него нет даже детей? Старый-то старый, а выглядит совсем
молодо, волосы и те не все побелели.
— Жизнь не улучшится, пока русские не кончат воевать, — сказал
Богдано.
— А кто победит, белые или красные? — спросил Калпе.
— Кто сильнее, тот и победит.
«Хорошо ответил», — подумал Полокто. «Хитро ответил», — подумал
Пиапон. «Так бы и я ответил», — усмехнулся Калпе.
В это время недалеко от большого дома молодые охотники строили итоа
(Итоа — сооружение из тальника, крытое циновками, имеет два выхода,
восточный — для живых, западный — для мертвых. Внутри и вокруг итоа стелят
циновки для сиденья.), пожилые из куска дерева тесали мугдэ (Мугдэ —
деревянное изображение покойника.). Всеми этими работами руководил Холгитон.
— Он был мой друг, я должен видеть, как провожают в последнюю
дорогу, — говорил он.
— Отец Нипо, зачем строим итоа? — спросил его Богдан.
— Это последнее жилье твоего деда, вот с этого западного выхода он
выйдет и больше никогда не вернется, на вечные времена он уйдет на покой в
буни.
Многое было непонятно Богдану в приготовлениях к касану, и он
расспрашивал взрослых обо всем, что его интересовало. Он старался ничего не
пропустить, все увидеть и услышать.
Когда итоа был накрыт циновкой, он вошел в дом. Полокто подал шаману
чашечку водки и сказал:
— Великий шаман, выбирай себе жену.
Шаман с чашкой водки стал медленно обходить охотников, остановился перед
Гарой.
— Как женой? Я... я... — испугался Гара и даже побледнел. «Помощником
будешь. Помогать будешь», — зашептали вокруг. Гара совсем растерялся.
— Ничего трудного нет, будешь одежду надевать на меня да вешать, где
положено, — сказал шаман.
Гара принял с его рук чашечку и выпил. Вторым помощником шаман выбрал
Хорхоя, в обязанности которого входило носить бубен шамана, подогревать
вовремя, чтобы он звонче гремел.
Шаману сообщили, что итоа построен, мугдэ находится на месте, и он начал
одеваться. Гара подал ему халат из китайского шелка, пояс, тяжелый, расшитый
передник, яркие рукавицы и шапку с рогами.
Богдано одевался не спеша, он знал, что народ следит за каждым его
движением, что некоторые любопытные пытаются даже запоминать, каким узлом он
завязывает завязки передника. Два десятка лет Богдано считается великим
шаманом, два десятка лет он один из всех амурских шаманов имеет право носить
шашку с рогами, знак великого шамана, но до сегодняшнего дня он не может
избавиться от тщеславия. Стоит ему заметить в глазах людей страх, восторг и
зависть некоторых молодых, и вдруг он будто молодеет, голос звенит, мускулы
ног и рук твердеют.
Шаман взял посох, выпрямился и пошел к двери. За ним шли помощники.
Когда шаман переступил порог, под ноги ему бросили горящую головешку. Он
переступил через нее и важно пошел в итоа. Зашел он в последнее жилище души
Баосы с восточной стороны, со стороны Жизни. В итоа стоял столик с едой и
водкой. Хорхой подал шаману подогретый бубен, и он запел первую обрядовую
песню.
Богдан стоял возле итоа, слушал песню и даже слов не мог разобрать.
Первая песня шамана была короткая, после нее Богдано подкреплялся, ел и
пил, потом спел вторую песню и опять закусил, спел третью песню, выпил
поданную Полокто чашечку, взял посох и вышел из итоа. И опять люди бросали
ему под ноги головешки, и он, перешагивая через них, возвратился в дом.
Гара с Хорхоем шли за ним и тоже перешагивали через головешки. «Это они
очищаются от прилипших к ним злых духов», — объяснял Богдану незнакомый
охотник.
Шаман подошел к нарам и встал на колени перед пане, отбил поклоны.
Полокто с Пиапоном опять стали угощать его.
«Почему он не пьянеет? — думал Богдан, глядя, как шаман выпивает
водку. — В лодке сидел, когда ему подали первую чашечку, с того времени он
пьет да пьет. Крепкий на водку, что ли? Может, за него его саваны пьют?»
Гара помог шаману раздеться и вышел на свежий воздух.
— Сказал, ничего нет трудного, а на самом деле стой подле него, одевай
да раздевай, — жаловался он.
— Зато ты жена шамана, — сказал кто-то. — Почетно.
Богдан зашел в дом, когда шаман зачем-то бил посохом по рогатой шапке.
— Это он пробует, крепка ли шапка, хорошо ли сидят рога, — объяснили
ему.
Шаман надел шапку и вышел из дому. Ему опять бросили под ноги горящие
головешки. Возле итоа висела медвежья шкура, шаман три раза ударил посохом
по ней.
— Это он гонит чертей, — сказали в толпе.
Шаман, Полокто, Пиапон, Дяпа и Калпе вошли в итоа, они каждый раз
входили и выходили только через проход Живых. Полокто запел песню главы
семьи, его сменил шаман. А в это время Холгитон с северной стороны итоа
воткнул тороан — тальник с тремя развилками и прикрепил на нем птичье
гнездо, в гнездо положили вынесенное из дому пане.
Закончив песню, шаман вышел из итоа, его за пояс держал Калпе. За Калпе
вышел Полокто с ведром боды.
Шаман медленно, торжественно подошел к тороану с гнездом, три раза
ударил в бубен и запел:
— Кэку! Кэку! Кэку! Панямба иэку!
Народ плотно обступил итоа, все внимательно слушали песню шамана.
Полокто с Пиапоном стояли рядом.
Шаман вдруг замолчал. Полокто встрепенулся, поднял ведро с бодой и вылил
под тороан — тальник. Шаман внезапно прыгнул на тороан, но его крепко
держал за пояс Калпе. Шаман упал и громко вдохнул в себя воздух: «Э-э-э-пп!»
Калпе помог ему подняться, и шаман поспешил в итоа, вошел с западного входа
Мертвых и наклонился над мугдэ. Калпе ударил его кулаком по спине, и шаман
выдохнул: «П-п-а-а-ф-ф!»
Полокто вошел в итоа с входа Жизни, вытащил из грудного кармана
завернутые в тряпицу царские рубли и положил в берестяной короб, в котором
шаман хранил свои вещи.
А Богдано встал перед мугдэ на колени и запел новую песню.
— Шаман перенес душу из пане в мугдэ, — говорили в толпе. — Теперь,
молодые охотники, покажите, кто сильнее и проворнее всех.
Шаман сделал небольшую передышку, выпил, выкурил трубку, спел другую
песню и пошел отдыхать в дом. За ним последовали толпой молодые охотники.
Богдан шел со всеми вместе, он тоже решил попытать счастье. Шаман вошел в
дом, сел на нары, устало снял с себя шапку с рогами и подбросил над молодыми
охотниками. Богдан потянулся за падающей шапкой, его подтолкнули, он тоже
толкнул кого-то; кто-то стукнул локтем ему в правый глаз. Богдан зажмурился.
Его тут же оттерли в сторону.
— Есть! Я взял! — закричал кто-то.
— Нет, я! Я первый подпрыгнул, раньше тебя схватил, — сказал Ойта.
Молодые охотники стали вырывать друг у друга шаманскую шапку.
— Дайте сюда, — потребовал шаман. — Пусть останутся эти двое ловких
молодых охотников. — Шаман взял шапку и, когда все расступились вокруг двух
молодцов, подбросил шапку. Шапка взлетела, сверкнув рогами, охотники
подпрыгнули, но длиннорукий Ойта первым схватил шапку за рога.
— Наши взяли! Ойта первый! — закричали вокруг. — Ойта будет самым
удачливым охотником!
«Ну вот, Ойта будет самым удачливым охотником, а меня чуть глаз не
лишили», — посмеиваясь, подумал Богдан, выходя со всеми молодыми охотниками
из дома. Молодежь потекла ручьем на песчаный берег Амура, на игрища. За ними
пошли пожилые охотники, потянулись старики, им хотелось посмотреть на
сегодняшнюю молодежь, вспомнить свои молодые годы, сравнить свое поколение с
нынешним. Холгитон догнал Богдана, взглянул на синяк на правом глазу и
засмеялся:
— В удачливые охотники лез? Из двадцати, тридцати молодых один должен
стать удачливым, счастливым. Ничего, сейчас в играх победишь. Меня в
молодости никто не мог победить в эриэмбури (Эриэмбури — захватив в легкие
воздух, бежать по кругу с криком.). У меня легкие, наверно, большие были, я
дольше всех бежал. Если ты побежишь, не старайся всех обогнать, тут главное
дольше кто кричит и дальше пробежит, — Холгитон помолчал и добавил: — А
деда твоего хорошо провожаем в последнюю дорогу, теперь мы с ним увидимся
только в буни. Я расскажу ему про тебя, он будет очень рад.
Молодежь начала разбиваться по группам, одни собирались участвовать в
борьбе, другие в перетягивании веревки, а самые сильные столпились вокруг
наковальни Годо. Сюда и потянулись старики. Холгитон тоже приблизился к ним.
— Здесь все Мэргэны-Баторы, — сказал он уважительно. Оглядев рослых
молодых охотников, добавил: — Не вижу среди них нового Кусуна. Вот кто был
силач! Груженую нарту, когда собака отказывалась тащить, брал на плечи и нес
по пояс в снегу. Это был силач!
— Да, Кусун был сильный, — поддакнули несколько стариков, сидевшие тут
же на мягком теплом песке.
Молодые охотники молчали, косились на тяжелую наковальню, опоясанную
веревкой. Кто же первый начнет? Никто не хотел первым показать свою силу.
— Храбрых тоже нынче маловато, — сказал кто-то из стариков.
Богдан никогда не поднимал эту наковальню, он только приблизительно
представлял ее вес. Ее требовалось не поднимать, а швырять. Рослый,
костистый Ойта подошел к наковальне, встал, широко расставив ноги, поднял
одной правой рукой наковальню, раскачал между ног и швырнул. Наковальня
пролетела шага на три. Старики загалдели.
— Затравку даст.
— Нет, он тут не будет победителем.
— Это не шапку шамана ловить.
Шагах в тридцати от этой группы молодые женщины затеяли свою игру —
чомиавори. По команде несколько девушек начали прыгать на одной ноге по
кругу. Скачут девушки под хохот женщин, подруги их кричат, подбадривают.
Сами девушки заливаются смехом и в изнеможении падают на песок.
— Не смейтесь, не смейтесь! — кричат пожилые женщины. — Ноги ведь
слабеют совсем. Несульта! Несульта! Крепись, крепись, дорогая! Догоняй,
догоняй!
В кругу остались только двое, Несульта, жена Гары, и девушка из
Хулусэна. Девушка из Хулусэна, внучка старого Турулэна, стала отставать от
Несульты.
— Ах ты, поганая девчонка! Да как ты смеешь сдаваться, ты ведь Заксор,
почему уступаешь этим Гейкерам! А ну, скорее, скорее! Вон как хорошо
скачешь. Веселее! Вот так, так!
Это Агоака. Она навеселе, как и все женщины в возрасте. Девушка,
подбодренная Агоакой, далеко обгоняет Несульту. Слова Агоаки напомнили
женщинам прошлогодний суд между Заксорами и Гейкерами, но никто ничего не
сказал, никто не обиделся, потому что на большом празднике касане нельзя ни
обижаться, ни ссориться.
Богдан наблюдал за хулусэнской девушкой, пока она не закончила победный
крут, потом подошел к наковальне, раскачал между ног и швырнул вперед.
Тяжелый снаряд пролетел всего восемь саженей. Опять загомонили старики.
— Нынче наковальни стали тяжелее, в наши годы были легче.
— Что наковальни! Кости нанай стали тоньше!
— Эй, старики, — сказал Холгитон. — Зачем этому молодому человеку
наковальни швырять? Ему готовиться надо дянгианом-судьей Заксоров стать. Так
строго о нем не говорите, ему не крепкие ноги и руки нужны, ему нужен
крепкий ум.
— Крепкие руки и ноги никому еще не мешали, — возразил кто-то.
— Вы начнете играть или нет? — уже недовольно спросил один из
стариков. — Видите, все люди на вас смотрят, другие игры не начинают. Ойта,
ты первый начинай. Чего ждать?
Зрители, окружавшие молодых, дружно поддержали старика. Тогда вышел
вперед молодой широкоплечий среднего роста охотник, будто шутя поднял и
швырнул наковальню, не раскачивая между ног. Как только наковальня
приземлилась, народ загалдел вокруг, старики зацокали языками.
— Это новый Кусун! Это новый Мэргэн!
— Откуда он? Кто такой?
— Найхинский силач, Хэлгэ Оненко. Он якорь железной лодки один на
плечах таскает, за ним двое-трое несут цепь.
— Слушайте! А когда на плаве сеть задевается за коряжины, он так тянет
сеть, что корма большого неводника уходит под воду.
— Вот это силач!
Хэлгэ Оненко, улыбаясь, выслушал результат: двенадцать саженей.
Наковальню двое юношей притащили обратно, но Хэлгэ не притронулся к ней. Тут
подбежали сразу трое юношей, заспорили, кому первому швырять. Страсти
разгорелись, началась настоящая спортивная борьба. Один за другим подходили
к наковальне молодые охотники, каждый хотел стать победителем, каждый хотел
прославиться на этом касане. После праздника будут разъезжаться гости по
своим стойбищам и разнесут молву о новом нанайском силаче. Но кто этот
силач? Уже больше десяти человек пытали счастье, и только одному Ойте
удалось швырнуть наковальню дальше Хэлги Оненко. Тогда Хэлгэ подошел к Ойте
и спросил:
— Через фанзу перебросишь?
Ойта даже опешил. Наковальню — через фанзу? Нет, Ойта этого не сможет
сделать. Неужели Хэлгэ швыряет наковальню через фанзу? Нет, это слишком!
Через землянку, может, швыряет, но через фанзу... Предложение Хэлги дошло до
стариков. Они заволновались.
— Не перекинет!
— Перекинет!
— Этого даже Кусун не смог бы сделать.
Холгитон не мог усидеть, он решил сам убедиться, сумеет Хэлгэ сдержать
свое слово или нет. Он послал двух молодых охотников к себе домой, попросил,
чтобы они выдернули его вешала для сеток и притащили сюда. Когда вешала были
принесены, их тут же установили, верхняя перекладина была на уровне крыши
фанзы.
— В наших местах еще никто не швырял наковальню через фанзу, — сказал
Холгитон, обращаясь к Хэлгэ. — Мы даже не знали, что можно ее через крышу
швырять.
Хэлгэ молча выслушал, он уловил насмешку в словах Холгитона, но не подал
вида. Он взял наковальню, отошел от вешалов сколько ему требовалось, измерил
глазами расстояние. Зрители расступились. Толпа молчала. Даже самые
говорливые пьяницы будто проглотили языки. Все ждали. Сейчас должно что-то
случиться небывалое: или молодой найхинец прославится на весь Амур, или он,
опозоренный, потихоньку ночью исчезнет из стойбища. Его никто не принуждал
швырять наковальню через перекладину вешалов, он сам напросился.
Хэлгэ огляделся, встретился с глазами односельчан, но их так мало в этой
толпе! Он оглядел всех и не встретил ни одного враждебного взгляда, у всех в
глазах только любопытство. Девушки и молодые женщины выглядывали из-за спин
мужчин, они подбадривали молодого силача: «Не бойся, ты сдержишь свое слово,
мы верим тебе!»
Хэлгэ улыбнулся про себя, нагнулся, взял веревку половчее, поднял
наковальню обеими руками, раскачал и, разгибая могучий торс, швырнул ее. Он
с открытым ртом, все еще напряженный в сгусток энергии, не ослабляя мускулы,
наблюдал, как наковальня тяжело поднялась над перекладиной вешалов, словно
нехотя перелетела через нее и, набирая скорость, плюхнулась на мягкий песок.
— А-а! Э-э! — закричали. — Это Мэргэн-Батор!
И в этом могучем реве восхищенных зрителей комариным писком звенели
голоса спорящих стариков. Они размахивали руками, кричали, но не слышали
друг друга.
— Такого мы еще не видели, Хэлгэ, ты Мэргэн-Батор, — сказал
Холгитон. — Теперь нам и умирать можно спокойно, за нами сильные и умные
люди подрастают.
Старики гурьбой потащили улыбающегося и смущенного Хэлгу в большой дом,
там они представили его великому шаману и начали угощать.
Освобожденные на вечер от своих обязанностей Гара и Хорхой прибежали на
состязания поздно. Герой первого дня, Хэлгэ, сидел в кругу стариков,
победитель в борьбе, Ойта, сидел на песке и отдыхал. Три пары молодых
охотников играли в чапчаури — бросали друг к другу травяной мяч и ловили
острым трезубцем, кто не поймал, тот отступал назад, победитель занимал его
место.
Две пары фехтовальщиков тарахтели короткими палками, играли азартно,
по-бойцовски.
— А бегать когда будут? — спросил Хорхой наблюдавшего за
фехтовальщиками Богдана.
— Завтра, — ответил Богдан.
Девушки и молодые женщины затеяли новую игру, они встали в круг,
подперли руками колени и начали прыгать, при каждом прыжке выкрикивали на
разные голоса: «Кэ-ку!» «Кэ-ку!»
Богдан прислушался к этой разноголосице, и вдруг его охватило какое-то
непонятное чувство. Что же это было — юноша не разобрался. Он опять
прислушался, и на него вдруг словно дохнуло теплым весенним ветром. Богдан
закрыл глаза. Да, это пахнуло весной. Только весной Богдана охватывали эти
тревожащие душу чувства. А девушки и молодые женщины прыгали:
— Кэ-ку! Кэ-ку!
Так весной кричат перелетные птицы.
— Кэ-ку! Кэ-ку! Кэ-ку!
Среди девушек и молодых женщин мелькал нарядный халат Миры.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Наступили сумерки. Из большого дома несся пьяный шум и смех. На берегу
молодежь заканчивала состязания. Идари обошла дом и смотрела на берег,
искала среди молодых охотников сына. Увидела, улыбнулась.
Молодежь расходилась по домам ужинать. Богдан с Хорхоем подошли к Идари.
— Кто из вас победитель? — спросила Идари. — Кому чашечку водки
подать?
«Большой, совсем большой, — думала Идари, разглядывая сына, откинув
назад голову. — Высокий, красивый. И совсем как чужой».
Идари с Потой каждый день по многу раз виделись с сыном, но говорили они
очень мало, хотелось родителям о многом сказать сыну, но каждый раз они с
удивлением сознавались, что говорить им было не о чем, как бывает при
встрече с малознакомым человеком.
— Что же делать, он уже взрослый, самостоятельный, — говорил Пота
жене. — Все дети такие. Вспомни себя.
Может, и прав Пота, но Идари не хочет этому верить, для нее Богдан
всегда останется младенцем, подростком, таким, каким ушел к деду. Сейчас она
закидывает назад голову, когда заглядывает в глаза сына, но он все же
маленький, совсем еще маленький. Но почему же тогда так трудно с ним
разговаривать?
Идари с молодыми людьми обогнула большой дом. Здесь женщины варили,
жарили, они целый день не отходили от котлов.
— Выпить не хотите? — спросила Идари.
— Мы не пьем, мама, — ответил Богдан, усаживаясь на циновку.
— Какие вы охотники. Потому и на состязаниях не побеждаете.
Идари принесла столик, наставила на него разную еду и села рядом с
сыном.
— В итоа ночью дикого не будет? — спросил Хорхой.
— Если жива была бы бабушка ваша, она должна была переночевать с
мугдэ, — ответила Идари.
— А теперь кто?
— Мы с матерью Гудюкэн.
— Нам можно? — спросил Богдан.
— Почему нельзя? Можно. Вы же семь лет рядом с пане спали.
«И последнюю ночь поспим рядом», — подумал Богдан.
Молодые люди насытились, и Хорхой пошел искать сверстников, пообещав
вернуться спать в итоа.
— Сколько дней мы рядом находимся, а так мало слов сказали, — начала
Идари. — Почему это, сын?
— Не знаю, мама.
— Мы в год раз, два только видимся, а сколько всякого бывает в нашей
жизни. Мы не знаем о тебе и ты не знаешь о нас.
— Почему не знаю? Знаю.
— Мне, сын, все время кажется, что ты сторонишься нас.
— Нет, мама, ты не права. Я ухожу потому, что вы молчите и мне нечего
говорить. При первой встрече вы рассказали, как дядя Токто с тетей живут,
как Гида с женами и детьми, а я все рассказал о себе.
— Не все, сын. Ты уже взрослый, дяди и тети говорят, будто ты самый
богатый жених на Амуре. Где твоя невеста?
Богдан покраснел, достал трубку и закурил.
— Нет у меня невесты, — сказал он тихо, оглядываясь вокруг.
— Что, девушек не стало на Амуре?
— Я не хочу жениться.
Он курил и думал, что все его сверстники давно уже женаты, имеют детей.
Если бы не Мира, он возможно тоже женился на какой-нибудь девушке и на
радость матери имел бы уже ребенка. Но Мира... Об этом разве расскажешь
кому? Об этом никто не должен знать. Ни одна душа, кроме него и деда,
который послезавтра совсем уйдет в буни и унесет его тайну.
— Идари, ты это с каким молодым человеком здесь уединилась? — спросила
Агоака, выходя из-за итоа.
— Нашла, ты вот попробуй найди такого, — засмеялась Идари.
— Такого не найти, он самый богатый жених, он может любую красавицу
купить.
Агоака после игрищ еще выпила со старухами в большом доме.
— Он и Хорхой собираются с нами в итоа ночевать, — сказала Идари.
— Это хорошо, деду не будет обидно.
Агоака вошла в итоа, расстелила постель, предназначенную для пане, и
уложила мугдэ. Рядом постелила для себя с Идари и для юношей. Когда она ушла
в дом, Богдан вошел в итоа и лег. Рядом села Идари и закурила.
— Предпоследнюю ночь мы с ним, — сказала она.
Богдан смотрел в щель между циновками, видел большой отрезок черного
неба со звездами, но звезды «колеса неба» не было среди них. Она была где-то
в стороне. Богдан вспомнил ночевку с дедом под открытым небом, как он
воткнул в его изголовье маховик, на острие которого светилась звезда «колесо
неба».
— Проводим деда, — продолжала Идари. — И ты мог бы вернуться к нам, с
нами жить.
— Не знаю, мама, надо подумать.
И Богдан думал, думал не первый день о возвращении в родную семью. Он не
против вернуться к матери и отцу, хотя и самостоятельный он человек. Но
возвращаться на Харпи ему не хотелось. Он привык к Нярги, и ему трудно было
покинуть это стойбище, трудно было расстаться с новыми друзьями в Нярги,
Мэнгэне, с русскими в Малмыже. А самое главное, в Нярги он узнавал все
события, которые происходили где-то на стороне и приходили на Амур. Нет,
Богдан не мог покинуть Амур. С этими мыслями Богдан незаметно уснул.
Утром его разбудил поцелуй матери. У него сладко защемило сердце: давно
мать так не будила его.
Богдан вышел из итоа, и тут показался шаман во всем одеянии с шапкой с
рогами на голове. Богдан выхватил головешку из-под котла и бросил ему под
ноги. Шаман переступил головешку, вошел в итоа и несколько раз сильно ударил
в бубен. Агоака подняла мугдэ, посадила и подперла подушками. Подошли
старушки.
Шаман запел песню и, окончив ее, ушел в дом. Гара с Хорхоем, сонные,
невыспавшиеся, следовали за ним.
Женщины начали готовить угощение. В самом большом котле варили фасоль, в
другом сою, в третьем мясо, в четвертом кашу из риса, в пятом кашу из
пшенки. Задымили костры возле итоа. Молодежь собралась на берегу реки,
начались игры, состязания. Состязания начали бегуны по кругу. Пять юношей
встали в ряд, по сигналу, вдохнув в легкие воздух, с криком бросились
бежать. Первые сошли с круга, пробежав саженей двадцать-тридцать. Другие
обогнали их на саженей восемь-десять и тоже сошли. Только победитель
пробежал весь круг. После первой пятерки бежала вторая, третья. Богдан с
Хорхоем, которого до полудня освободил шаман, бежали в одной пятерке. Хорхой
сошел раньше Богдана и оправдывался:
— Разве это бег? Ну сколько у человека хватит воздуха в легких? Нет,
это не бег.
В конце состязания бежали только победители предыдущих забегов. Среди
них был Гара, он и одержал победу, пробежав полтора круга.
— А легкие у нынешних людей сузились, — говорили старики.
— Да, меньше стали. В наше время по три круга бегали.
Старики с утра уже были навеселе.
Ойта подбирал в свою команду дюжих молодых охотников, он решил сегодня
взять верх над Хэлгой Оненко на перетягивании веревки. Хэлгэ тоже собирал
своих верховских юношей, и вскоре обе команды стояли друг против друга.
Холгитон стоял между ними и держался за слегка натянутую веревку.
— Напрягитесь! — скомандовал он. — Ловчее возьмитесь. Тяните!
Холгитон опустил веревку. Но обе команды как бы застыли, ни одна не
могла перетянуть другую. Зрители кричали, надрывали глотни.
— Ойта! Эй, Ойта, не срами сегодня нас!
— Хэлгэ! Хэлгэ! Где твоя сила? Где твои ноги и спина, которые поднимали
якорь железной лодки? Напрягайся!
А молодые охотники по-прежнему ни с места! Уперлись в родную землю,
распластались над ней.
— Ойта! Ойта!
— Хэлгэ! Хэлгэ!
Вот нагнул еще ниже свои могучие плечи Хэлгэ, осторожно поднял правую
ногу, чтобы ловчее упереться, и в это время команда Ойты сдвинулась с места,
на шаг прошла вперед, на второй. Какую неосторожность допустил Хэлгэ! Теперь
попробуй упрись половчее, когда тебя волокут. Уже на три шага отступила
команда Хэлгэ. На четыре. Хэлгэ ищет под ногами спасительную лунку, за
которую можно было бы зацепиться. Но нет лунки. Весь песок, глубиной до
колен, пропахали ноги ребят его команды.
— Ойта! Ойта! Жми! Ваша победа! Низовские побеждают!
— Хэлгэ! Хэлгэ! Что с тобой случилось?! Да упрись ты получше!
Низовские охотники еще поднажали и поволокли упиравшихся верховских
юношей по мягкому песку, только глубокий след на мокром песке остается за
ними.
— Хватит, Ойта! Хватит! — кричит Холгитон. — Ты победил.
Ойта доволен, низовские оказались сильнее на перетягивании веревки.
Наступил полдень. Все зрители и участники состязания пошли к итоа. Здесь
уже потухли костры, воздух будто напоен запахами вкусной еды. В итоа готовят
эту еду. Готовят много-много разных кушаний: на касане угощение должно быть
самым разнообразным, из тридцати-сорока блюд. А из чего приготовишь эти
тридцать-сорок блюд? Приходится женщинам самим придумывать разные кушанья из
той еды, что сварена в пяти котлах. Фасоль с жиром, фасоль с сахаром, фасоль
с мясом, фасоль без жира и без сахара, фасоль с рисом, фасоль с пшенкой,
фасоль... Теперь можно взять рис. Рис с жиром, рис без жира, рис... Надо
только побольше выдумки, и из содержимого этих пяти котлов можно изготовить
сто блюд.
Народ стекается к итоа, а из итоа выходят женщины одна за другой с
мисками и ложками в руках. И чего только нет в этих мисках! Народ смотрит на
женщин — сколько их! И у каждой разная еда. Сколько всякой еды! Попробуешь
по одной ложке с каждой миски и будешь сыт. Вот это угощение!
Женщины обходят толпу, одна за другой, другая за третьей. Первая
подносит первую ложку самому старому охотнику, за ней вторая подает свою
ложку этому же старику, за ней третья, четвертая... А первая уже идет
впереди и подает по ложке каждому, кто у нее на пути.
В это время шаман при помощи жены — Гары одевается, готовится к выходу.
А Агоака с Идари складывают в берестяной короб небольшие блюдечки с
различной едой.
— Правда, он отгадает? Правда? — спрашивает Идари.
— Обязан. Если не отгадает, то какой же он великий шаман? — отвечает
Агоака. — Обожди, у меня где-то есть туесок голубицы, давай смешаем так,
голубицу и мясо.
— Такой еды нет.
— Хорошо, что нет, труднее ему отгадать.
— Я согласна. Давай еще так, есть прокисший вчерашний суп, насыплем в
него голубицу.
— Это нехорошо.
— Чего нехорошо? Он великий шаман, пусть отгадывает. Какой же он
великий шаман, если не отгадает.
Агоака улыбается.
— Тебе только скажи, ты начнешь выдумывать.
Женщины одна за другой приходили с пустыми мисками, наполняли их и
уходили угощать народ. Пришла Хэсиктэкэ и среди десятков котлов, кастрюль не
могла разыскать свое блюдо — рис с пшенкой, а Далда бренчала крышками,
искала пшенку с сахаром.
Все пробовали угощение, все насытились, вкусная была еда. Вышел из дома
шаман, пошел в итоа, перешагнул через головешки. Сел в итоа возле мугдэ.
Хорхой подогрел бубен, подал ему. Шаман спел первую песню. Отдохнул.
Покурил. Запел вторую песню. Все слушатели столпились вокруг итоа, всем
хочется увидеть, как шаман отгадывает женскую хитрость. Чтобы видно было
всем, с итоа сняли циновки. Шаман сидел возле мугдэ и пел, изредка ударяя в
бубен. Возле него находились Полокто, Пиапон, Дяпа, Калпе. Они все время
находились возле шамана. Агоака внесла в итоа берестяной короб и поставила
перед Богдано. Шаман даже не взглянул на короб и продолжал петь.
— Отгадывай, что в коробе! — крикнул кто-то из нетерпеливых.
Богдано три раза сильно ударил в бубен и продолжал:
— Шаман, хотя он и шаман, он человек. Он тоже может иногда ошибиться.
— Э, запасную тропу прокладывает, — сказал кто-то в толпе.
— Но мне, шаману, у которого шапка с рогами, нельзя ошибаться в малом
деле. Меня ждут впереди большие дела, — пел шаман. — Вы сами знаете, как
хитры бывают женщины, потому вы предложили им испытать меня. Женщины бывают
подлы.
Слушатели замерли. На касане не сердятся, не ругаются, а тут сам шаман
говорит такое. Это похоже на ругательство.
— Но эти женщины, которым вы доверили испытать меня, честны, они хотели
меня обмануть, думали, не отгадаю я их хитрость, — шаман пел не повышая
голоса, тихо бил по бубну. — Положили они в берестяной короб фасоль с кашей
рисовой без жира. Так?
— Так! — ответила Агоака.
— Положили они кашу рисовую с мясом.
— Так!
— Положили они кашу рисовую без жира.
— Так!
— Положили они кашу рисовую с сахаром.
— Так!
— Не пойму этих женщин то ли они так любят рис, то ли рисом хотели меня
обкормить, почему-то, кроме рисовой каши, нет другой. Положили они еще одну
кашу рисовую с мясом.
— Так, — негромко ответила Агоака и, смутившись, опустила голову.
— Хорошо, шаман! — выкрикнули слушатели.
— Рис еще ничего, это не испытание для меня. Но зачем они мне подсунули
мясо, смешанное с голубицей, этого не могу понять?
— Есть мясо с голубицей! — выкрикнула Идари из-за итоа.
Все засмеялись, одни хвалили женщин за находчивость, другие шамана, что
так ловко распутывает хитрость женщин.
— Это еще ничего, я могу есть мясо с голубицей, хотя никогда раньше не
пробовал, — продолжал шаман, — но никогда мне не приходилось пробовать
прокисший суп с голубицой. Что это за еда? Может, эти женщины своих мужей
всегда кормят прокисшим супом с голубицой?
Слушатели застыли в изумлении, тишина разлилась над толпой. Потом
кто-то, сдерживая себя, засмеялся, и тут будто гром ударил с неба, — так
грянул смех.
— Ай да женщины! Ну и женщины!
— Вот придумали! Ха-ха-ха! Прокисший суп!
— Да еще с голубицой! Хи-хи-хи!
— Попробуй посостязайся с ними в хитрости!
Шаман даже не улыбнулся, напротив, он казался недовольным, сердитым.
Полокто смотрел ему в лицо и пытался узнать — сердится великий шаман или
ему тоже смешно. Но лицо Богдано оставалось непроницаемым, и Полокто не
знал — сердиться ему на сестер или смеяться со всеми вместе.
Когда немного стих хохот, шаман трижды ударил по бубну и продолжал петь:
— Мне еще ничего не ответили, может быть, я ошибся...
— Нет, не ошибся! — выкрикнула Идари. — Есть такой суп!
Опять засмеялись охотники, их жены, дети.
— Что же поделаешь, я завишу от женщин, которые кормят меня, —
продолжал шаман. — Но суп сам не стану есть, накормлю своих собак ездовых.
Сам я выпью ту водку, которую они положили в берестяной короб.
Шаман закончил песню под шумные выкрики слушателей:
— Это шаман! Все узнал, все распутал!
— Не зря носит шапку с рогами!
— Надо проверить короб, может, он что перепутал.
Любопытные прильнули к итоа. Агоака, красная от смущения, открыла короб
и все, кто стоял ближе, увидели в мисках перечисленные шаманом блюда.
— Где там прокисший суп?! Где? — спрашивали задние.
Агоака, совсем смутившись, схватила миску с несчастным супом и хотела
выбежать через западный проход, проход Мертвых, но шаман схватил ее за подол
халата и молча показал на восточный проход. Агоака, под смех окружавших,
отбежала подальше от итоа и выплеснула суп.
— Это все из-за тебя, — сказала она сестре. — Такой стыд.
— Ничего стыдного, всегда так делают, — сказала старуха Гоана.
Шаман, сняв рогатую шапку, отдыхал. Выпил несколько чашечек водки,
которые подносили ему братья. Потом он стал молиться. В это время через
восточный вход просунулась рука, и кто-то передал берестяной короб. Когда
Богдано кончил молиться, опять сняли циновки с итоа, и все застыли в
ожидании.
Полото передал шаману короб. Шаман взял короб, повертел перед собой и
поставил рядом. Опять наступила тишина, все смотрели на великого шамана.
Наступил момент, который так нравился Богдано, — на него с
любопытством, смешанным со страхом, смотрели молодые и старые охотники. Как
приятно чувствовать себя могущественным!
Богдано уже отгадал, чей это подарок, но ему нужно растянуть время,
придать таинственность этому разгадыванию. Он закурил и опустил голову.
Пусть ждут. Пусть томятся. Какая тишина! Даже не подумаешь, что вокруг стоят
сотни людей. Правильно, великий шаман отгадывает, он думает, потому должна
быть такая тишина. Богдано поднял голову, помолчал и сказал:
— На этот раз — это мужская рука испытывает меня. Молодая рука. Голова
умная. Это сын одной той женщины, которая испытывала меня раньше.
— Богдан?! — спросили из толпы.
— Да, его зовут Богдан, он сын Поты и Идари, внук человека, которого мы
провожаем.
— Что он положил в короб?
— Здесь хороший соболь лежит. Белок двадцать пять штук.
— Это тебе на шапку, — подсказали из толпы.
— Богдан! Богдан! Верно он отгадал?
— Верно, верно, — ответил Пиапон, предложивший Богдану сделать
обрядовый подарок шаману.
— А кто тебе подал короб? — спросили шамана.
— Один из тех, кто обязан мне подогревать и подавать бубен, — отвечал
шаман. — Но на этот раз он ошибся и вместо бубна подал берестяной короб с
подарком.
— Хорошо, шаман, ты отгадал все наши хитрости, — сказал Полокто. — Ты
не потерял своего могущества, ты можешь проводить нашего отца в самый
дальний путь.
Он налил шаману чашечку водки. Народ стал расходиться, сегодня больше
шаман ничего не покажет, не будет больше камлать, он уйдет на отдых. Сегодня
продолжатся состязания молодых Мэргэнов-Баторов.
Широким ручьем хлынул народ на берег реки, на мягкий песок. Состязания
начали бегуны. Холгитон и на этот раз был судьей. По его команде вихрем
сорвались тонконогие, легкие юноши и устремились по прибрежному мокрому
песку вверх по реке, обогнули один за другим забитый кол и возвращались
обратно. Впереди бежали Хорхой и юноша из верховского стойбища Толгон.
— Хорхой! Хорхой! Нажимай, вниз по течению бежишь?
— Канчу! Канчу! Не уступай низовским, все силы выкладывай!
— Хорхой! Канчу! Хорхой! Канчу!
Юноши ветром пробежали мимо болельщиков. Тут опять заспорили старики.
— Они ноздря в ноздрю бегут, — сказал один.
— Они ухо в ухо идут, — сказал второй.
— Нет, на пол-уха впереди Хорхой, — возразил третий.
— Какой там на пол-уха, на целое ухо впереди! — воскликнул четвертый.
И заспорили старики, и загалдели они. Пожилые охотники, стоявшие рядом,
подливали масла в огонь, то поддакивали первым, то возражали вторым.
Хорхой первым пробежал мимо Холгитона и стал победителем. Его обнимали,
хвалили. Богдан полой своего халата вытирал его потное лицо, шею.
— Ты быстрее, чем настоящий хорхой летел, — хвалил он.
Поздно закончились состязания борцов. Большинство зрителей раньше
времени присудили победу Хэлгэ. Но в последней схватке Хэлгу неожиданно
победил юноша из Болони. Он начал легко швырять тяжелого Хэлгу через себя.
Силач Хэлгэ ничего не мог поделать с ловким юношей. Это было забавное
зрелище, народ кричал, топал ногами. Победил юноша из Болони. Но поражение
Хэлги не уронило его в глазах зрителей.
— Ты, конечно, сильнее его, но он ловкий. Ох и ловкий! — говорили
старики, окружив своего любимца.
Начались соревнования прыгунов через веревку. И в это время раздался
крик:
— Смотрите! Смотрите! Люди в лодках спускаются!
Вниз по Амуру спускались три больших неводника, каждый был переполнен
людьми.
— Это русские! — закричал кто-то тревожно.
Неводники поравнялись со стойбищем. На середине первой лодки стоял
человек и пристально глядел на берег. Проезжавшие на лодках молчали. Молча
наблюдали за ними и с берега. Богдан всматривался на стоявшего в середине
первой лодки человека и ему он показался знакомым. Человек взмахнул рукой,
гребцы опустили весла в воду, и лодка поплыла дальше.
«Я знаю этого человека, — думал Богдан. — Я его где-то видел».
В большом доме опять пили, шумели, смеялись. Поужинав, Богдан лег в
итоа, рядом с мугдэ. Напротив легла мать.
— Сегодня последняя ночь, завтра мы навсегда расстанемся с ним. А через
два дня мы уедем к себе в Джуен. Ты поедешь?
— Не знаю, мама.
Утром опять шаман разбудил стойбище громом бубна, потам отдыхал до
полдня. А няргинцы и гости опять собрались на берегу, где продолжались
состязания и игры молодежи.
В полдень отдохнувший шаман стал одеваться. Впервые ему надели медные
бляхи — толи, на спину — две дирен тола, на груди — четыре нера толи.
Когда он запел в итоа, у восточного входа зажгли огонь Живых, у западного —
огонь Мертвых.
Шаман пел песню за песней с небольшими перерывами, потом он достал
глиняного сазана и вдребезги разбил о камень. Молодежь бросилась подбирать
осколки сазана. Подобрали до последнего осколка, подсчитали кто больше всех
подобрал и опять в победители вышел ловкий юноша из Болони, лучший борец
касана.
— Он будет первым рыбаком на Амуре. Он больше всех поймает сазанов! —
сказали старики.
Шаман Богдано вышел из итоа, он держал в правой руке копье с красным
платком. Начался захватывающий танец шамана с копьем. За ним гнались двое
юношей, шаман нападал на них, юноши убегали, юноши наступали на шамана,
шаман увертывался от юношей. Старый Богдано был резв, как
восемнадцатилетний, ловок и быстр, как молодой охотник во время борьбы с
медведем. Богдан смотрел, как он бегал вокруг итоа за молодыми, как
увертывался от их ударов, как прыгал, и удивлялся — откуда берется у старца
столько сил! Юноши дышали тяжело, отбежав в сторону, старались отдышаться, а
шаман один продолжал танец с копьем.
В это время Полокто с Пиапоном подвинули мугду прямо к западному выходу,
прикрепили к нему мочало, натянули. Подошел к ним сын Калпе Кирка, ударил
палкой по мочалу, порвал его и убежал, не оглядываясь, в дом.
Так мугду, душу Баосы, отделили от живых.
Шаман воткнул копье в песок, красный платок затрепетал на легком ветру.
Копье останется тут до завтра, и платок с него Полокто снимет только завтра.
— Очищай дорогу в буни, — сказали старики Ойте, стоявшему с луком и
стрелами, на концах которых тлели головешки. Ойта натянул лук и выпустил на
запад стрелу. Яркой звездой пролетела стрела с разгоревшейся головешкой. За
первой полетели вторая, третья стрелы. Дорога душе Баосы была «освобождена»
от других душ покойников.
Шаман отдыхал в итоа после юношеского танца с копьем. А сыновья Баосы
нагружали в небольшую берестяную оморочку с полозьями муку, крупу,
берестяные короба с вещами, с материями для одежды, сверху положили
игрушечную нарту, оморочку, топор, котелок, миски, ложки — все, что
необходимо человеку на охоте и рыбной ловле. Все вещи завернули в сеть и
сверху посадили мугду. Душа Баосы была готова отправиться в свою последнюю
дорогу. Женщины и старухи заплакали, наливали в чашечки водку, выливали на
мугду. Охотники прощались с Баосой.
— Скоро встретимся, Баосангаса, — говорили старики. — Жди нас, скоро
встретимся в буни.
Охотники отпивали глоток с чашечки, а оставшуюся водку брызгали на
мугду. Богдан вылил всю чашечку на мугду и почувствовал, как запершило в
горле, как слезы закипели в глазах. Он всхлипнул, вытер ладонью слезы и
отошел в сторону.
Шаман сел в оморочку с полозьями лицом к мугдэ, запел последнюю песню,
потом пересел спиной к мугдэ, лицом к западу, к миру Мертвых. Шаман отвозил
душу Баосы в буни. Он продолжал петь прощальную песню. Еще не закончил шаман
прощальную песню, подбежали охотники к оморочке, развалили ее. Шаман упал на
землю. Его подняли двое молодых охотников, сделали шаг в сторону итоа и в
это время затрещали выстрелы вдали, потом затарахтел, захлебываясь, пулемет.
Охотники, женщины и дети замерли. Шаман Богдано выпрямился.
— Это в Малмыже, — прошептал он.
— Это те, которые вчера проехали мимо нас, — сказали в толпе.
— Дождались. Война пришла в наши края!
— Война! Война! Пришла!
У шамана ослабли ноги, он на самом деле стал опускаться на землю.
Молодые охотники помогли шаману войти в дом, добраться до нар. Так
закончился касан.
Молодежь собралась на берегу, но состязались без прежнего задора,
старики не спорили между собой.
Люди были встревожены. С наступлением вечера все разошлись по домам и
хомаранам. Когда совсем стемнело, собрались вокруг жертвенного огня.
На берегу озерка, где Баоса просиживал во время обучения внуков метанию
остроги, разожгли большой костер. Няргинцы и гости собрались вокруг костра,
бросали в огонь муку, крупу, связки юколы, табак, куски сети, немного
пороху, дроби. Калпе тут же рвал новые ткани полоской с ладонь и раздавал
девушкам и молодым женщинам. Полокто, Пиапон, Дяпа поили охотников водкой.
Люди разговаривали шепотом, женщины и старухи на сей раз не плакали. Касан
закончился, душа Баосы находится на пути в буни, а эти необходимые человеку
вещи и еда посылаются ему вслед.
Идари стояла рядом с сыном, глаза ее опухли от слез, она брала горстями
из мешочка фасоль и бросала в огонь. Богдан тоже бросил горсть фасоли.
— Вот и нет с нами его, — сказала Идари. — Слово, которое ты дал ему,
теперь можешь забрать.
— Разве это можно? — спросил Богдан.
— Его же нет.
— Мама, я думаю так, что хвалить человека в лицо и ругать его же, когда
он отвернется, — это очень плохо.
Идари замолчала, она не могла уловить связи между своим предложением и
ответом сына. Пока она раздумывала, сын отошел от костра.
— Где Пиапон? — спрашивали сзади. — Его какие-то русские ищут.
— Какие русские? — встревожились люди. — Зачем ищут?
Пиапон передал свой хо с водкой Богдану и пошел к дому. Навстречу ему
вышел человек его роста, перепоясанный ремнями, с маузером на боку.
— Пиапон, здравствуй, — сказал человек очень знакомым голосом.
Пиапон пригляделся, лицо было знакомое, глаза, нос, но вот борода.
— Не узнаешь? — по-нанайски спросил человек.
— Кунгас! Павел! — воскликнул Пиапон и обнял старого приятеля.
— Я, Пиапон, я. Вот и встретились, — говорил Глотов, хлопая Пиапона по
спине.
— Ты не уехал к себе, туда, где солнце запаздывает на целый день?
— Не уехал, не уехал.
— Как же ты тогда убежал? Не поймали тебя?
— Это долго, Пиапон, рассказывать. А теперь просто некогда. Мы вчера
проезжали в Малмыж мимо вас, я хотел пристать, да смотрю у вас что-то
такое...
— Касан был.
— Так я и думал. Мы сегодня баржу с мукой отбили у белых, надо эту муку
подальше где-нибудь спрятать, чтобы белые не нашли. Ты можешь указать такое
место?
— Место найти можно... Только твоя баржа не пройдет, мелко.
— Баржу мы не сможем потащить, пароход убежал.
— Чего тогда будешь прятать?
— Муку. Если охотники нам помогут. Мы каждому за это дадим по пудовому
мешку.
— Помогут. Наши всем помогают, кто в беде.
— Вот и хорошо.
— Тогда скажи охотникам, пусть сейчас же выезжают в Малмыж и начинают
вывозить муку.
— Ты, Павел, партизан? — спросил Пиапон.
— Да, Пиапон, я помощник командира партизанского отряда, а командиром у
нас Даниил Мизин.
Костер на берегу озерка потухал, люди подходили к большому дому. Пиапон
собрал всех присутствующих и передал просьбу Павла Глотова.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Охотники окружили Пиапона.
— Чья мука?
— Почему эту муку надо вывозить и прятать?
Тут кто-то из няргинцев узнал Павла Глотова.
— Кунгас! Смотрите, это же Кунгас, учитель! — закричал он.
— Правда, Кунгас-учитель. Здравствуй, здравствуй, Кунгас!
Няргинцы от Пиапона отошли к Павлу Григорьевичу и трясли его руку,
говорили, что помнят его, но все думали, что он уехал к себе далеко-далеко,
куда солнце приходит с запозданием.
Богдан, услышав возгласы охотников, подошел к бывшему учителю, Павел
Григорьевич узнал его.
— Богдан! Молодец какой! — говорил он, пожимая жесткую ладонь бывшего
ученика. — Не забыл «Богородицу»?
— Забыл, — засмеялся Богдан.
— А читать и писать?
— Это не забыл.
— Хорошо, а сейчас, друзья, нам надо спешить, за ночь мы должны всю
муку вывезти и спрятать, — сказал Глотов.
Охотники, няргинцы и гости разбежались переодеваться. Пиапон пригласил
Павла Григорьевича и его спутников к себе на чай.
Агоака подогрела остаток угощения и принесла Пиапону на дом. Глотов
спешил, он торопливо съел, что было в миске, обжигаясь выпил чай и встал
из-за столика.
— Пиапон, мы ждем вас в Малмыже. Только поторопи охотников, — сказал
он и вышел из дому.
Пиапон переоделся и пошел в большой дом.
— На нехорошее дело идешь, Пиапон, — сказал шаман. — Мука чужая,
силой отобранная. Хозяева приедут, искать будут. Зачем ты вмешиваешься в
чужие русские дела?
— Не один я, все охотники согласились. Вон уже лодки сталкивают.
— Скажи им, чтобы не выезжали, это опасно.
— Их теперь не остановишь, они хотят помочь русским.
— Скажи им, это чужое дело, их не касается.
— Это они понимают. Кунгас-учитель однажды поругался с малмыжским
бачика. Знаешь из-за чего?
— Не знаю.
— Бачика издевался над нами, смеялся над шаманами. Тогда Кунгас-учитель
заступился за нас, за это его потом выгнали с работы. Теперь ответь, это его
касалось? Зачем он заступился за шаманов, когда не верит им?
— Видно, совестливый человек.
— Справедливый человек.
Шаман замолчал.
Пиапон выехал на своей оморочке. Рядом с ним плыли другие охотники на
оморочках, на лодках.
«Если бы все амурские жители так же столкнули все лодки и оморочки и
пошли бы помогать красным, то Амур на самом деле вышел бы из берегов», —
подумал Пиапон.
Кругом стояли няргинцы и их гости, они разговаривали вполголоса, курили,
в ожидании своей очереди. По широкому трапу мелькали в темноте грузчики, те
же няргинцы, чья была очередь нагружать свои лодки.
Пиапон разыскал Глотова, рядом с ним стояли командир отряда Даниил Мизин
и комиссар Иван Шерый, высокий, худощавый, с окладистой бородой. Глотов
познакомил Пиапона с командирами.
— Пиапон, наши неводники нагружены, но партизаны не знают куда
ехать, — сказал Глотов. — Ты найди им по одному проводнику на лодку.
Пиапон спустился с баржи, пошел к горевшим, как светляки, трубкам.
Вскоре он привел проводников, это были: Холгитон, Калпе, Богдан.
— Пиапон, ты мой помощник, — сказал Павел Григорьевич, когда Пиапон
вернулся на баржу. — Ты мне помогай.
Охотники тихо, без суеты и шума, нагружали лодки, оморочки и исчезали в
ночной темени. Пиапон помогал им, носил мешки с мукой, устанавливал очередь.
Вскоре последние лодки отошли от баржи.
— Павел, ты Митропана и его сына видел? — спросил Пиапон.
— Как же не встретить Митрофана, — свертывая козью ножку, ответил
Павел Григорьевич. — Он с нашими людьми на своем кунгасе повез муку.
— А в Малмыже есть чужие?
— В Малмыже есть кулаки, они за белыми идут, — ответил Глотов. — Им
мы не доверяем. А еще много таких, которые ни за нас, ни за белых. Им тоже
нельзя доверять, придут белые — они за белых и укажут, где спрятана мука.
«Он своим русским не доверяет, а нанай собрал со всех стойбищ, —
подумал Пиапон. — А что, если среди нанай найдется предатель? Посулят белые
десятки мешков муки и крупы, и кто-нибудь укажет место, где спрятана мука.
Что тогда?»
— Потому мы доверили возить муку только тем малмыжцам, которые за
красных, — продолжал Глотов, с шумом выдыхая из легких дым. — Ну, как ты
жил, друг, эти годы? — спросил он. — Давай сядем, поговорим.
— Жил я разно, рыбачил, охотился, в лесу работал, деревья валил, сучки
рубил. Разно жил, — ответил Пиапон. — Лучше ты расскажи, как ушел из
Нярги, как жил.
— А ведь ты, Пиапон, мне сильно помог добраться тогда до Хабаровска.
— Я?
— Да, ты. Тебя охотники всюду по Амуру знают. Когда я говорил, что ты
мой приятель, меня встречали как дорогого гостя, на дорогу продуктами
снабжали. Только в Сакачи-Аляне мне попался один плохой нанай, он меня чуть
не выдал жандармам, хотел арестовать и отвезти в Хабаровск. Ты его знаешь,
его зовут Валчан.
— Валчан? Как же, знаю я его, — кивнул Пиапон. — Жена у него русская,
дом большой, деревянный.
— Верно, жена русская и дом деревянный. Он как-то догадался, что я
ссыльный и бегу в город. Отобрал у меня ружье, котомку, а соседу сказал,
чтобы лошадь запрягал. Я думал, уже пропал, привезет он меня в Хабаровск,
сдаст кому надо, и меня опять будут судить, опять сошлют куда-нибудь
подальше.
«Ну что ты получишь от жандармов, когда сдашь меня?» — «Ружье твое». —
«Если из-за ружья хочешь меня жандармам сдать, то бери его, я тебе дарю». —
«Откупиться хочешь? — спрашивает он и улыбается, а улыбка у него очень
нехорошая. — Не выйдет. Кроме ружья, я получу расположение жандармов, они
будут считать меня своим. Это мне очень и очень важно: смогу тогда спокойнее
заниматься своими делами». — «Мелочный ты человек, — сказал я в ответ. —
Я жил среди гольдов в стойбище Нярги и такого, как ты, не встречал среди
них». — «Низовские все глупы, как касатки, — засмеялся он. — Один человек
там только немного ворочает. Это Американ». — «Слышал, — говорю я, — про
этого Американа. Ты считаешь его умным, потому что он обманывает своих
сородичей?» — «Чтобы обманывать, надо голову иметь». — «Я знаю человека,
честного, храброго и умного, зовут его Пиапон. Ты слышал про него?» Смотрю,
Валчан даже приподнялся. «Пиапон? — переспросил он. — Он ведь погиб в
Маньчжурии». — «Он жив и здоров, он мой большой друг». «А Американ мне
говорил, будто его хунхузы убили», — пробормотал Валчан.
Валчан помолчал, подумал и сказал, что если я друг Пиапона, то должен
стать и его другом. Он угостил меня водкой, накормил сытно, уложил спать. На
завтра даже проводил немного, дал адреса знакомых в Хабаровске. Я до сих пор
не понимаю, почему он так вдруг изменился, когда услыхал, что ты жив.
— Сам не знаю, — ответил Пиапон, удивленный поведением Валчана, — я
его только один раз видел, когда ехали в Сан-Син, заходил с Американом.
Больше я не видел Валчана. А ты рассказывай, как дальше жил, что делал.
— Я тоже, друг мой, по-разному жил, — усмехнулся в темноте Глотов. —
Если начну подробно рассказывать, этой ночи и дня не хватит. Скажу только —
везде бывал, работал, воевал.
Глотов замолчал, прислушался.
— Это болонские подъезжают, — сказал Пиапон, давно уже услышавший
скрип уключин.
— Эй, где тут мука? — закричал кто-то с передней лодки.
— Чего кричишь? Тише надо, — ответил Пиапон. — Всем передавайте,
чтобы не шумели.
— Э-э, это голос Пиапона, — заговорили в лодках.
Пиапон с Глотовым подошли к лодкам.
— Кто в первых лодках? — спросил Пиапон.
Охотники назвались.
— Хорошо. Старшим у болонских будет Самар Лэтэ, — продолжал Пиапон. —
Надо сегодня же ночью спрятать всю муку, чтобы место, где спрячете муку,
знали только вы и партизаны. Поняли? Где лучше спрятать?
— Под крышей где-то надо, — ответил голос Лэтэ.
— Нет, надо подальше от стойбища. Сложить все мешки в кучу и прикрыть
чем-нибудь. Я думаю, надо прятать в Натки.
— В Натки можно спрятать весь Малмыж, — ответил кто-то.
— Посоветуйтесь между собой и вывозите в Натки. С вами поедет один
партизан, он и запомнит то место.
— Пиапон, а ты что, партизаном заделался? — спросил Лэтэ.
— Здесь командиром Кунгас, вы должны его помнить.
— А как же, кто не помнит Кунгаса. Помним. Помним, — ответили
болонские.
— Он меня попросил помочь, Лэтэ, всех предупреди, чтобы зря не
раскрывали рта, если придут белые искать муку, чтобы все молчали. Если белые
узнают, что вы помогали партизанам прятать муку, вам несдобровать.
— Э-э, какое, оказывается, дело, — проговорил кто-то. — Если бы я
знал...
— Если кто боится, еще не поздно, может вернуться в теплую постель, под
бок жены.
— Чего много говорить! — сказал Лэтэ. — Все знали, на что идем. Люди
просили помочь, вот мы и приехали.
Болонцы начали нагружать лодки и оморочки мукой. Только они закончили
погрузку на последнюю лодку, стали подъезжать чолчинские охотники. После
чолчинских подъехали хулусэнские.
Коротка летняя ночь. Когда хулусэнские нагрузили лодки, стало настолько
светло, что Пиапон мог всех охотников узнать в лицо. Отъехали последние
хулусэнские, возвратились няргинские на легких оморочках. В это время с
малмыжского утеса прибежал один из партизан наблюдателей.
— Снизу подходит какой-то пароход, — сообщил он. — Где командир? Что
делать?
— Всем постам изготовиться к бою, — приказал Глотов. — Если будет
приставать к Малмыжу, обождать и по команде открывать огонь. Но я думаю, он
не пристанет здесь, капитан наверняка услышал, что мы тут находимся. Могут
прибыть только каратели. Вот их и будем бить.
Няргинские лодки возвращались одна за другой, охотники быстро нагружали
лодки и выезжали обратно. Приплыли обратно и партизаны.
— Такое место выбрали, никакой черт не найдет, — сообщил старший из
них. — Кустарник высокий на релке, но проплывешь рядом и не заметишь
мешков. Хорошее место ты указал, спасибо, — сказал он Пиапону и тут же
усмехаясь добавил: — Белякам на пароходе ни за что не пробраться. Хорошее
место.
— А Митропан где? — спросил Пиапон.
— Митрофан только к полдню доберется туда, тяжелый у него кунгас, —
ответил партизан.
— Павел, а как отобрали баржу? — спросил Пиапон.
— Нам сообщили, что в Малмыж привезут муку. А нам на зиму нужны
припасы, вот мы и решили отвоевать эту баржу с мукой. Пулеметы поставили на
удобных местах, партизаны спрятались в пещере, здесь на утесе. Подошел
пароход, баржу причалил к берегу, белогвардейцы и несколько японцев
столпились на палубе буксира. Тут мы открыли огонь. Белогвардейцы попадали,
спрятались, открыли ответный огонь. А наш пулемет сверху их крошит да
крошит. Капитан дал задний ход, а баржа уткнулась в песок и ни туда, ни
сюда. Тогда капитан сам побежал на корму и топором перерубил трос. Так баржа
с мукой досталась нам.
— Ты думаешь, белые вернутся за мукой?
— Обязательно. Ты скажи всем своим, чтобы муку, которую получат,
подальше спрятали. Пусть все отвечают, если будут спрашивать: «Ничего не
знаю, ничего не видел».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Богдано гостил в Нярги еще два дня и только на третий день выехал домой
в Хулусэн. Его отвезли молодые охотники, среди них был и Богдан.
В этот же день после полудня к Нярги подошла канонерская лодка с
расчехленными орудиями. На палубе толпились каратели. С лодки сбросили
якорь, и сарая громадина неподвижно застыла напротив большого дома. Орудия
лодки зашевелились, и к ужасу охотников повернулись жерлами на их дома.
Из лодки отделилась шлюпка, пристала к берегу, из нее вышел белогвардеец
и, волоча шашку, направился к большому дому. Охотники наблюдали за ним через
дверные щели, они боялись подойти к окну.
Пиапон тоже наблюдал за белогвардейцем, и ему вдруг показалось, что он
знаком с этим человеком, встречался где-то, но где и когда, Пиапон не мог
припомнить. Но он был совершенно уверен, что видел этого человека.
Сгорбленная спина, походка какая-то приплясывающая, усы. Да, Пиапон где-то
встречался с ним.
Белогвардеец вошел в большой дом и немного погодя вышел, огляделся и
направился в дом Пиапона. Когда он подходил к крыльцу, Пиапон вышел ему
навстречу. Белогвардеец окинул его взглядом, улыбнулся и сказал:
— Здравствуй, добрый охотник! Я очень рад, что встретил тебя. Ты
помнишь меня?
— Нет, не помню, — признался Пиапон.
— Ну, как же так? Правда, времени прошло много. Помнишь? Ты мне соболя
подарил?
Пиапон вспомнил. Да, он подарил тогда ему соболя. Он тогда был
полицейским. Приезжал с малмыжским бачика. В Нярги он был как раз в то
время, когда отец выехал разыскивать сбежавших Поту и Идари.
— Вспомнил? Мы тогда беседовали тут, на песке. С нами был еще один
маленький, другой худой и высокий.
«Да, так и было. С ним вместе были Холгитон и Ганга».
— Поп еще кричал на высокого, худого.
«Это тоже верно. Поп кричал на Холгитона, а Холгитон по-нанайски ругал
его».
— Живы они?
— Один умер, другой живой, — ответил Пиапон.
— Мы все под богом живем, — сказал белогвардеец и сделал скорбное
лицо. — Надо бы с тем, живым, встретиться, поговорить, вспомнить.
Пиапон повел его в дом Холгитона.
— Этот пароход зачем тут? — спросил он по дороге.
— Без дела он не ходит, — ответил белогвардеец.
Холгитон после касана захворал, жаловался на боль в желудке, но тоже не
отстал от других охотников, вместе с ними прятал партизанскую муку. Холгитон
сразу узнал в белогвардейце бывшего полицейского, поднялся с постели,
поздоровался за руку.
— Болеешь? Нехорошо болеть, нехорошо, — говорил белогвардеец. — Время
летнее, рыбу надо ловить, рыбий жир готовить. А почему вы все в стойбище
находитесь, не выезжаете на дальние озера? Наверно, какая работа тут
нашлась, да?
— Нету работа, болеем, — ответил Холгитон.
— А может, какие русские что заставили делать?
— Нету, заставляй нету, наша маленько праздник делал.
— Праздник? Касан, наверно?
— Да, да, касан. Твоя знает касан?
— А как же не знать? Я ведь почти всю жизнь на Амуре, всегда среди
ваших бываю, все обычаи знаю. О, на касане всегда весело! Я бывал на касане,
в стойбище Бельго был однажды, в Бичи был. Угощали меня шибко. У вас тоже,
наверно, угощали?
— Угощали, угощали, касан — праздник, кушать много нада.
— Много, наверно, пампушек было? Тех пампушек, которых на пару
изготовляют. Люблю я эти пампушки.
Пиапон, как только увидел канонерскую лодку, понял, зачем она явилась, и
не ждал ничего хорошего. Знал он, зачем явился этот белогвардеец. Давно
Пиапон приготовился к встрече с белогвардейцами, еще там, на барже, на
берегу Малмыжа, он решил прикинуться не понимающим русский язык. Но этот
бывший полицейский нарушил все его планы, он знал, что Пиапон говорит
по-русски, и перед ним нельзя было прикидываться не знающим русский язык.
Теперь Пиапону придется только отрицать свою причастность к партизанской
муке.
— Пампушек не было, — сказал он. — Мука дорого стоит, за нее много
пушнины требуют. Пушнины теперь нет, соболя нет.
— Да, соболя не стало в тайге. А муку кто продает?
— В Малмыже, в лавке Саньки Салова.
— Салов теперь богач, большой человек.
Супчуки поставила перед гостем столик, подала чай, летнюю юколу из
сазана. Белогвардеец взял кружку и сделал несколько глотков.
— Говорят, вам партизаны муку раздавали, это верно? — спросил он,
решив, наконец, закончить игру в прятки.
— Какую муку? — спросил Пиапон.
— Ту, которую они отбили в Малмыже.
— Наша даже слухай нет, — ответил Холгитон.
— Мы все знаем, — белогвардеец отодвинул кружку, — вам лучше сразу
все рассказать, указать, где партизаны спрятали муку. Вы вдвоем знаете, где
эта мука.
— Ничего наша не знает, — сказал Холгитон. — Моя совсем больной
человек, дома сиди, ничего не знай. Его тоже все время дома сиди.
Белогвардеец уже не улыбался.
— Если укажете место, где спрятана мука, получите вознаграждение по
тридцать мешков муки. Если будете упираться, завтра вас обоих не будет в
живых. А теперь отдайте мне всю пушнину!
Белогвардеец стоял, широко расставив ноги, и ждал.
— Пушнина нету, моя болей...
Белогвардеец прыгнул на нары, прошел грязными сапогами по постели
Холгитона, отшвырнул сложенные кучей одеяла, подушки и вытащил кожаный
мешок.
«Он даже знает, где хранят добро», — подумал Пиапон.
Белогвардеец забрал из мешка шкурку чернобурки, которую уже три года
хранил Холгитон на черный день, высыпал в карман царские серебряные монеты и
спрыгнул на пол.
— Не хотите мне сказать, где спрятана мука, другим скажете, — сказал
он и вышел из фанзы.
На канонерской лодке толпились вооруженные солдаты, жерла пушек глядели
прямо на Пиапона.
«Что нас ждет?» — подумал Пиапон.
Дома его встретили женщины с опухшими от слез глазами, маленький Ванятка
подошел к деду. Пиапон взял его на руки и сел у окна.
— Что бы не случилось, вы должны молчать, — сказал Пиапон. — Только
так мы можем спастись. Спрячьте подальше мешок, хоть там немного добра, а
все же жалко. Особенно соболей Богдана спрячьте подальше.
Пиапон видел, как отчалили от корабля две шлюпки, полные солдат. Солдаты
вышли на берег.
«Неужели убивать станут? — подумал Пиапон. — Или сжигать дома будут?»
Он прижал к груди внука.
Из канонерской лодки отчалила еще одна шлюпка с солдатами. Вскоре они
застучали в дверь, ворвались и начали обыск. Они разворошили весь дом,
заглядывали в котлы и кастрюли, в берестяные короба. Потом поднялись в амбар
и там разворошили все вещи, но нигде не нашли ни щепотки муки.
Закончив обыск, солдаты погнали няргинцев на берег реки. Охотники шли,
опустив головы, женщины несли грудных детей на руках и плакали. Пиапон все
еще держал на руках Ванятку, прижимал к груди.
— Это все из-за тебя, — прошептал Полокто, пробравшись к брату.
— Если кто скажет, где мука, все погибнем, — вполголоса ответил
Пиапон. — Передай всем, чтобы молчали.
— Убивать, наверно, станут, — прошептал Полокто. — Все солдаты с
ружьями.
— Молчи, — прохрипел Пиапон.
Он увидел перед собой белогвардейца, который отобрал у Холгитона лису.
Рядом с ним стоял офицер с щегольскими, закрученными вверх, усиками. Офицер
что-то сказал белогвардейцу и тот, пробравшись через толпу, схватил Пиапона
за руку. Пиапон молча передал внука зятю и пошел за белогвардейцем.
— Это тот самый охотник, господин поручик, — сказал белогвардеец.
Поручик оглядел Пиапона, покрутил усики и спросил:
— По-русски разумеешь?
— Понимаю, — ответил Пиапон, хотя и не понял, что за слово
«разумеешь».
— Если не скажешь правду, вздерну на самом высоком тальнике. Уразумел?
Офицер говорил ровным голосом, даже угрозы не было в его тоне, хотя это
были страшные слова. Пиапон почувствовал, как предательски ослабели ноги.
— Где мука? — спросил офицер.
— Не знаю, — ответил Пиапон, глядя в глаза офицера.
— Куда спрятали партизаны муку?
— Я не видел.
— Не видел?! Так мы тебе расширим глаза, узкоглазая тварь!
Поручик ткнул кулаком в подбородок Пиапона. Пиапон пошатнулся, отступил
на шаг. В это время белогвардеец вывел из толпы бледного, дрожащего
Холгитона.
— А ты тоже не знаешь, где мука? — спросил поручик.
— Не знай, моя не знай, — пробормотал Холгитон.
— Твоя не знай, твоя ничего не знай, — передразнил офицер и ударил
старика в лицо.
Холгитон упал на теплый песок, но тут же поднялся.
— Как родился, меня еще никто не бил, — заговорил он по-нанайски.
— Что ты говоришь, макака? По-русски говори!
Холгитон замолчал. Пиапон отвернулся, поглядел на охотников, увидел
жену, дочерей, бледное потное лицо Полокто.
Солнце садилось на западе, и Пиапону показалось, что оно запуталось в
тонких ветвях тальника и никогда не опустится за синими горами.
— Кто скажет, где находится мука? — обратился поручик к толпе
няргинцев.
Охотники стояли с опущенными головами, женщины кулачками терли красные
от слез глаза.
— Кто укажет, тому даю двадцать мешков муки! Ну, кто укажет? Кто хочет
двадцать мешков муки?
Желающих не нашлось. Охотники молчали.
— Они не все русский язык понимают, — сказал белогвардеец, бывший
урядник полиции.
Пиапон перевел слова поручика. Охотники молчали.
— Переведи мои слова! — крикнул поручик Пиапону. — Переврешь хоть
слово, застрелю на месте.
Солнце все же сорвалось с тонких ветвей тальника и медленно опустилось
за синими горами с серебряными вершинами.
— Если не скажете, я спалю ваше стойбище! Говорите, где мука?!
Офицер уже не жалел голосовых связок и кричал во все горло. Он приказал
солдатам еще раз произвести обыск во всех амбарах и домах. Когда солдаты
вернулись, он приказал связать Пиапона и Холгитона и отвезти на корабль.
— Будет сделано, ваше благородие!
Солдаты перекинули винтовки за спины и бычьей стаей ворвались в толпу
няргинцев. Они хватали женщин и девушек и с хохотом и лошадиным ржанием
поволокли их в тальники.
Когда совсем стемнело, канонерская лодка снялась с якоря и с потушенными
огнями поплыла вниз по реке. Она бесшумно подошла к Малмыжу, бесшумно
высадила десант. Село было окружено, корабль осветил прожектором дома.
Начался повальный обыск во всех домах, поскотинах, курятниках, в ледниках.
Но каратели и здесь не нашли муки. Обозленный неудачей поручик согнал всех
жителей на берег Амура и оставил их тут до утра. Люди не взяли с собой
лишней одежды и быстро зябли. Дети жались к матерям, искали у них тепла.
Вскоре начал накрапывать дождь.
— Меж двух огней будто мы находимся, — говорил дребезжащий старческий
голос. — Пришли партизаны — хозяева, пришли эти — тоже владыки.
— Это верно. И тем и другим слова не скажешь. Да, жизнь пришла.
— Ежели кто скажет, где мука, ему несдобровать, партизаны тютюкнут,
так они предупредили. А эти тоже не добро принесли.
К утру дождь перестал. Выглянуло солнце, обогрело скорчившихся на камнях
стариков, женщин и детей. Люди согрелись и незаметно уснули. Их разбудили
солдаты, подняли на ноги, и все увидели перед собой офицера в окружении
солдат, связанных Пиапона и Холгитона. Толпа замерла. Надя, стоявшая в
середине толпы, прикусила губы, увидев Пиапона. Старый Илья Колычев крякнул
и пробормотал:
— Вся смута из-за того, что царя не уберегли. Натерпимся еще.
Из толпы выволокли мужичка в изодранной рубашке, в заплатанных штанах.
— Как зовут? — строго спросил офицер.
— Ерофей, а все кличут Ерошка. Я здесь на всякой работке.
— Молчать! Где партизаны?
— А откуль мне знать? Пришли, постреляли и згинули.
— Куда ушли партизаны?
— Не знаю, оне ночью пришли и ночью ушли.
— Где спрятали муку?
— Но знаю, ей-богу, не знаю, вашескородие.
Солдаты приволокли из чьей-то избы скамью, поставили по правую руку
офицера.
— Последний вопрос. Если не ответишь, то мы проясним твои мозги, или
так замутим, что ты забудешь, что тебя звали Ерофеем. Назови, кто из здешних
ушел с партизанами.
Толпа замерла, люди, затаив дыхание, ждали ответа Ерофея. Не у одной
матери, не у одной жены тревожно заколотилось сердце, пока Ерофей,
переминаясь с ноги на ногу, молчал.
— Назвать-то как назовешь, вашескородие?
— Ты не бойся, партизаны больше не вернутся сюда.
— Не боюсь я, не знаю ково назвать. Назову одново, а он в гости уехал к
свояку, назову другово, а он в городе гуляет.
Ерофей не договорил, офицер ударил его в подбородок, он попятился,
споткнулся о камень и упал.
— Двадцать пять атаманских! — приказал офицер.
Солдаты схватили Ерофея, положили животом вниз на скамью и начали
стегать шомполами.
Холгитон зажмурил глаза и отвернулся, ему хотелось заткнуть уши, чтобы
не слышать звериного крика Ерофея, но руки его были связаны, они онемели и
стали совсем чужими.
— Вспомнил, сволочь, где партизаны? Вспомнил, где мука? — спрашивал
офицер.
Полуживого Ерофея сбросили со скамьи, отволокли в сторону.
И тут перед толпой предстал человек в лохмотьях, все лицо в
кровоподтеках. Никто не узнал в нем телеграфиста.
Двое солдат подхватили его и потащили к утесу. Телеграфист повернулся к
землякам и воскликнул:
— Прощайте, друзья! Победа будет за Советами, за Лениным!
Это были его последние слова.
Офицер повернулся к Холгитону с Пиапоном.
— Вас ожидает то же, — сказал он. — Укажите, где мука, будете живы,
откажетесь — пеняйте на себя.
Холгитон пошатнулся.
— Моя не знай, моя совсем не знай.
— Двадцать пять атаманских!
Холгитона бросили на скамью, старик стиснул зубы и заплакал.
После Холгитона офицер допрашивал Пиапона, потом двое рослых солдат
повалили его на скамью. Пиапон изловчился и ударил одного солдата ногой в
живот, солдат охнул и сел на камень. Отдышавшись, он поднялся на ноги и со
всего размаха ударил Пиапона в лицо.
Его бросили на скамью, один белогвардеец сел ему на ноги, другой на
голову. У Пиапона сдернули штаны.
«Голый! Перед женщинами и детьми голый!» — Пиапон готов был умереть от
стыда и обиды.
— Двадцать пять атаманских!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
«Во время хода кеты ничего у нанай не может быть главнее ее добычи», —
говорил всегда Пиапон.
Это нанайцы знали с малых лет. Если не добудешь кету осенью, зимой семья
будет голодать, не во что будет одеть и обуть детей, женщин.
Но нынче Пиапон будто не собирался ловить кету, готовить юколу для
семьи, костяк для собак, кожу на одежду и обувь. Исполосованное шомполами
тело его медленно заживало, теперь он мог вставать и прогуливаться. Жена и
дочери, братья и племянники всячески старались отвлечь его от тяжелых
мыслей, украсить тягучие однообразные дни. Пиапон совсем превратился в
молчальника. За время болезни он не проронил и десяти слов. Что у него было
на душе, окружающие могли только догадываться. Молчал он, когда его
навестили Глотов с Митрофаном, молчал, когда Калпе сколачивал у его постели
артель и братья обещали установить в артели пай для Пиапона. Приезжали из
Мэнгэна сваты, был среди них и жених Пячика, но и им ничего не ответил
Пиапон.
Дярикта с дочерьми встревожились, не оставляли Пиапона одного, они
боялись как бы он не наложил на себя руки. Когда Пиапон выходил
прогуливаться или шел к Холгитону, его сопровождал Иван. Пиапон молча брал
внука на руки, прижимал к груди, целовал.
— Говорил я тебе, надо было сразу всех богатых уничтожить, не
послушался меня, — так каждый раз начинал разговор Холгитон, когда Пиапон
приходил к нему. — Если бы сразу всех уничтожили, нам не пришлось бы
сородичам своими задами муку зарабатывать.
Пиапон давно слышал эти слова. Какой-то шутник сказал: «Холгитон с
Пиапоном нас кормят лепешками и лапшой, это они своими задами заработали нам
муку».
Хлесткие слова. Они в общем-то правильные, эти слова, только шутник не
знает, что не одни тела исхлестаны у Холгитона и Пиапона, но и души.
Телесные раны заживают, а вот душевные — нет. Этот шутник не слышал, что
говорит Холгитон, не знает, что творится в душе Пиапона.
Няргинцы выехали на осенние тони ловить кету. Стойбище опустело, все
дома и фанзы на подпорках, пройдешь через все стойбище с одного конца до
другого и не встретишь ни одного человека, не услышишь детских голосов.
Собаки и те все исчезли.
В Нярги остались только Холгитон с Пиапоном и их жены. Холгитон впервые
поднялся с постели и вышел из дома.
— Теперь можно выходить, теперь никого не встретишь, — говорил он.
— Чего ты стыдишься своих? — спросила Супчуки. — Люди все понимают
из-за чего ты пострадал.
— Люди, может, понимают...
Через несколько дней в стойбище приехали Глотов с Митрофаном. На этот
раз Пиапон встретил друзей, сидя на кровати.
— Как чувствуешь, Пиапон? — спросил Глотов.
— Сижу, — ответил Пиапон.
— Плохо еще?
— Хорошо.
Глотов с Митрофаном закурили. Наступила тягостная неприятная пауза.
— Ты уходишь отсюда? — спросил Пиапон.
— Нет, мы отсюда не уйдем, — ответил Глотов.
— Уйдешь. Белые придут, и ты уйдешь.
— Когда они сильнее, надо уходить. Людей надо беречь.
Пиапон опять замолчал, опустив голову.
Дярикта поставила еду на столик, пригласила гостей. Глотов с Митрофаном
молча ели, молча пили чай — никогда друзья не чувствовали в доме Пиапона
себя так неловко и неуютно.
— Вы без дела не могли приехать, — сказал Пиапон, когда они закурили
после чая.
— Было дело, да ты болеешь, — ответил Глотов.
— Ладно, говори. Какое дело? — спросил Пиапон.
— Когда лед станет, по Амуру пойдут партизаны, много партизан, —
сказал Глотов. — Их надо кормить. Мы хотим, чтобы няргинские рыбаки
наловили нам кету и засолили.
— Еще что надо?
— Обувь потребуется.
— Привези на Чисонко бочки и соль. Богдан умеет солить. Все бочки будут
в густых тальниках.
— Ты сам туда поедешь, что ли? — спросил Митрофан.
— Да
Глотов обнял Пиапона, похлопал по спине и, не говоря ни слова, вышел.
Митрофан последовал за ним.
В этот же вечер Пиапон был в Чисонко, собрал рыбаков и передал просьбу
партизан. Долго молчали рыбаки, притихли женщины, дети.
— Мы теперь не можем не помогать партизанам, — сказал Пиапон. — Как
вы хотите, но я буду ловить им кету. Когда я помогаю партизанам, я этим мщу
белым. А вы разве не хотите мстить?
— У них пушки...
— Я не уговариваю вас, — сказал Пиапон. — Кто сердцем решил отомстить
белым, тот будет помогать красным партизанам.
Ночью Митрофан с партизанами привез бочки, соль, а утром женщины уже
разделывали кету, дети носили разделанную рыбу в густой кустарник шиповника,
где Богдан солит ее. Через несколько дней Пиапон отправил неводник за
крупой, кормчим назначил Калпе.
В конце кетовой путины все партизанские бочки были заполнены отборной
рыбой, надежно закупорены и спрятаны. Между тальниками вялилась юкола, сохли
рыбьи кожи.
В начале октября рыбаки вернулись в стойбище, в это же время возвратился
Калпе. Он привез полный неводник крупы, чумизы, пшенки.
В середине октября в Нярги опять появились сваты Пячики. Пиапон на этот
раз любезно встретил их, посидел с ними, поговорил. Потом говорил наедине с
Пячикой.
— Ты все знаешь о моей дочери? — спросил он молодого охотника.
— Знаю, — ответил Пячика.
— Поговори еще с ней, потом продолжим наш разговор.
Пячика в этот же вечер поговорил с невестой и на следующее утро сообщил
Пиапону:
— Мы любим друг друга, мы согласны жениться.
— Внук останется со мной. Согласны? — вдруг спросил Пиапон.
Пячика опять встретился с Мирой и уговорил ее оставить сына у матери с
отцом. Услышав об этом, Пиапон сказал сватам:
— Моя дочь сама выбирает себе мужа, любит — выходит замуж, не любит —
не выходит. Это ее дело. Такого раньше не бывало, скажете вы. Верно, не
бывало. Дочь моя согласилась за него выходить, видно полюбила. Если полюбила
и сама согласилась выйти замуж, я не прошу за нее тори.
Сваты замерли с раскрытыми ртами, переглянулись.
— Вы думаете, я отдаю без тори потому, что она опозорила меня? —
жестко спросил Пиапон.
— Нет, нет, мы ничего не думаем, — поспешил заверить старший сват,
заменявший Пячике отца.
— Мы все были молоды, только не знаю, любили вы когда крепко или нет. Я
любил. Знаю. Любовь дороже десяти самых дорогих тори! Если моя дочь любит
Пячику и Пячика любит Миру — мне не надо тори. Никакое тори не стоит любви
молодых.
— Как же так, отец Миры? — испуганно пробормотал старший сват. — Это
не слыхано! Этого никогда не было у нанай!
— Мое слово последнее, так я решил.
О странном решении Пиапона сразу же услышало все стойбище, к вечеру
узнали в соседнем стойбище, а назавтра об этом говорили на всем среднем
Амуре.
— Пиапон не может жить без причуд, — говорили друзья. — Он не может
обойтись без выдумки.
— Что же будет, если другие отцы последуют его примеру? Совсем
обесценились женщины, ничего уже не стоят, — сокрушались третьи.
— Не все такие дураки, как он, не станут задарма отдавать дочерей, —
успокаивали их. — Нет, так умные люди не делают.
До Пиапона доходили эти разговоры и огорчали его.
— Трудно жить среди людей, которые тебя не понимают, — сказал он
Богдану. — Сделаешь какой шаг по-своему, тебя тут же начинают осуждать,
потому что ты сделал этот шаг по своему желанию. Рядом, под боком живет
другой, большой, умный народ, я всегда приглядываюсь к их жизни. Ты ведь
тоже приглядываешься к ним, я знаю. Правильно делаешь, — Пиапон внимательно
посмотрел в лицо Богдана и спросил: — Ты почему такой бледный? Не заболел?
— Нет, не заболел, — ответил Богдан.
— Устал, наверно. Поедем со мной, отвезем Миру к мужу, там отдохнешь.
— Нет, дед, я не поеду, — ответил он, чувствуя, как закипают в глазах
слезы.
Пиапон, охваченный своими думами, не понял состояния племянника и не
стал настаивать, чтобы он сопровождал его в Мэнгэн.
«Жалуешься, что тебя никто не понимает, а ты сам других не
понимаешь», — подумал Богдан.
Пиапон повез дочь к мужу в Мэнгэн, а Богдан выехал на охоту за лосями на
Джалунское озеро. Тут на горной речке он повстречался с Митрофаном, который
готовил лосиное мясо для партизан. Митрофан удивился, встретив одного
Богдана, но, узнав, что Пиапон выдает Миру замуж, обрадовался.
«Все радуются, только мне одному плохо», — подумал Богдан.
— А где Иван? — спросил он.
— Иван с партизанами, — нахмурился Митрофан.
— А далеко они?
— Не знаю, Богдан, были в Иннокентьевке, после того как ушли из
Малмыжа.
Митрофан нахмурился, долго прикуривал трубку и, наконец, сказал:
— Партизаны воюют, Богдан. Когда они пилят телеграфные столбы, режут
проволоку и белые по нескольку дней не могут между собой разговаривать, это
война, Богдан. Когда партизаны на Амуре переносят знаки и пароходы с срочным
грузом со всего хода садятся на мели и просиживают по нескольку дней — это
война, Богдан. А когда отбирали муку в Малмыже, убили больше тридцати белых
и японцев. Это разве мало? Мы тоже потеряли людей, белые захватили нашего
комиссара Ивана Шерого. Это был храбрый человек. Когда мы пришли в
Иннокентьевну из Малмыжа, решили немного отдохнуть. Затопили баньку, начали
мыться. А вечером белые и японцы со всех сторон окружили нас, канонерка их
начала стрелять из пушек и пулеметов. Еле-еле мы пробились. Потом мы тайгой
ушли в стойбище Ченку. Командиры поговорили между собой, решили проверить,
есть в Иннокентьевке белые или ушли. Комиссар Иван Шерый сам с двумя
партизанами на лодке поехал на разведку. В Иннокентьевке его и схватили.
Пытали его эти звери. Кто видел его, говорят, на нем живого места не было.
Живучий, сильный человек был комиссар. Из Иннокентьевки его повезли по
селам: показывали, людей устрашали. Потом его привезли на пароход и там
казнили. Партизаны еще не знают, как погиб наш комиссар, расскажу им. Мы
должны отомстить этим зверям. Пароход, на котором казнили Ивана Шерого,
называется «Казакевич», а фамилия офицера, который им командовал, Пискунов.
Мы отомстим им за нашего комиссара Ивана Шерого!
— Я тоже буду мстить! — воскликнул Богдан. — Меня возьмут в
партизаны?
Митрофан не знал этого, Богдан ему казался молодым, если бы была воля
Митрофана, он не стал бы принимать в отряд таких сосунков, как Богдан. Идти
в партизаны — это идти на войну, а на войне убивают и калечат. Что видел
Богдан в своей жизни? Ничего не видел, у него вся жизнь впереди.
— Это знают только командир Даниил Мизин и Павел Глотов, — ответил
Митрофан.
На следующий день охотники разъехались, и Богдан больше не встречал
Митрофана. Добыв двух лосей, Богдан вернулся домой. На берегу его встречал
вернувшийся из Мэнгэна Пиапон.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Перед самым ледоставом партизанский отряд Даниила Мизина, бывшего
матроса, потом комиссара Амурской флотилии, пришел в Малмыж на свою основную
базу. Партизан после тяжелых летних походов ожидал продолжительный отдых:
пока не встанет Амур, не начнется движение по нему, не могло быть и речи о
каких-либо боевых действиях.
В конце ноября Даниил Мизин получил известие о прошедшей в селе
Анастасьевке партизанской конференции, о создании единого партизанского
руководства, который должен сплотить и координировать действия всех отрядов
на правобережье Амура. А в середине декабря в Малмыж прибыл партизанский
отряд, возглавляемый самим командующим Демьяном Бойко-Павловым. Богдан,
принятый в отряд Мизина, присутствовал на встрече двух партизанских
отряД01В. Он видел, как обнимались Бойко-Павлов с Глотовым, как радостно
светились глаза его учителя. Но сами партизаны Бойко-Павлова не произвели
на него впечатления, они были одеты кто во что горазд: в полушубки, в
солдатские шинели, в ватники, на ногах у одних латаные валенки, у других
унты, торбаза или олочи из сырой кожи, а многие носили даже обувь из рыбьей
кожи. А больше всего Богдана удивило вооружение прибывших партизан. В
повозках у них были пулеметы, но в руках держали дробовики, одностволки и
двустволки, старые кремниевые ружья, какими даже охотники теперь редко
пользовались. Некоторые прибывшие были совсем без оружия, только ножи у них
висели на поясах.
Среди прибывших Богдан заметил несколько нанай. Он подошел к ним,
поздоровался.
— Вы откуда? — спросил он.
— Из Дубового мыса, — ответил охотник средних лет.
— Давно вы партизанами стали?
— С лета, как только белые и партизаны заявились к нам.
Богдан пригласил охотников в дом Митрофана, где сам квартировался.
Митрофан с женой и с сыном радушно встретили охотников из Дубового мыса.
Один из них, молодой, красивый парень на чистом русском языке рассказывал:
— Все у нас спрашивают, почему мы в партизаны ушли. Когда собака укусит
человека, человек сердится, бьет собаку, а если сильно обозлится, то даже
убивает. А белогвардейцы и японцы хуже собак. Пришли они к нам на Дубовый
мыс, начали требовать пушнину, спирт. Старика одного, уважаемого всеми,
начали мучать. Ушли белые. Через несколько дней пришли японцы, тоже начали
требовать пушнину. Мы ничего им не могли дать, тогда они заставили всех нас
землю есть. Женщин насиловали. Как это можно вытерпеть? Никто этого не может
вытерпеть! Мы все пошли в отряд Бойко-Павлова, чтобы отомстить
белогвардейцам и японцам.
Молодой охотник разволновался, отодвинул недопитый чай и закурил.
Закурили и другие охотники.
С этого дня Богдан подружился с молодым охотником из Дубового мыса. Его
звали Кирба Перменка.
Кирба Перменка с лета находился в отряде Бойко-Павлова, когда из-за
продовольственных затруднений отряд был расчленен на мелкие отряды по
двадцать человек, Кирба оставался в двадцатке Бойко-Павлова. Истощенные в
боях, обессиленные, разрозненные отряды объединились под командованием
Бойко-Павлова и начали спускаться вниз по Амуру к Малмыжу.
— Трудно пришлось нам, Богдан, — рассказывал Кирба. — Когда мы начали
поход, нас было не больше тридцати человек, у нас не было боеприпасов,
оружия не хватало, была одна лошадь. Ели, что попадется, совсем плохо было с
едой. В Елабуге к нам присоединились несколько человек. В Вятском мы забрали
телеграфный аппарат, там к нам пришел Колька-гармонист. Веселый человек,
грамотный, его командир сделал писарем. А в Синде все дома были сожжены
белыми, народ был обозлен, многие пришли к нам с оружием, с лошадьми. Силы
наши прибавлялись, всюду нам народ помогал чем мог. Теперь видишь, сколько
нас, около сотни будет. И лошадей много.
Через день Кирба сообщил:
— Попко, Тряпицын, Наумов, Лебедева отряд организовывают, вниз по Амуру
пойдут, Николаевск брать. Наш командир, Бойко-Павлов, отдает им лучших
лошадей, оружие, желающих отпускает. Я иду, а ты?
Богдан, не задумываясь, согласился записаться в отряд Михаила Попко. Он
пошел с Кирбой к писарю Кольке-гармонисту. По дороге Кирба предупредил его,
чтобы он не называл свое настоящее имя, потому что если попадет этот список
в руки белых, то белые уничтожат всю семью Богдана.
Колька-гармонист, белокурый красивый парень, весело поздоровался с
юношами, вытащил из полевой сумки, с которой не расставался, бумаги и
приготовился записывать.
— Лаха Ходжер, из Нижних Халб, — сказал Богдан.
Писарь улыбнулся, прищурил глаза.
— Настоящее имя скажи, зачем врешь? — спросил он.
— Зачем тебе настоящее? — вступился Кирба за друга. — Никто не писал
настоящих имен, все писари записывали выдуманные имена.
— То было раньше, друг мой лапотный, теперь другие времена. Вон у нас
какая силища, кого нам бояться? Белым скоро конец, и нечего нам таиться.
После победы по этим спискам узнают наши имена, прославят живых, воздадут
должное погибшим. Если кто погибнет в бою, как потом узнать его настоящее
имя? Как и куда сообщать родственникам?
— Пиши, — сказал Богдан. — Заксор Богдан, из стойбища Нярги.
— Он любого уговорит, особенно здорово девушек уговаривает, —
восхищенно проговорил Кирба. — Ты заметил, как он чисто одевается? Когда
кончится война, я куплю себе несколько рубашек разных расцветок и тоже буду
чисто одеваться.
— Тогда все девушки будут в тебя влюбляться, — пошутил Богдан.
— Хорошо, когда девушки любят!
— Пойдем вниз по Амуру, в каждом стойбище в тебя будут влюбляться
девушки.
Но пойти вниз по Амуру с отрядом Михаила Попко Богдану не пришлось. Его
вызвал в штаб Бойко-Павлов. В штабе, в освобожденной комнате крестьянской
избы, кроме Бойко-Павлова, находился Даниил Мизин, Павел Глотов, Яков
Тряпицын.
Богдана посадили на табурет.
— Мы хотим тебе, товарищ Богдан, дать такое боевое партизанское
задание, во всех стойбищах организовать пошив обуви. Собирать у охотников
оружие, порох, свинец. Мобилизовать охотников в партизанский отряд, создадим
специальный лыжный отряд. Этот отряд должен стать одной из главных сил в
отряде товарищей Попко и Тряпицына.
— Да, лыжный отряд нам необходим, — прогудел высокий, широкоплечий
Тряпицын.
— А я записался к нему в отряд, — сказал Богдан.
— Тебе дается более важное поручение, Богдан, — сказал Глотов.
— Да, Павел, тебе как бывшему здешнему жителю все карты в руки, —
сказал Бойко-Павлов. — Будешь помогать товарищу Богдану.
Богдан вместе с Глотовым вышел из штаба, он был хмур и недоволен.
— Ты теперь партизан, — говорил Глотов. — Приказ командира для тебя
теперь закон. Ты должен его выполнять.
— Буду выполнять, — ответил хмуро Богдан и спросил: — Можно мне
сходить домой, я вечером вернусь?
— Ты сегодня свободен, можешь идти.
Богдан прямо с крыльца штаба зашагал в Нярги. Вечером он вернулся в
Малмыж, явился в штаб и положил на стол перед изумленным Бойко-Павловым
пухлый кожаный мешок.
— Что тут? — спросил командующий.
— Тори за жену, — ответил Богдан и объяснил, что такое тори.
— Значит, пушнина.
— Да. Дед мой запрятал ее от белых.
— А зачем принес в штаб?
— Как зачем? Ты же говорил, оружие требуется партизанам.
— Да, требуется.
— В мешке соболи, лисы, выдры, можно на них у торговцев оружие купить.
Бойко-Павлов повертел в руке мешок, развязал тесемку, вытащил лежавшую
сверху связку беличьих шкурок, за ними — соболя. Соболь был мягкий,
пушистый и черный. Демьян Иванович залюбовался соболем, разглядывал, гладил
большой ладонью.
— Сам добыл? — спросил он.
— Сам, — улыбнулся довольный Богдан. — Дед мой, дяди не разрешали мне
торговцам сдавать, говорили, чтобы я на тори копил.
— Хороший у тебя дед, хорошие дяди. Только, товарищ Богдан, мы на эти
шкурки нигде не купим оружия.
— Как не купим? У каждого торговца есть оружие, у них купим.
— Это сделали раньше нас белогвардейцы. Возьми, Богдан, пушнину, пока
мы ее никак не можем использовать. Установим Советскую власть, тогда
понадобится твоя пушнина.
На следующий день Богдан принес обратно домой мешок с пушниной.
— Прячь лучше, мы еще не ограждены от белогвардейцев, — сказал ему
Глотов.
Павел Григорьевич собрал няргинских охотников в доме Пиапона и
рассказал, зачем он приехал в стойбище. О пошиве обуви охотники даже не
стали говорить, сказали только, что это женское дело, что передадут просьбу
партизан женам. Этого было достаточно, Глотов понял, что обувь будет
изготовлена. Он только предложил, чтобы старшей над женщинами назначили
Дярикту, чтобы Дярикта следила, как идет работа, чтобы собирала и хранила
готовую обувь.
Когда Глотов заговорил об оружие, порохе, свинце, охотники крепко зажали
губами трубки и опустили головы. Расстаться с оружием, которое берег пуще
глаз... Оружие охотника кормит его, его семью. Как расстаться с ним?
— Сейчас главное, друзья, разгромить белогвардейцев и интервентов, —
говорил Глотов. — После победы все будет у нас, будет и новое оружие. Пока
не разгромим белогвардейцев, нам не увидеть новой жизни.
Когда придет эта победа? Когда появится новое оружие?
— Если я пойду в лыжный отряд, как я пойду без оружия? — спросил
Калпе.
— Если ты запишешься в отряд, тогда не надо тебе сдавать оружие, —
ответил Глотов.
— Тогда запиши меня в отряд, — сказал Калпе.
— Меня тоже, — сказал Дяпа.
— Меня не забудь, — сказал Пиапон и обратился к зятю: — Ты останешься
дома, женщин потребуется защищать.
Глотов понимал, что творилось в душе охотников, знал о их заветной мечте
отомстить белогвардейцам и нисколько не удивился этому порыву.
— А оружие после войны нам возвратят? — спросил Полокто.
— Этого я не моту обещать, — ответил Павел Григорьевич. — В войне
всякое случается, могут сломать оружие, потерять. Так что обещать не могу.
Полокто сходил домой и принес берданку с разбитым прикладом. Этот
приклад разбился об очаг, когда Полокто швырнул берданку в старшего сына.
— Ничего, сойдет, — сказал Глотов. — Мы организовали мастерскую на
Шарго, там отремонтируют. Иван Зайцев может все отремонтировать.
В Нярги Глотов с Богданом собрали три берданки, три дробовика и около
трех килограммов пороха. После Нярги они посетили Хулусэн, Мэнгэн, Туссер,
Хунгари, Чолчи, Болонь и выехали в Джуен.
Токто с Потой радушно встретили гостей. Идари хлопотала у очага, не
знала, что приготовить повкуснее гостям.
— Кунгас, мы все еще едим твою муку, — сказал Пота.
— За эту муку поплатились жизнью наш комиссар Иван Шерый и несколько
партизан, — ответил Глотов. — Пиапон с Холгитоном получили по двадцать
пять шомполов.
— Мы знаем, зачем ездишь по стойбищам, — сказал Пота. — Давно
услышали. Женщины уже шьют обувь вам, несколько человек отдают берданки,
несколько идут в партизаны. Я отдаю свою берданку, мой названый брат уходит
в партизаны.
— Надоело сидеть дома, — услышал Глотов неожиданный ответ Токто. —
Хочу на родные места посмотреть, да по Амуру вниз спуститься.
Изумленный Павел Григорьевич сказал:
— Мы, Токто, воюем, а не прогуливаемся.
— Если ты воюешь, и я буду воевать.
— Амурские нанай идут в партизаны, чтобы отомстить белогвардейцам и
японцам за их зверства, они идут воевать за новую светлую жизнь.
— А я что, за темную жизнь? Если они за светлую жизнь идут воевать, я
тоже за светлую жизнь. Рядом с ними буду, вместе буду стрелять.
«Амурские охотники знают за что идут воевать, они развитее,
сознательнее, чем Токто», — подумал Павел Григорьевич.
Идари отозвала в сторонку сына, посадила на нары.
— Я слышала, сыночек, на войну ты уходишь, — сказала она, и слезы
сверкнули в ее глазах. — Не ходи на войну, хоть один раз послушайся меня.
Идари заплакала. К ней подошел старший сын Гиды, обнял за шею.
— Не плачь, баба, не плачь, он нехороший, — бормотал он.
Идари вытерла слезы, взяла мальчика на руки.
— Он хороший, только непослушный, всю жизнь не слушается твою бабу, —
сказала она.
Богдан был рад вмешательству мальчишки, он потрепал его тугие щеки и
спросил:
— Где твой папа?
— Папа мой охотится, он мне лук и стрелы привезет.
К Богдану подсела Гэнгиэ, подала раскуренную трубку. Богдан взглянул на
нее, встретился с черными лучистыми глазами и смутился.
— О тебе все мы будем беспокоиться, Богдан, береги себя, — сказала
Гэнгиэ.
«С чего это она беспокоится обо мне», — подумал Богдан.
На следующее утро он с Глотовым уезжал в Малмыж. Его провожали все
джуенские. Идари расплакалась. Ее успокаивали, говорили, что грех на
проводах в дальнюю дорогу проливать слезы, как бы потом что не вышло...
Гэнгиэ, глядя на него странными глазами, еще раз повторила, чтобы он берег
себя.
— На днях я буду в Малмыже! — кричал Токто. — Без меня не уходите.
Поздно вечером, когда Малмыж замер, в густой темноте Богдан с Глотовым
подъехали к нему. Их окликнули часовые, узнав Глотова, пропустили. Утром
Богдан с Глотовым сдали собранное оружие, порох, свинец, обувь, рукавицы.
Всего по бумагам Павла Григорьевича было собрано шестьдесят три берданки и
дробовика, больше восьмидесяти килограммов пороха, больше сотни килограммов
свинца, около двухсот пар обуви. Вторая партия обуви должна была поступить
через неделю-другую. Задание штаба партизанского движения было выполнено.
Богдан не встретил в Малмыже Митрофана с Иваном, они жили с партизанами
на Шарго, где базировался основной отряд и куда стекались новые силы. Не
застал Богдан и нового своего друга Кирбу Перменка, он ушел вниз по Амуру с
отрядом Михаила Попко и Якова Тряпицына.
Богдан побрел к телеграфисту Федору Орлову, который пришел в Малмыж
вместе с партизанами и работал всего с полмесяца. Богдан с ним познакомился
в первый же день, рассказал ему о его предшественнике и этим расположил к
себе.
— Вернулся, Богдан? — встретил юношу Орлов. — Давай-ка, брат, учись
на телеграфиста и замени меня. Надоела мне эта сидячая работа, до чертиков
надоела. Хотел податься вместе с Тряпицыным на Нижний Амур, да не пустили,
сказали, пока не разыщу замены, не отпустят в отряд. А я хочу в бой!
Понимаешь? Хочу в бой! Я же партизан, а меня посадили здесь.
Федор Орлов еще долго ворчал. Потом взял листок бумаги, прочитал и в
сердцах бросил:
— Сукин сын! Каждый раз одни и те же слова: «По-прежнему люблю, Маша».
Так разве любят? — Орлов повернулся к Богдану. — Это я говорю про нашего
писаря, Кольку-гармониста. Грамотный паренек, говорит по-писаному, а про
свою любовь не может толком высказать. С первого дня, как приехали сюда,
каждый день шлет одну и ту же телеграмму: «По-прежнему люблю, Маша. Передай
привет дяде. Целую. Коля». Все. Это все, что он может сказать о своей любви.
Только в этой последней телеграмме он добавил одно слово: «По-прежнему
люблю, Маша. Здоров. Передай привет дяде. Целую. Коля». Он здоров! Дурак!
Орлов сплюнул, поколдовал в аппаратуре и начал передавать. Богдан тихо
вышел. «Он проклинает свою работу, а я отдал бы все, чтобы только научиться
вести разговор по этим железным нитям», — думал Богдан, шагая к штабу.
— Товарищ Богдан, останешься здесь, в Малмыже, — сказал
Бойко-Павлов. — Будешь помогать Глотову сформировывать лыжный отряд.
— Хорошо, командир, — ответил Богдан. — Только скучно тут. Может,
найдется какая работа?
Но скучать Богдану не приходилось, каждый день в Малмыж приезжали
охотники со всех ближних стойбищ, одни привозили сшитую женщинами обувь,
другие жаловались на торговцев, третьи приезжали с просьбой. Каждый раз
Бойко-Павлов вызывал в штаб Богдана, и юноша добросовестно исполнял
обязанности переводчика, ни одна просьба, ни одна жалоба не оставались не
рассмотренной, не обсужденной. Но одну просьбу партизанский штаб никак не
мог удовлетворить. Жены охотников просили ножницы, жаловались, что их
ножницы слишком малы, быстро тупятся. Ножницами партизаны не могли
обеспечить мастериц.
А дня через три после возвращения Богдана и Глотова из Джуена начали
прибывать первые записавшиеся в отряд лыжников охотники. В этот же день из
Шарго пришла тревожная весть: управляющий лесозаводом сообщал калмыковцам в
Хабаровск местонахождение штаба партизанского соединения, письмо перехвачено
в Славянке и доставлено в Шарго; писарь Колька-гармонист — калмыковский
разведчик, полностью разоблачен, у него нашли шифровку.
— Павел, мне думается, там сейчас готовится самосуд, — сказал
Бойко-Павлов. — Надо пресечь, если не поздно. А этого калмыковского субчика
надо было лучше допросить, ценные сведения, может, удастся выудить. Давай,
езжай в Шарго, калмыковца привези сюда живого. Расстрелять мы всегда успеем.
Глотов приказал Богдану собраться в дороги и бросился запрягать лошадь.
Через четверть часа они уже мчались в Шарго. За ними верхом на лошади скакал
партизан. После полудня Глотов с Богданом были в Шарго и узнали, что
партизаны избрали трех судей, главным — фельдшера из села Троицкого
Никанора Никишова. Он и рассказал, как разоблачили калмыковского разведчика.
Ежедневно в Шарго приходили крестьяне из соседних сел, рабочие
лесозаготовители, беженцы из Хабаровска и Николаевска. Партизаны одевали их,
обували, вооружали чем попадется, но настоящее боевое оружие они должны были
добыть в бою. Тут же сформировывался новый отряд из двадцати-тридцати
человек и отравлялся под Хабаровск, где концентрировались основные
партизанские силы правобережья Амура.
Всех уходивших партизан писарь заносил в списки, требовал назвать
подлинные фамилии, откуда и из какого села. Однажды командиром одной из
групп назначили Ивана Колычева, и тот удивился, почему так настойчиво
Колька-гармонист требует подлинные имена партизан.
— Этого ты не имеешь права делать, — сказал Иван. — Если твои бумаги
попадутся врагу, все партизанские семьи будут уничтожены калмыковцами.
— Чего ты боишься? Смотрите, ребятки, командир-то ваш не очень из
храбрых, — как всегда улыбался писарь. — Победа на носу, а он поет
алиллуйя.
Партизаны расхохотались, Ивану ничего не оставалось делать, как отойти
от писаря.
Колька-гармонист исправно выполнял свои обязанности, помогал партизанам
писать письма домой, был весел и каждый день в Малмыж к Федору Орлову
посылал телеграмму, чтобы тот отстукал ее в Хабаровск. Многие грамотные
партизаны знали текст телеграммы, да и Колька-гармонист не скрывал, что
писал.
Колька-гармонист нравился партизанам. Дня три тому назад в Шарго пришел
измученный, голодный мужик. Встретившись с писарем, он оглядел его и сказал:
— Паря, твое лицо мне знакомо.
— Я тоже где-то тебя видел, — ответил Колька-гармонист, — Это не мы с
тобой однажды в кабаке «Красный кот» под столом встретились? Точно!
Партизаны хохотали до слез, до коликов в боку и окрестили нового
товарища Красным котом.
— Я тебя где-то видел. Ты был другой, — не смущаясь, продолжал
пришелец. — Кажись, я припоминаю.
— А ты попадье кажись, да когда нет попа, помолись.
Вечером новичок сказал одному синдинцу, что писарь не кто иной, как
белый офицер. А на следующий день в Шарго появился щуплый китаец, увидев
писаря, он побледнел, поклонился.
— Дорастойте, господина капитана, — промямлил он.
— Какой он капитана, он писарь, — сказали партизаны.
— Его капитана.
Синдинцы арестовали Кольку-гармониста, допросили китайца и узнали, что
китаец был слугой в богатом доме в Хабаровске, в котором и встречал
Кольку-гармониста.
Синдинцы произвели обыск и нашли зашитую в борт пиджака папиросную
бумагу. Это был шифр. Партизаны вспомнили любовные телеграммы
Кольки-гармониста.
«По-прежнему люблю, Маша. Передай привет дяде». Маша — Малмыж. Если бы
Колька посылал телеграмму из Иннокентьевки, то вместо Маши подставил бы
Инну. Инной по шифру значилась Иннокентьевка. Телеграмму партизаны
перечитали так: «По-прежнему нахожусь в Малмыже. Передай атаману, чтобы
немедленно посылал карателей». А последняя телеграмма писаря была тревожная.
«По-прежнему нахожусь в Малмыже. Партизаны набираются сил. Передай атаману,
чтобы немедленно посылал карателей».
Глотов с Богданам пошли в барак, где партизаны собрались на суд. Барак,
переполненный партизанами, гудел. Шум внезапно прекратился, и Богдан увидел
Кольку-гармониста, он был так же красив и опрятен, несмотря на то, что
провел сутки в темной и холодной бане. Он прошел к столу и остановился перед
судьями в небрежной позе, расставив ноги.
— Фамилие ваше? — спросил Никанор Никишов.
— Меня все зовут Колька-гармонист.
— Господин Тецианов, будешь отвечать на вопросы?
— Это вы ко мне обращаетесь, товарищ судья?
— Пес тебе товарищ! — закричал судья-синдинец, сидевший с правой
стороны Никишова. — Издеваться решил, сукин сын? Я предлагаю двадцать пять
калмыковских, атаманских! Пусть на себе испытает, как это сладко.
— Правильно! Пра-а-авильно! — подхватили партизаны и тут же с первых
рядов освободили скамью, поставили перед столом судей.
— Двадцать пять атаманских! Калмыковских!
Богдан оглох от рева соседей. Он видел, как шевелились губы Никишова,
как он размахивал руками, но ничего не мог разобрать, что он говорил. Писаря
повалили на скамью, опустили штаны, и двое партизан с обеих сторон начали
стегать шомполами.
— Один! Два! — хором считали партизаны.
И в это время Богдан увидел Глотова. Павел Григорьевич прошел к столу,
что-то сказал двум партизанам, и те прекратили стегать писаря.
— Товарищи! Мы красные партизаны, мы боремся за справедливость...
Голос Глотова потонул в реве людском:
— Командир, не защищай калмыковца!
— Чего там, пусть отведает! Будет знать!
— Ково ты защищаешь?! Мы сами с ним...
Глотову не дали досказать, он стоял перед партизанами бледный и немного
растерянный. Передние партизаны уступили ему место.
— Три! Четыре! Пять!
— Будешь теперь говорить или продолжить? — спросил Никишов.
— Буду, — тихо ответил писарь.
— Фамилие?
— Тецианов.
— Имя, отчество?
— Евгений Владиславович.
— Какой чин?
— Поручик.
— В контрразведке Калмыкова служишь?
— Да.
— Заговорил, пошло, как по маслу, — сказал малмыжец Богдану. — Ишь
как, на наших не действует атаманское-то, а его сразу протрезвило. Знатное
для них средство.
— Кто ваш сообщник? Где он находится? — спросил Никишов.
— В Троицком, Нащеков Константин Филиппович.
— Раскололся, — сказал малмыжец и подтолкнул Богдана. — Видишь,
жидковатые эти белые офицеры-то, шпиен он и есть шпиен.
— Кто шпион? — спросил Богдан.
— Да этот, разве не видишь? Пролез к нам, чтобы нас выдавать. Вот он и
есть шпиен.
«Шпион. Обожди, где же я раньше слышал это слово? — Богдан припоминал и
вдруг вспомнил толстого управляющего. — Он говорил! Он сказал, что Ленин
германский шпион, он так обозвал Ленина. Так нехорошо обозвал Ленина!»
Богдан стал пробираться к выходу, побежал в баню, где сидел управляющий
под замком в прошлую ночь. Дверь бани была открыта настежь, Богдан влетел в
дверь. Баня была пуста. Богдан побежал обратно к бараку и встретился с
выходившими из барака партизанами. Они оживленно говорили, спорили. Богдан
подождал Глотова у дверей и узнал, что управляющего уже нет в живых.
«Так ему, толстопузому, и надо!» — подумал Богдан.
— Анархия. Сколько еще анархии у нас, — бормотал Глотов.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Выход из Малмыжа отряда лыжников был назначен на двенадцатое января.
Вернувшись из Шарго, Богдан целиком занялся делами отряда. Он размещал
прибывавших охотников, снабжал продовольствием, организовывал починку и
изготовление лыж. Токто возглавил бригаду охотников, которые на скорую руку
делали лыжи.
— Для кого мы делаем эти лыжи? — спрашивал Токто.
— Для русских, которые будут в нашем отряде, — отвечал Богдан.
Командиром отряда лыжников был назначен Павел Глотов. Павел Григорьевич
стал неразговорчив, после того как не выполнил задание Бойко-Павлова, не
доставил живым в штаб калмыковца Тецианова. Ему удалось на суде уговорить
судей и партизан отпустить поручика Тецианова в штаб партизанского
соединения для более тщательного допроса. Поручика на ночь заперли в бане,
поставили часового, а на утро его нашли мертвым — белогвардеец повесился.
— Лыжи надо делать не спеша, — говорил Глотову Токто. — А это что?
Это разве лыжи? Это доски, а не лыжи. Надо было тебе с осени заказать их,
тогда бы каждый принес тебе готовые. Вспомнил когда? Надо уже выезжать, а он
тут только вспомнил о лыжах. Плохой ты командир, Кунгас.
Павел Григорьевич улыбался, слушая перевод возмущенной речи Токто. Между
ним и Токто установилась дружба, хотя оба они понимали друг друга с трудом.
Павел Григорьевич иногда не против был подтрунивать над другом и спрашивал,
почему Токто пошел в партизаны.
— Надоело сидеть дома, пошел, — невозмутимо отвечал Токто.
— Эх, Токто, Токто, все охотники знают, зачем они идут на войну, ты
один не знаешь, пошел только потому, что скучно. Жалко было тебе отдавать
берданку. Я думаю так, твоя берданка сперва пошла к партизанам, а потом ты
за ней.
Токто смеялся вместе с Глотовым и охотниками. После таких полушутливых
разговоров Павел Григорьевич веселел.
Приближался день ухода лыжного отряда. Глотов с Богданом с утра до
вечера были заняты последней подготовкой к походу. Павел Григорьевич с
партизанами вывозил спрятанную осенью муку, засоленную рыбаками кету,
выезжал в Шарго к Ваньке Зайцеву, отвечавшему за ремонт оружия, и сам
пристреливал отремонтированные берданки.
За день перед уходом отряда в Малмыж за Богданом приехал Калпе. Павел
Григорьевич отпустил своего помощника попрощаться с родичами.
В большом доме собрались няргинцы провожать охотников, уходивших на
войну.
— Наш командир пришел! — объявил кто-то, когда Богдан вошел в дом. К
нему подбежали, стали обнимать и целовать, подносить чашечки водки. Его
посадили за столик Пиапона. Рядом с Пиапоном сидели Полокто, Дяпа, Холгитон,
Улуска — все они были навеселе. За спиной Пиапона, в углу, Богдан увидел
священный жбан, двуликого бурхана, столик с угощениями. Юноша сразу
догадался, зачем дяди вызвали его в стойбище.
— Отомсти, нэку, этим зверям, — вдруг среди веселого гама заплакал
Холгитон. — Отомсти им. Впервые, я при народе из дома вышел и в гости
пришел. Стыдно. Эх, был бы я хотя бы лет на пять моложе... Богдан, ты не
знаешь, кому отдали мою берданку? Скажи этому человеку, эта берданка старого
Холгитона, он сам не может идти на войну, бей за него из его берданки
бешеных собак, не жалей. Так и передай. Обязательно передай.
Собранное оружие Глотов с Богданом сдали в штаб, и Богдан не знал, где
находится берданка Холгитона.
«Кому бы не попала твоя берданка, отец Нипо, она будет убивать
белых», — подумал он.
— Моя берданка у кого? Хорошему стрелку попалась? — спросил
Полокто. — Скажи тому человеку, чтобы берег ее. Хоть я не ухожу в
партизаны, моя берданка будет уничтожать врагов.
Агоака, Исоака, Далда одна за другой приносили Богдану то тарелку мелко
накрошенной осетрины, то жареную калужатину, то отварное мясо. Не съел
Богдан осетрину, а женщины уже принесли вторую тарелку.
— Любят тебя твои тети, — улыбался Пиапон.
Вскоре охотники оставили Богдана, вернулись к прерванным разговорам и
воспоминаниям. Пиапон сидел с левого бока Богдана и молча наблюдал за
племянником. Богдан двумя палочками-сарбой ловко захватывал накрошенную
тонкой соломкой осетрину и отправлял в рот.
— Много людей в отряде? — спросил Пиапон.
— Семьдесят с лишним, — прожевывая талу, ответил Богдан.
— А сколько нанай?
— Тридцать с лишним.
— Низовские еще присоединятся.
Пиапон остался доволен, он и не думал, что столько охотников сами
добровольно пойдут в партизаны. Сколько помнит Пиапон, никогда нанай не
воевали друг с другом или с чужими людьми, все родовые ссоры улаживали
миром, а если доходило до драки, то дрались палками, но не стреляли из
ружей. Не было у людей такой озлобленности, чтобы стрелять из ружей и
убивать. Потому Пиапон думал, что в партизаны пойдут только те охотники, у
которых сердце обливается кровью, кровь запеклась на душе от ненависти к
белым и японцам. Пиапон идет в партизаны, чтобы отомстить своим мучителям,
отомстить за изнасилованных женщин, за храброго хозяина железных ниток.
Братья его Дяпа и Калпе, племянник Богдан идут тоже мстить за него, за
Пиапона, за поруганных женщин. Но почему пошли на войну болонского,
джуенские, чолчинские охотники? Этого Пиапон не мог понять. Белые не
заходили в их стойбища, не отбирали мехов, не избивали стариков, не
насиловали жен и дочерей. Почему они пошли в партизаны? За светлое будущее,
за новую счастливую жизнь? — как говорит Павел. Значит, они поверили
красным, признали их.
— За победу красных будем молиться священному жбану, за наше счастливое
возвращение, — сказал Пиапон. — Для этого мы позвали тебя. Завтра будем
молиться.
В этот день до позднего вечера не утихал шум и гам в большом доме, не
было в стойбище охотника, который не побывал бы в нем, не прощался с
Пиапоном и его братьями, с Богданом, все они несли с собой прибереженную на
всякий случай водку, которая предназначалась для угощения шаманов, их
саванов, которая, может быть, спасла бы от смерти заболевшего. Но охотники
без жалости вытаскивали эту водку и шли в большой дом, они шли провожать
сородичей на войну. Они впервые в жизни провожали сородичей на войну.
— Соромбори (Соромбори — большой грех, грешно.), не плачьте,
женщины, — уговаривал их Холгитон. — Люди уходят в большую дорогу, они
становятся на тропу солдат. Соромбори, нельзя плакать.
— Вы что, на похоронах?! Куда вы пришли? — кричал Полокто. — Беду
накличите, голову оторву!
Молитву священному жбану Пиапон назначил на утро. Был бы жив Баоса, он
тоже непременно обратился бы к священному жбану, и все Заксоры всегда будут
ему молиться, когда настанут тяжелые времена, когда потребуется Заксорам
помощь. Прав дед Пиапон, что привез священный жбан. Когда же молиться жбану,
если не сейчас? Заксоры уходят на войну за красных, за свое счастливое
будущее, и жбан должен помочь им победить белых и возвратиться домой живыми
и невредимыми.
Агоака постелила постель на месте, где спал Баоса, и юноши легли спать.
Утром они присутствовали на жертвоприношении, потом палили шерсть свиньи.
Богдана позвали в дом. Когда он вошел, все уже было приготовлено к молитве.
В углу возле священного жбана и двуликого бурхана горели свечи, на столике
дымилась кровь жертвенной свиньи, угощения, водка. Рядом со столиком —
жаровня с желтыми углями, в нее бросали багульник, и весь дом окутал
приятный дурманящий дым от багульника.
Опять большой дом был переполнен провожающими, и опять охотники пили,
ели целый день. А на следующее утро они запрягли упряжки и все выехали в
Малмыж провожать лыжный отряд партизан.
Пиапон с Богданом сидели рядом на одной парте.
— Скажи Павлу, я буду поджидать в Мэнгэне, — сказал Пиапон.
— А в Малмыж не заедешь?
— Нет, в Малмыж не заеду.
Больше Пиапон ничего не сказал. Богдан слез с нарт на берегу Малмыжа, а
Пиапон с зятем поехал дальше в Мэнгэн.
«Поехал прощаться с Мирой и Пячикой», — подумал Богдан.
Павел Глотов радушно встретил своего помощника и переводчика, сказал,
что отряд выйдет из Малмыжа через час, и что перед этим командующий
Бойко-Павлов хочет сказать партизанам напутственные слова. Через полчаса
партизаны собрались перед штабом. На крыльце штаба стояли партизанские
командиры, среди них Бойко-Павлов.
— Товарищи партизаны! Вы уходите освобождать нашу родную землю от
белогвардейской нечисти и японских интервентов. Стонет наша земля под их
ногами, горят наши села, умирают от их рук наши братья и сестры. Освободим
наш Нижний Амур от белогвардейцев и интервентов! Вы уходите на войну,
уходите рядом русский и гольд, украинец и белорус. Плечом к плечу будете
сражаться. От вашего имени я благодарю охотников, которые помогли партизанам
прятать муку, которые заготовили нам кету. От вашего имени я благодарю
гольдских женщин за обувь и одежду. Здесь стоят, провожающие вас охотники из
соседних стойбищ, они отдали вам свои ружья, отдали много пороха и свинца.
Бейте, не щадите белогвардейскую нечисть и интервентов, несите людям всей
земли освобождение и счастье. Да здравствует Советская власть! Да
здравствует товарищ Ленин! Да здравствует мировая революция!
— Ура! Ура! — ответили партизаны,
Приближалась минута расставания. Женщины потянулись к мужьям, дети к
отцам, друзья к друзьям.
— Эй, паря, здорово! — кто-то хлопнул Богдана по плечу. Богдан увидел
сияющее лицо хозяина железных нитей Федора Орлова.
— Освободился я, паря, нашли мне замену. Так вместе, значит?
— Надеть лыжи! — скомандовал Глотов.
Отряд встал на лыжи и гуськом двинулся вниз по санной дороге. Лыжники
поравнялись с утесом. Богдан оглянулся назад — далеко позади остались
провожающие, они стояли на одном и том же месте, и никто будто не собирался
уходить.
— Где Пиапон? — спросил Глотов, когда Богдан поравнялся с ним.
— Он нас ждет в Мэнгэне.
— Будем продвигаться ускоренным темпом, так предупреди партизан.
Получено сообщение от Тряпицына, он теперь командир, его отряд находится на
Нижней Тамбовке, с боями продвигается вниз к Киселевке. Нам надо спешить.
Богдан встал у обочины дороги, пропуская лыжников. Шли бородатые и
безбородые, рыжие и черные, кто в ватнике, кто в изодранном полушубке, а кто
в солдатской шинели; на голове у одного заячий треух, у другого ватная
ушанка. Мимо Богдана шли эти разношерстно одетые люди, суровые и красивые в
своей суровости. Подошли нанайские лыжники в серых и черных суконных
халатах, перепоясанные ремнями. Молодые охотники-щеголи надели охотничьи
шапки с соболиными хвостами на макушке, накидки белые под шапочкой. Никогда
охотники в стойбище или в дорогу не надевают эти шапочки, их положено носить
только в тайге, на охоте.
Первый короткий привал партизаны сделали в Мэнгэне. Богдан заглянул в
дом дянгиана-судьи Заксоров Гогда-мапа. Гогда-мапа радостно приветствовал
будущего своего преемника, хозяйка дома подала гостю трубку. Богдан взял
трубку и затянулся.
— Я, дед, с партизанами ухожу на войну, — сказал Богдан, попыхтев
трубкой.
Гогда-мапа открыл коробку с табаком и стал набивать свою трубку.
— Что думает голова, то и будет выполнять тело. А если твоя голова
хорошо подумала бы, кто останется после меня дянгианом Заксоров, может, она
не потащила бы тело на войну.
— Кроме головы, дед, есть еще сердце. Есть желчь, если она разливается
по телу, даже голову замутит.
— Да, если желчь разольется по телу, человек иногда теряет рассудок,
превращается в бешеного зверя.
Вошли партизаны, поздоровались, прислонили ружья к стене, сняли котомки.
Гогда-мапа опять замолчал, он всегда молчал при посторонних, незнакомых
людях. Хозяйка поставила столик, подала рыбный суп. После мороза горячий суп
быстро отогрел партизан, и молчаливые бородачи постепенно разговорились
между собой, потом с помощью Богдана заговорили с хозяином. Разговор этот
уже не прекращался до ухода партизан. Богдану не пришлось продолжить
разговор, и он очень сожалел об этом. Но, надевая верхний халат, он все же
спросил:
— Дед, как ты считаешь, что главнее для дянгиана-судьи? Ум его или
совесть? Может, его умение говорить?
Гогда-мапа подумал и ответил:
— Ты, нэку, хитро спрашиваешь, хочешь меня старого подловить. Ум мой
притупился, голова состарилась, на твои хитрости не моту как бывало раньше
отвечать хитростью.
— Я не хитрю, дед.
— У судьи всегда воюют ум и совесть, как сейчас красные воюют с белыми.
— И кто побеждает?
— Хитрость.
— Как хитрость? — удивился Богдан, не ожидавший такого ответа.
— Хитрый ум побеждает, а совесть прячется, как мышь, в норе.
Богдан улыбнулся, ему понравилась откровенность старого дянгиана, и он
подумал, что старый Гогда уже начал передавать ему секреты дянгиана-судьи.
— Уметь хорошо говорить — это обязательно требуется? — спросил он.
— Иногда совсем не требуется. Молчание, бывает, приносит больше пользы,
чем самые лучшие слова. Другой раз требуются красивые слова. Раз на раз не
сходится.
— О чем дянгиан больше всего думает во время суда?
— Выиграть дело, принести пользу роду своему, сохранить и возвысить
честь рода.
— Если род не прав, то судья прячет совесть, как мышонка, в нору?
— Честь рода дороже всего, и дянгиан должен прятать совесть.
— Что чувствует дянгиан, когда прячет совесть?
Гогда-мапа взглянул на Богдана, глаза его были тусклые, подернутые
голубоватой пеленой, морщины на лице, будто высохшие русла рек и проток.
— Стыд он чувствует, нэку. Очень большой стыд чувствует, но прячет от
других этот стыд.
— Надеть лыжи! — раздалась команда на улице.
— Дед, я думаю так. На суде все должно быть справедливо. Зачем собирать
судей, когда до суда люди знают, что большой род выйдет победителем? Если
судить по справедливости, то и судьям не требуется прятать совесть, как
мышонка в нору. Тогда судье не будет стыдно. Последний суд в Нярги был
несправедливый суд.
Богдан закинул за спину котомку, берданку и начал прощаться с добрыми
хозяевами. Старушка обняла его, поцеловала, Гогда-мапа прижал его к груди.
— Береги себя, помни, тебя ждут все Заксоры, тебя ждет весь род наш.
— Я, дед, не буду дянгианом, это слишком хитрое дело, а я не умею
хитрить, — сказал Богдан и подумал: «Я иду воевать за справедливость, а
когда она восторжествует, то, может, и не нужны будут судьи. Зачет они,
когда на всей земле будет справедливо».
Богдан вышел из дома, надел лыжи. К нему подошла Мира.
— Богдан, почему ты не зашел к нам? — спросила она.
— У меня дело было в этом доме, — смущенно ответил он.
Богдан ждал команды Глотова, ему становилось нестерпимо тяжело стоять
возле Миры. Он чувствовал, что если не прозвучит сейчас команда, то
произойдет что-то непоправимое. Но что произойдет и в чем его
непоправимость — он не знал. Может, не выдержат его нервы, и он заплачет?
Может, обнимет и поцелует Миру?
— Прощай, Мира, — пробормотал Богдан и сдвинулся с места, не ожидая
команды Глотова.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
В Нижней Тамбовке лыжный отряд Павла Глотова не застал партизан,
партизаны ушли вниз и находились возле села Софийска. В Нижней Тамбовке
находился тыловой госпиталь.
Пиапон и его братья, Токто, Богдан, Орлов и еще трое партизан
разместились на ночлег в большой просторной избе возле госпиталя. Партизаны
поужинали и курили перед сном.
— Воевать с беляками я начал в Приморье, — рассказывал Орлов, —
командиром небольшого отряда был. Тяжелые бои случались. У нас у некоторых
даже дробовика не было, да воевали. Сплоховали наши, говорили, оставили во
Владивостоке полные склады боеприпасов, хлеба, масла, крупы. Все оставили
белякам. А им еще японцы, американцы, англичане привезли оружия и пищи —
хоть завались. Ежели бы все это нам, в наши руки!
Рассказ Орлова прервали вошедшие в избу вооруженные люди. Среди них
няргинцы узнали чолчинского охотника Бимби Актанко. Другие четверо нанай им
были незнакомы.
— Чего не зашли в Чолчи? — сразу накинулся Бимби на партизан и начал
ругаться по-нанайски, добавляя крепкие русские словечки.
— Ишь ты, говорит-то по-своему, а матерится по-нашему, — смеялись
русские партизаны.
— Давай чеши, чеши! — смеясь, сказал молодой партизан.
— Чево чеси? Чево чеси? — накинулся на него Бимби. — Хоросо сто ли,
меня однаво оставили. Это хоросо? Плохо! Все посли белых бить, меня
оставили. Сколько ден я васа догоняй? Моного ден догоняй.
И опять, к великому удовольствию партизан, Бимби начал материться.
Успокоившись, он рассказал, как догонял партизан, познакомил со своими
спутниками, которые присоединились к нему в Нижних Халбах.
А Токто, услышав о нижнехалбинцах, стал присматриваться к каждому
охотнику, особенно долго он разглядывал пожилого нанай, с тощей седой
бородкой.
Богдан, как самый молодой среди партизан, заварил чай и стал угощать
прибывших остатком ужина. Все время, пока они ели, Токто не спускал глаз с
пожилого нанай.
Когда гости закурили, он подсел к нему и спросил:
— Ты не Понгса Самар?
— Я.
Пожилой охотник поднял голову, острые прищуренные глаза уставились на
Токто.
— Я тебя не знаю, — сказал он. — Откуда знаешь меня?
Пиапон прислушался к их разговору, что-то заставило его насторожиться.
Богдан тоже слушал, лежа на мягком сене.
— Давно встречались, в молодости, даже женатыми не были.
Понгса Самар опять будто прощупал глазами лицо Токто.
— Не припомню, — сказал он.
— Ваша семья большая была, да и род крепкий, а я остался тогда
последний мужчина...
— Токто? Это ты? — встрепенулся Понгса. — Ни за что не узнал бы, если
бы ты не напомнил...
— Не узнал, потому не убил бы, хочешь сказать.
— О чем ты говоришь, Токто? Я даже позабыл, когда кончилась кровная
вражда между нашими семьями. Давным-давно кончилась.
— Тогда кончилась, когда вы убили отца. Больше вам некого было убивать.
— Наши не убивали твоего отца. И тебя никто не искал. Давно кончилась
кровная вражда. Как погибли старшие, так и кончилась эта вражда между нами.
Никто о ней не вспоминал.
Токто не верил Понгсе, хотя не первый раз слышал эти слова. Еще
несколько лет назад, когда сын Понгсы женился в Болони, тогда Токто не на
шутку встревожился, встретившись с желторотым женихом, друзья его твердили
то же, что говорил теперь Понгса. Неужели прав Понгса? Неужели на Амуре у
нанай изменились нравы, характеры, обычаи?
Токто вернулся на свое место, лег рядом с Пиапоном.
— О какой это кровной вражде говоришь, Токто? — спросил Пиапон. — О
кровной вражде только в сказках услышишь теперь.
«И этот то же говорит, — подумал Токто. — Все амурские против меня,
или я один совсем глупый среди них, поумневших».
Партизаны улеглись, гости тоже легли рядом с ними. Токто лежал с
открытыми глазами и думал о Понгсе, о кровной вражде с родом Самаров, о
загадочной смерти отца.
«Если даже и есть кровная вражда, сейчас нам нельзя враждовать, потому
что мы на войне, идем вместе с красными против белых, — думал Токто. —
Кровную вражду можно продолжить после победы над белыми. А сейчас нельзя, мы
в одном лыжном отряде, оба красные партизаны».
Наутро, когда отряд двинулся в путь, Токто пристроился рядом с Понгсой и
сказал ему:
— Давай, Понгса, помиримся навсегда, потому, что нам нельзя враждовать,
мы оба красные партизаны.
Понгса засмеялся и ответил:
— Будем дружить, Токто.
Токто обнял Понгсу. Все слышавшие короткий разговор Токто с Понгсой
засмеялись, многие из них все происходившее восприняли за добрую шутку двух
уже немолодых людей, потому что все это было до смешного нелепо и никак не
вязалось с серьезностью дела, на которое они шли. Только Пиапон с Богданом
знали на сколько серьезно относится Токто к заключению этого мира с родом
Самар и как отлегла от его сердца тяжесть, которую он носил около тридцати
лет.
Лыжный отряд проходил через русские села, которые с боями захватывал
отряд Тряпицына. Циммермановка. Зеленый Бор. Киселевка.
Крестьяне Киселевки с восторгом рассказывали партизанам о храбрости
красного командира Якова Тряпицына, который один явился в село к казакам и
предложил им сдаться. Казаки всполошились, испугались и сбежали из
Киселевки.
— Теперича красный командир Тряпицын с семью партизанами пошел в самую
гущу беляков, — говорили крестьяне. — Он до того храбрый, што ему беляки
нипочем. Куды он придет, оттуда беляков будто ветром сдувает.
Глотов слушал рассказы крестьян и верил им и не верил. Бойко-Павлов
говорил ему, что Яков Тряпицын организатор неплохой, человек храбрый, и это
нравится партизанам. Но он самовлюбленный человек, за внешней обаятельностью
скрывается его стремление быть любимцем окружающих людей, а чтобы стать им,
он готов идти на самопожертвование.
— Он анархист и гордится этим, — сказал Демьян Иванович. — Если бы он
был командующим единоначальником, а не помощником, то наломал бы дров, но
его анархистскую прыть будет сдерживать командир, большевик Михаил Попко.
Попко не допустит анархии. Наумов его поддержит.
Павел Глотов не был раньше знаком с Тряпицыным, знал он о нем только из
рассказов Бойко-Павлова и по встречам в штабе в Малмыже. Высокий,
широкоплечий, голубоглазый русский красавец понравился Павлу Григорьевичу
при первой же встрече. Но разговаривать, познакомиться поближе им не
удалось. Тряпицын готовил отряд для похода на Нижний Амур, а Павел
Григорьевич собирался с Богданом в нанайские стойбища.
— Куда ушел Тряпицын с семью партизанами? — спрашивал Глотов крестьян.
— К белым. Он их одним своим видом пугает, — отвечали киселевцы.
Потом они рассказывали, как красные отступили в Циммермановку, как на
них наступали белые, но были разгромлены и вернулись в Киселевку.
Павел Григорьевич не стал больше расспрашивать, повел отряд вслед за
основными силами партизан. Он так и не узнал, куда и зачем Яков Тряпицын
ушел с семью партизанами, оставив весь отряд. И правда ли он ушел или это
домысел крестьян. Если ушел, то как он на это решился, он ведь теперь
командующий четвертого боевого района, Николаевского направления.
Глотов не находил ответа на свои вопросы и, встревоженный услышанным,
подходил к селу Софийску. Здесь его лыжный отряд присоединился к основным
силам партизан четвертого боевого района. В просторной избе, где разместился
штаб партизан, Павел Григорьевич встретился с бывшим своим командиром
Даниилом Мизиным. Тут же находились и другие командиры, они рассматривали
карту. Мизин познакомил Глотова с присутствующими и сказал:
— Мы только что вошли в Софийск, полковник Виц загадочно покинул его и
отступил в Мариинск. Но оказалось, никакой загадки нет, просто наш
командующий товарищ Тряпицын, совершив глубокий маневр, вышел ниже
Мариинска, взял село Богородское и отрезал путь полковнику в Николаевск.
— С семью партизанами? — удивился Павел Григорьевич.
— Зачем с семью? С большой армией, — ответил вместо Мизина высокий,
чернобородый, худой человек с кавказским акцентом.
Командиры опять наклонились над картами и начали обсуждать план
действия. Все сошлись на том, что надо немедленно вслед за белогвардейцами
продвигаться к Мариинску.
Глотов подошел к окну, выходившему на Амур. Далеко внизу на правом
берегу реки бугрились сопки, в одном места сопки полого спустились к Амуру и
будто вытеснили его. На этом месте и стояло село Мариинск, а мыс,
вытеснивший Амур, назывался Батарейным, так его назвал еще капитан
Невельской, знаменитый исследователь низовьев Амура. На мысу он поставил
батарею орудий, прикрыл Амур от иноземцев. Все это вспомнил Павел
Григорьевич, стоя у окна, пока командиры получали задания от Даниила Мизина
и один за другим покидали штаб.
— Как твои лыжники, сильно устали? — спросил Мизин, отдав последние
распоряжения.
— Немного отдохнут и можно в поход, — ответил Глотов.
— Надо на горбу полковника Вица войти в Мариинск, иначе он закрепится
там. Очень уж удобное место для обороны. Мыс этот Батарейный вдается в Амур,
хорошо оттуда вести огонь и вверх и вниз.
— Но и мыс хорошо простреливается и снизу, и сверху, и с другого берега
реки.
— Это верно. Но они закопаются в снег, в землю.
— Тряпицын тоже подходит к Мариинску?
— Да.
— Вы уже согласовали действия?
— Согласовали. Теперь полковнику некуда деться, он отрезан от
Николаевска, подкрепления не получит оттуда.
— Даниил, кто назначил Тряпицына командующим? Я об этом что-то не
слыхал.
Мизин нахмурился и ответил:
— Сверху его никто не назначал. Командиры собрались и решили, что
четвертый боевой район — самостоятельный участок, если он самостоятельный
участок, то он должен иметь своего командующего. Между прочим, об этом
заговорил сам Тряпицын, а его тут же поддержали товарищи Лапта,
Оцевилли-Павлуцкий, Лебедева и другие. Так Яков стал командующим величаться.
— Я, Даниил, много наслышан о его геройстве...
— О, Павел, Амур полнится этим слухом! Крестьяне и партизаны уже
легенды сочиняют про его геройство. Он на самом деле очень храбрый человек.
Он своей храбростью завоевал уважении партизан. Его народ полюбил. Правда,
он сам много делает, чтобы заслужить эту любовь, но иногда промашки дает.
Например, он застрелил партизана, у которого обнаружили позолоченную
церковную утварь. Это не понравилось многим партизанам. Яков тогда заявил,
что он борется за революционную дисциплину.
— А сам себя без приказа ревштаба объявил командующим, — усмехнулся
Павел Григорьевич.
— Но партизаны верят ему, даже, можно сказать, преклоняются перед ним.
Они не могут забыть, как он появлялся у врагов один, без оружия.
— А была такая необходимость?
— Чтобы зря не проливать братскую кровь, так объясняя Яков. И это очень
глубоко запало в людские души, все потом говорили, что он настоящий
командир, что бережет жизнь каждого партизана. Яков один явился в отряд
Оцевилли и приказал подчиниться ему. Скажу я тебе, этот Оцевилли еще тот
огурчик, он у меня в отряде раньше группой командовал, Оцевилли проверил его
документы — заявил, что он наседка, провокатор и шпион. И арестовал. Яков
стал возмущаться, а его Оцевилли — в каталажку, в крестьянскую баню. Пришли
ко мне партизаны, рассказали все, я приказал отпустить его. Целые сутки
Оцевилли продержал его в бане, но зато теперь ему в рот заглядывает, в огонь
и в воду готов за него идти. Потом Яков один явился в Киселевке к казакам.
— Я слышал об этом, — прервал рассказ Мизина Глотов. — А куда он
уходил с семью партизанами, почему оставил фронт? Он ведь не просто
командир, а командующий соединением, целым Николаевским направлением. Так,
кажется, теперь он величается?
— Командующий, так пусть остается командующим, — сказал Мизин. —
Теперь у нас тысячи людей, фронт растянулся, нужен командующий. А ушел
Тряпицын к золотодобытчикам, на реку Амгунь, на Кербинские прииски. Я и
некоторые командиры были против того, чтобы сам он шел к рабочим за
подмогой. Есть же другие командиры, есть большевики рабочие, которые тоже
могут собрать новый партизанский отряд. А мы уже знали, что на Керби
действуют небольшие партизанские отряды, там есть крепкие большевистские
организации. Но Яков настоял на своем и, конечно, его поддержали Лапта,
Оцевилли, Лебедева и другие. Но, как говорится, победителя не судят.
Тряпицын теперь в Богородске, перекрыл Амур, а полковник Виц обложен, как
медведь в берлоге. Как видишь, Тряпицын с блеском справился с выполнением
своего плана.
— А все же все это попахивает анархизмом, — сказал Глотов.
— Так он же анархист! — засмеялся Мизин. — А потом, большинство
командиров он прибрал к рукам, большинство слушаются его, ни слова против не
скажут. А теперь как он возвысится в глазах партизан! Охо-хо! Он теперь один
спаситель, про него только будут говорить.
Павел Григорьевич понимал, почему восторгается Даниил Мизин новым
командующим, понимал, почему прозвучали грустные нотки при последних словах.
Это была не зависть к славе Тряпицына. Нет, не зависть. И словно подтверждая
мысли Глотова, Мизин сказал:
— Жаль будет, если его анархизм возьмет верх над его трезвым умом. Он
умный человек, умеет трезво размышлять, когда надо.
Мизин задумался.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Ни одного выстрела еще не произвел отряд Глотова. Но когда подходили к
Софийску, многие надеялись встретиться с белогвардейцами, обменяться
двумя-тремя выстрелами.
— Убегут беляки до самого Николае века, а там сядут на пароходы, да
сбегут к япошкам за море-океян, только и видели их, — говорил Федор
Орлов. — А мне счет надо с ними свести за моих друзей.
Пиапон слушал этот разговор новых приятелей и тоже мечтал о скорой
встрече со своими мучителями. Чем ближе подходил отряд к фронту, тем больше
Пиапон думал о войне, как он впервые в жизни выстрелит в человека и будет ли
этот человек белогвардеец с карательной канонерской лодки.
За время похода Пиапон подружился со многими русскими партизанами:
синдинскими, славянскими, троицкими, вятскими, елабужскими крестьянами.
Некоторые из них понимали нанайскую речь, а кто не понимал, тому Пиапон
помогал разговаривать с нанайскими охотниками. Так возникли дружеские
отношения между русскими и нанай. Даже Токто, сторонившийся русских из-за
незнания языка, теперь лопотал с крестьянами, прибегая к помощи рук.
Когда останавливались на отдых или на ночлег в нанайских стойбищах,
Пиапон приглашал с собой малмыжца Ерофея, Федора Орлова, синдинца Тихона
Ложкина, елабужца Фому Коровина, а когда и следующий раз приходилось
ночевать в русских селах, новые приятели обязательно с собой брали в избу
Пиапона, его братьев, Богдана и Токто. Теперь они ели из одного котла, пили
чай из одного чайника или самовара.
— Когда кончится война, наша дружба еще крепче станет, потому что мы
вместе воевали за Советскую власть, вместе будем строить новую жизнь, —
говорил Федор Орлов. — Вместе будем бороться за победу мировой революции.
Все бедняки на земле — братья, будь он русский, гольд или тунгус.
Федор Орлов был среди партизан самый грамотный, бывалый человек.
— Федор, страшно убивать человека? — спрашивал Пиапон.
— Сперва страшно, Пиапон, потом ничего, — отвечал Орлов задумчиво, —
я думаю, просто человек привыкает к этому.
— А ты как стрелял в первый раз? Боялся?
— Не помню. Я только появился в отряде, к нам незаметно пробрались
каратели. Тогда я впервые выстрелил в человека. Ей-богу, не помню, что я
чувствовал. Выстрелил я в усатого белогвардейца, он упал, а я побежал в
сторону. Только после боя, когда мы ушли от карателей, я вспомнил об усатом
белогвардейце и тогда только понял, что я убил человека.
И Пиапон думал, мысленно видел врага, целился в него из своей берданки.
В мыслях все было ясно, все понятно, руки не дрожали, жесткие пальцы
спокойно нажимали спусковой крючок. Но что будет в настоящем бою? Неужели
Пиапон, разгневанный на белых, испугается выстрелить в человека только
потому, что он человек, имеет человечью голову, руки, ноги? Неужели страх
ослепит его меткие глаза, заставит вздрогнуть железные руки? Зачем же тогда
надо было идти на войну? Он ведь знал, что ему придется в людей, в своих
врагов стрелять. Придется их убивать.
В Софийске Федор Орлов завел партизан в просторную избу. Хозяйка вышла
из горницы, неприветливо встретила партизан, но поставила на стол большой
сверкающий медный самовар.
— Купеческий, видать, — сказал Фома Коровин.
— За этим самоваром каки разговоры разговаривались? — спросил Ерофей.
— Как нашего брата пониже согнуть, — ответил Тихон Ложкин.
Хозяйка не промолвила ни слова, ставила на стол свежий душистый хлеб,
масло, копченую рыбу, соленые огурцы.
— Хозяин, местный кровопийца, говорят, сбежал, — сообщил Орлов.
Пиапон наблюдал за женщиной, но не замечал в ее лица ни страха, ни
возмущения, она была спокойна и даже чуть-чуть нагловато поглядывала на
партизан и совсем уж откровенно, брезгливо морщилась, проходя мимо нанай.
Пиапон и раньше замечал эту брезгливость некоторых зажиточных русских
поселян. В Малмыже, например, Феофан Ворошилин никого из нанай не пускал
дальше крыльца.
Вот и в поведении этой хозяйки ему не понравилось все: и спокойствие, и
нагловатый взгляд, и как она морщила брезгливо нос. Сама женщина уже своим
присутствием вызывала раздражение. Пиапон успокаивал себя, говорил себе, что
женщина молода, красива, ее нежили родители, нежил и муж, она не привычна к
рыбному запаху охотников.
— Ты почему, хозяйка, молчишь? — спросил Коровин.
— Чево ей с нами разговоры иметь? Мы голодранцы, а она, вишь, какая
справная, — со злостью проговорил Тихон Ложкин.
Пиапон только теперь понял, что партизан тоже раздражает опрятная,
молчаливая хозяйка, большая добротная изба, которая сама говорит о достатке
хозяина. И он вспомнил такую же избу, молчаливую молодую девушку, дочь
хозяина избы, зажиточного, если не сказать богатого, казака в селе
Киселевке. Этот казак приготовил для партизан несколько сот пельменей со
стрихнином и наверняка отравил бы с десяток партизан, если бы об этом
вовремя не разузнали.
Пиапон, вспомнив о пельменях со стрихнином, еще раз присмотрелся к
хозяйке, но не уловил в ней ни страха, ни какого-нибудь волнения. И он
спросил:
— Стрихнина не положила в еду?
Партизаны сразу замерли, положили на стол ломти мягкого хлеба, куски
копченой рыбы, соленые огурцы.
— А ну-ка хозяйка, сипай рядком, да поговорим ладком, — сказал Тихон
Ложкин, освобождая женщине место на широкой скамье.
— Нам стыдно в твоей богатой избе помирать, — сказал Федор Орлов, —
мы согласны от пули погибнуть, чем от стрихнина.
Женщина взглянула на него своими нагловатыми глазами, спокойно села на
скамью.
— Мне самой брать, или какую вы прикажете? — спросила она приятным
голосом.
Ложкин подал ей копченую рыбу.
— Я давеча поела, много не съем, отрежь кусок.
Тихон отрезал ей кусок рыбы, подал ломоть пахучего хлеба. Хозяйка
прожевала рыбу с хлебом, проглотила, запила горячим чаем. Потом она отведала
масла, огурчиков и опять запила чаем.
— Теперь, храбрецы, глядите, как я буду помирать, — сказала она
насмешливо, поднимаясь со скамьи. Партизаны молча проводили ее взглядом.
Женщина отошла к печи, скрестила руки на груди и замерла, глядя в окно. Она
уже не обращала внимания на партизан, будто находилась одна в этой большой
избе. За окном мелькали люди, это были партизаны, готовившиеся к выступлению
вслед за убежавшими белогвардейцами.
Пиапон придвинул к себе остывшую кружку с чаем и отхлебнул.
— Кушайте, — сказал он.
Женщина у печи вздрогнула, нагнулась к окну и вдруг бросилась к дверям,
выбежала и сени. Тихон Ложкин вскочил на ноги, за ним встали другие и
широкая скамья с грохотом повалилась на пол.
— Дядя Вася! Василий Ерофеич! — кричала женщина за дверью.
Первым к ней подбежал Федор Орлов, схватил было за руку, но она
отдернула руку и вся устремилась навстречу человеку в меховой шапке, в
волчьей дохе.
Человек приближался к ней с широкой улыбкой. Он носил небольшую бородку
клинышком, рыжеватые усы.
— Даша! Дашенька — это вы! А я думал вас нет в селе, уехали с мужем.
— Говорите уж что думаете, убежала, а не уехала, — засмеялась женщина.
— Здравствуйте, Василий Ерофеич. Что вы здесь делаете?
— Здравствуйте, Дашенька, здравствуйте! О вас беспокоится Анастасия
Ивановна, велела зайти к вам, да вот видите, все некогда, все некогда. У вас
партизаны?
— Да, у них партизаны, — ответил за Дашу Орлов. — А вы кто будете?
Пиапон протиснулся между Ложкиным и Коровиным, оттолкнул их и оказался
на крыльце.
— Харапай! Друг мой!
— Пиапон? Это ты? — доктор обнял Пиапона.
Тут выскочил на крыльцо Токто.
— Харапай! Брат мой! Харапай! — закричал он и тоже стал обнимать
доктора.
— Токто? Ты тоже здесь? Вот это встреча! Да вы задушите меня, как же
так, двое на одного. Обождите.
Партизаны изумленно смотрели на эту встречу, переглядывались между
собой, пожимали плечами. Калпе с Дяпой, подошедшие позже всех и зажатые в
сенях, сообщили, что Пиапон с Токто встретились со старым другом доктором
Харапаем.
Изумленная не меньше русских партизан Даша ускользнула в дверь, начала
хлопотать возле печи, в посудном шкафчике.
Пиапон с Токто наконец отпустили из объятий Василия Ерофеича,
познакомили с русскими партизанами. А Калпе с Дяпой наконец познакомились со
знаменитым доктором.
— Здесь с нами Богдан, сын Поты, которого ты спас от страшной
болезни, — сказал Токто и очень обрадовался, когда Василий Ерофеич закивал
головой. — Он в штаб ушел, он командир.
Орлов, принявший Василия Ерофеича за чиновника, теперь стыдился,
прятался за спиной товарищей. Он о докторе Харапае сначала слышал на Нижней
Тамбовке, а потом почти в каждом нанайском стойбище и в русском селе.
Когда партизаны вошли в избу, на столе стояла бутылка водки, в большой
тарелке розовело сало. Даша, сразу похорошевшая, хлопотала у стола: то сала
добавит в тарелку, то копченой рыбы, то не нравится ей, что соленые огурцы
заняли середину стола и переставит на край.
— Ого, водка, братцы! — первым заметил изменения на столе Ерофей.
— Нам так не подавали, — сказал Тихон Ложкин.
— Мы тебя, Харапай, догоняем, догоняем, — говорил Пиапон. — Из самой
Нижней Тамбовки догоняем.
— Я не виноват, так быстро белые скатываются, — смеялся Василий
Ерофеич. — Да наши шибко быстро наступают.
Василий Ерофеич был обрадован встречей с друзьями не меньше их.
— Василий Ерофеич, пельменчиков отварить? — спросила Даша.
— А они не со стрихнинчиком? — засмеялся Харапай.
— Ой, что вы, Василий Ерофеич! Уж эти меня пытали. Ерои!
— Правильно, Даша, изба твоя, муж вызывают недоверие людей. Ты не
слышала, в Киселевке один так задумал отравить партизан. Я теперь требую,
чтобы партизаны были осторожны, когда в богатых домах слишком хлебосольно
встречают.
— Это верно. Это правильно, — сказали партизаны, уважительно глядя на
Василия Ерофеича.
— А она обижается, — пожаловался Федор Орлов.
— Чего обижаться, Даша? Они правы. Ох, как хочется поговорить с тобой,
Даша, и с друзьями моими, Пиапоном и Токто, да некогда. Пельменчики даже
твои не успею отведать, сейчас уходим.
— Хоть стопочку выпейте, теплее будет, — попросила Даша.
— Стопочку? Стопочку можно за встречу выпить. Ну, друзья, за встречу,
за знакомство, за нашу победу, выпьем за все!
Партизаны опорожнили кружки, крякнули и стали накусывать.
— Даша, не обессудьте, я пошел, — Василий Ерофеич встал из-за стола.
— Чево вам спешить, вам же не стрелять? Хоть чайку бы выпили.
— Не стреляю, зато подстреленных штопаю. Нет, нет, мне нельзя
отставать. Ты угощай, угощай товарищей. А вы, друзья, не стесняйтесь, но
бойтесь ее, я отвечаю за нее. Она младшая сестра моей жены, насильно почти
отдали ее за...
— Василий Ерофеич, зачем вы это? — нахмурилась Даша.
Василий Ерофеич попрощался и поспешил на берег, где ждала его подвода.
— Дохтур, а под пули лезет, — сказал Ерофей.
— Он всегда там, где людям тяжело, — ответил Пиапон. — Всегда ему
некогда.
Партизаны вошли в избу, расселись за стол. Даша подала им вторую бутылку
водки. Партизаны заулыбались.
— Ты тоже добрая, Даша, — сказал Федор Орлов. — Ежели бы ты не
встречала нас со злобой, мы тоже...
— Чево вас по-доброму встречать, когда вы, как на гадину, глядели, — в
сердцах бросила Даша.
— Нос ворочала от них, — Орлов кивнул на Пиапона.
Даша смутилась.
— Пошто я знала, оне друзья Василия Ерофеича или нет.
Партизаны засмеялись. Пиапон тоже улыбнулся и подумал:
«Глупая женщина».
Пиапон еще выпил водки, закусил салом. Потом он ел все, что попадало под
руку. Даша подала горячие пельмени.
А Богдан в это время встретился с другом Кирбой Перменка и его
товарищами. Богдан пил с ними чай и, со смешанным чувством зависти и
восторга, слушал их рассказы о сражениях с белогвардейцами и казаками. Но
особенно поразил его рассказ Кирбы.
После ухода Якова Тряпицына на Амгунь, партизаны засели в селе
Циммермановка, укрепились и отбили атаки белогвардейцев. Потом вслед за
отступавшими белогвардейцами, не очень поспешая, подошли к Софийску,
остановились в пятнадцати километрах от него. Никаких боевых действий
партизаны не предпринимали, и это было не по душе многим горячим
партизанским головам. К ним относился и Кирба Перменка. Он не раз при
встрече с командиром отряда Даниилом Мизиным высказывал свое недовольство.
Командир отвечал, что белые крепко укрепились в Софийске и нельзя лезть на
укрепления врага, нельзя зря проливать людскую кровь, что партизанам надо
беречь свои силы для освобождения всего Нижнего Амура.
В другой раз командир сознался, что он не знает даже, какая сила у
полковника Вица в Софийске, тогда Кирба предложил отправить его на разведку.
Даниил Мизин усмехнулся и обещал подумать. Потом Кирба советовался с
товарищами по отряду, как ему лучше проникнуть в Софийск, но никто ничего
дельного не мог посоветовать. Все придумал сам Даниил Мизин. Он вытащил из
охотничьей сумки около сотни беличьих шкурок, две выдры, три колонка, две
лисы.
— Ты охотник, понял? — сказал он. — Ты из стойбища Карчи, что
находится ниже Мариинска. Ты живешь в тайге, охотишься, у тебя кончились
продукты и ты пришел в Софийск за мукой, крупой. Вот тебе шкурки, на них
обменяешь продукты.
— Такие хорошие шкурки отдавать белым? — спросил Кирба.
— А чего же? Потом у них отберем, — улыбнулся Мизин. — Когда придешь
в село, узнай, где штаб белых, сколько солдат и казаков, много ли лошадей,
сколько пулеметов, есть ли у белых пушки. Все узнай. Кирба, ты идешь на
очень опасное дело, ты лезешь в берлогу медведя, когда медведь там
находится. Попадешься к нему в лапы, тогда могут спасти только храбрость и
смекалка твоя. Понял?
— А чево не понимать? Все понял, — ответил Кирба. — Только мне лыжи
надо охотничьи достать, нарты и одну собаку. Я по тайге пройду, обогну эту
высокую Шаман-сопку и выйду с той, с другой стороны. Так будет вернее, так
они поверят.
— Все уже готово, — ответил Мизин.
Кирба в этот же день ушел в тайгу, а на следующий день появился в
Софийске. Его арестовали, когда он подходил к селу, привели к какому-то
офицеру, который и начал допрашивать. На все его вопросы Кирба отвечал:
«Понимай нет, понимай нет» и мотал головой.
— Откуда он шел? — спросил офицер у солдат.
— Да оттеда, с тайги, — ответил рыжий солдат, — с сопки спущался.
Офицер приказал поискать среди солдат и жителей села человека, знающего
нанайский язык. Когда солдаты привели щупленького старика, офицер спросил
его:
— Хорошо владеешь их языком?
— Почитай лет, однако, двадцать будет, — ответил старичок.
— Его раньше не встречал?
Старик оглядел Кирбу и помотал головой.
— Однако, не встречал. — И на довольно чистом нанайском языке спросил:
— Ты откуда?
— Из Карчи, — ответил Кирба и подумал: «Хорошо говорит, как бы мне не
запутаться».
— Из стойбища Карчи, что ниже Мариинска, я тамошних не знаю, — перевел
старик офицеру.
— Зачем пришел в Софийск? — спросил офицер.
Выслушав перевод, Кирба стал развязывать мешок.
— Пища кончилась у нас, — сказал он. — Нет ни муки, ни крупы, нечего
кушать. Меня послали обменять эти шкурки на муку, крупу.
Кирба вытащил шнурки белок, лисиц, выдры и колонков.
— А соболя нет?
— Какие соболи теперь? В тайге нет соболей, всех переловили.
— К кому шел, у кого хочешь обменять шкурки на муку?
— Не знаю. Мы больше обменивались с богородскими торговцами, а сюда не
ездили, далеко.
— Партизан встречал?
— Кто они такие?
— Красные.
— В тайге никого не встречал.
— Врешь. Ты партизан! Много наших у партизан?
— Я охотник, не веришь, пойдем к нам в зимник.
— Ваши помогают партизанам, мы это знаем.
— Зачем помогать? Вы, русские, воюете между собой. а нам, нанай, зачем
помогай? Мы охотимся, еду добываем. Если охотник будет воевать, кто будет
кормить его семью?
— Однако, он верно говорит, — сказал старичок. — Без охоты оне с
голоду помрут.
— Молчать! Мы сами знаем, — крикнул офицер.
«Злой человек», — подумал Кирба. Он вытащил трубку и закурил.
— Гоните его в шею, весь дом завонял, — приказал офицер солдатам. —
Проследите, той ли дорогой будет возвращаться.
Кирбу выпроводили из избы, за ним выскользнул и переводчик. Кирба
расспросил у него, где живут торговцы и у кого он может обменять шкурки на
муку и крупу.
Пока он расспрашивал, мимо их солдаты провезли несколько возов сена.
— Скотину нашу без сена оставите, — сердито сказал старик. — С голоду
околеет скотинка. Скоро вы ослобоните нас от энтого оброка?
— Тебе-то што? Што мы, што красные, лошади-то одинаковы, сено
требуется, — ответил солдат.
— У вас шибко много лошадей-то.
— А как же, дед? Кавалерия, без нее, что без ног на войне.
Кирба зашагал к торговцу на верхний край села, по дороге считал
встречных солдат, лошадей, повозки. По тому, как сновали возле большой избы
солдаты и офицеры, он догадался, что в ней расположен штаб. Недалеко от
штаба он заметил два пулемета. На верхнем краю села солдаты отрыли окопы в
сугробах. Здесь тянулась одна оборонительная полоса. Кирба насчитал три
замаскированных пулемета, но нигде не увидел пушек.
Торговец встретил Кирбу с бранью, но все же согласился взглянуть на
шкурки. Он осмотрел каждую шкурку, небрежно швырнул на полку и предложил
Кирбе до смешного мало муки и крупы. Кирба для вида возмущался, ругался
по-своему, а про себя подумал, что, когда он вернется к торговцу, поглядит,
как тот встретит его.
Солдаты его проводили в тайгу недалеко от села и отпустили. Кирба опять
обогнул высоченную Шаман-сопку, возвратился в отряд и доложил Даниилу
Мизину. Командир остался очень доволен данными разведки, похвалил молодого
охотника.
— Страшно было? — спросил он.
— Страшно, — сознался Кирба. — Особенно страшно было, когда офицер
кричал на меня.
Кирба отдыхал всего один день, командир вызвал его и дал новое
задание — пробраться в село Богородское, если туда вышел Тряпицын, передать
ему пакет и возвратиться обратно в отряд. Если в Богородске не окажется
Тряпицына, ждать его там и не возвращаться, не передав ему пакет.
Стали думать, как Кирба пробраться в Богородск. Можно ему было ехать на
нарте по Амуру, но это слишком рискованно, его могли привести в Софийск к
тому же офицеру, который однажды уже допрашивал. Другая опасность — у Кирбы
никого не было знакомых в нанайских и ульчских стойбищах. Не к кому ему было
явиться и в Богородске. Наконец, командиры решили, что Кирбе лучше идти
одному на лыжах через тайгу, через перевалы, а как он появится в
Богородске — это пусть Кирба на месте сам решит.
Кирба запрятал пакет в олочи между двумя слоями теплой травы паокты и
ушел в тайгу. Он повторил свой первый путь до Шаман-сопки, оттуда пошел на
озеро Кизи, ночью перешел его и скрылся в густой хвойной тайге. Тайга в
низовьях Амура была богата дичью. Кирбе часто встречались рябчики, тетерева,
видел он множество следов дикого северного оленя — согжоя. Кирба перевалил
главный хребет и недалеко от Богородска метким выстрелом свалил одного
согжоя. Он явился в Богородск под видом охотника; который хочет обменять
свежее мясо на муку или крупу. Он еще с сопки заметил оживление на улицах
села, но издали не мог разглядеть, кем было занято село.
У окраины села его окликнули, и Кирба к великой радости узнал партизан
по красной ленточке на шапках. Это был отряд Якова Тряпицына, собранный на
кербинских приисках.
Кирбу привели к Тряпицыну.
— Как сюда попал? Откуда знал, что я тут? — забросал он вопросами
молодого разведчика. — Пакет доставил? Молодец! Какой молодец! Связной. По
тайге шел? Даже оленя убил? Долго шел?
Тряпицын развернул пакет, прочитал донесение Даниила Мизина.
На следующее утро Кирба вышел в обратный путь, в олочах между двумя
слоями теплой травы паокты он спрятал пакет Тряпицына. Возвращался он старой
дорогой, Софийск обогнул за Шаман-сопкой, вышел в расположение своего отряда
и не нашел партизан: партизаны вошли с оставленный белогвардейцами Софийск.
Кирба зря сделал огромный крюк на несколько десятков километров. В Софийске
он разыскал штаб, где получил свою первую награду.
— От имени партизан благодарю тебя, товарищ Кирба! — сказал ему Даниил
Мизин и протянул наган и кобуру с ремнем.
Кирба с замирающим сердцем принял боевое оружие — давнишнюю свою мечту.
На улице он долго рассматривал револьвер. Револьвер был изношенный,
воронение металла стерлось, и металл поблескивал в тех местах, кобура была
истрепана, но ремень был новенький, офицерский. Кирба опоясался ремнем и,
чувствуя приятную тяжесть нагана на правом боку, побежал искать своих
товарищей.
Потом он с двумя товарищами сходил к торговцу, но не застал его дома:
торговец сбежал из Софийска вместе с белогвардейцами.
— Я его запомнил, никуда не денется, я его в Мариинске разыщу, —
смеялся Кирба, рассказывая о своем подвиге. Кирба показал Богдану наган, они
вышли на лед Амура, и Богдан впервые в жизни два раза выстрелил в зеркальный
торосистый лед в десяти шагах от него и не попал, потому что при нажатии
спускового крючка он дергал руку, и пули шлепались в снег в двух шагах
впереди.
— Ничего, научишься, я сам не лучше тебя стреляю, — сказал Кирба. —
Патронов маловато. Жалко. Если где найдешь патроны к нагану, подбери.
Хорошо? А если Тряпицын мне подарит другой наган, я один тебе отдам, —
пообещал Кирба на прощание.
Кирба побежал догонять отряд, а Богдан вернулся к своим.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Ударному лыжному отряду Павла Глотова не пришлось совершить маневр в тыл
противника, лыжники, оставив на острове в тальниках лыжи, наступали на
Мариинск пешими. На всю ширину Амура растянулась цепь наступающих партизан.
Изредка из Мариинска и островов начинал бить пулемет по партизанам,
партизаны отвечали одиночными винтовочными выстрелами. Настоящий бой не
разгорался, казалось, оба стороны и не стремились к нему.
Мизин получил донесение, что партизаны Якова Тряпицына тоже вплотную
подошли снизу к Мариинску, тоже подготовились к последнему броску.
Солдаты полковника Вица в одиночку и небольшими группами переходили на
сторону партизан, рассказывали, какое брожение происходит среди казаков и
солдат. От них партизаны узнали о новом подвиге Якова Тряпицына.
Отступив в Мариинск, полковник Виц находился в полной растерянности, он
никак не ожидал, что партизаны совершат такой глубокий маневр в его тыл и
отрежут от основных сил, которые находились в низовьях Амура, в городе
Николаевске, в крепости Чныррах и в расположенных рядом фортах. Полковник
запросил подкрепления из Николаевска, а сам решил укрепиться в Мариинске и
ждать обещанного подкрепления. Но вскоре полковник должен был признаться,
что Мариинск ему не удержать: человек, не лишенный ума, он понимал свое
положение, видел недовольство солдат и казаков. А от лазутчиков поступали
совсем печальные сведения: отряд Якова Тряпицына с каждым днем пополнялся за
счет крестьян, и партизанские отряды растекались по всему Нижнему Амуру,
летучие отряды лыжников внезапно появлялись то в одном селе, то в другом,
громили небольшие гарнизоны белогвардейцев и бесследно исчезали. Отряды
партизан действовали под самым Николаевском. Полковник Виц перестал ждать
подкрепления. Он каждый день совещался с офицерами и ломал голову, ища
выхода. Пробиваться к Николаевску полковник считал самоубийством: десятки
сел, сотни верст пути по Амуру уже находились в руках партизан. Обойти
партизанские села по бездорожью по глубокому снегу отряд полковника не мог,
а дорога была проложена по льду Амура от одного села до другого.
— Господа, все против нас, — не однажды повторял растерянный
полковник. — Вы замечаете, какая жестокая нынче зима. Морозы не унимаются,
снегу навалило по грудь. Нам путь в Николаевск преградили две силы:
партизаны и жестокая зима. Одиссею было гораздо легче пройти между Сциллой и
Харибдой, чем нам пробраться в Николаевск.
В последнее время мысли полковника часто были обращены на берег
Татарского пролива, на бухту Де-Кастри. Он надеялся, что жестокие морозы
сковали всегда штормующий Татарский пролив. Уверенности в этом было мало у
полковника. Если даже будет соединен спасательным льдом материк с Сахалином,
удастся ли солдатам перебраться на Сахалин? А как примут на Сахалине? Какая
там власть?
Полковник в глубокой задумчивости просиживал часами над картой и еще,
еще раз проверял расстояния в Николаевск, в бухту Де-Кастри, ширину
Татарского пролива.
Однажды вечером к полковнику явился офицер и доложил, что командующий
партизанскими отрядами Тряпицын хочет встретиться с полковником.
— Он явился один в сопровождении возницы, — понизив голос, добавил
офицер.
Полковник взглянул в окно — черная ночь окутала землю, на улице не
видать ни зги.
— Сам Тряпицын? — переспросил полковник. — Вы проверили документы?
— Да, господин полковник!
Полковник Виц еще раз взглянул в окно и подумал: «Это сумасшедший или
отчаянной храбрости человек. Один явился на переговоры. В сопровождении
возницы. Ночью».
Но поступок Тряпицына действительно граничил с сумасбродством. Какой же
полководец перед крупными сражениями может так легко жонглировать своей
жизнью? Да, это жонглирование, игра с жизнью, по-другому полковник не мог
назвать поступок командующего партизанскими отрядами. Полковник допускал,
что Тряпицын — отчаянная голова, не боится смерти. Но неужели он не
понимает, что его голова сейчас необходима для руководства боем, для победы
над противником? Над ним, над полковником Вице? Что стоит полковнику
приказать уничтожить командующего партизанскими силами, воспользоваться
возможной растерянностью среди партизан и попытаться вырваться из кольца?
Что терять полковнику? Другой бы на его месте поступил так, но Виц...
— Господин полковник, что прикажете ответить?
Полковник повернулся, встретился с любопытными, растерянными глазами
офицеров и кивнул головой.
— Приглашайте.
В дверь, пригнув голову, вошел высокий широкоплечий человек, с
неброским, но красивым русским лицом, больший голубые глаза смотрели из-под
мохнатой шапки.
— Я командующий партизанской армией, Тряпицын, — представился вошедший
густым голосом.
— Я полковник Виц, — встал из-за стола полковник. — Положите свой
револьвер на стол.
Тряпицын усмехнулся еле заметно, будто хотел напомнить полковнику, что
он явился в штаб белогвардейцев для переговоров, а не расстреливать
офицеров. Он вытащил из кобуры маузер и сказал:
— Полковник, ваше оружие должно лежать рядом с моим.
Офицеры переглянулись. Полковник чуть помедлил, вытащил свой изящный
браунинг и положил на стол рядом с тряпицынским маузером.
— Я явился в штаб, чтобы предложить вам сдаться, — прогремел голос
Тряпицына в наступившей тишине. — Вы отрезаны от главных сил, от базы.
Положение свое вы сами знаете, партизанские силы тоже вам известны.
Предлагаю вам сдаться без кровопролития, если сдадитесь добровольно, могу
гарантировать жизнь тем офицерам, которые не запятнали себя кровью рабочих,
крестьян, женщин и детей.
В избе стояла такая тишина, что стал слышен скрип под ногами часового,
прохаживавшегося под окнами. За перегородкой, в своей половине, купчиха
Кетова о чем-то вполголоса говорила с дочерьми.
— Сопротивляться бесполезно, вам нет пути из Мариинска, все дороги вам
заказаны, — повторил Тряпицын.
— Да, вы совершили неожиданный глубокий маневр, которому позавидует не
один военачальник, — сказал полковник. Он явно льстил командующему
партизанской армией, но умышленно сказал вместо «полководец» «военачальник»:
полковник Виц хоть и признавал свое поражение, но не видел в Тряпицыне
глубокого стратега.
Полковнику Тряпицын казался неопытным пловцом, вдруг оказавшимся в сфере
действия могучего водного потока, которого поток потащил за собой
безудержно, безостановочно. Пловец только старался удержаться на поверхности
воды, а чтобы не показаться смешным, принимал отчаянные попытки обогнать
водный вал.
— А над вашим предложением — подумаем, — добавил полковник. — Через
час получите ответ.
Полковник направился в соседнюю комнату, за ним удалились все офицеры за
исключением ординарца полковника. Ординарец убрал со стола револьверы и стал
прохаживаться по избе. Тряпицын снял с себя полушубок, остался в френче,
перепоясанный ремнями. Он, как и ординарец, не знал, чем заняться. Он вдруг
вспомнил совещание с командирами партизанских отрядов, жаркий спор с ними,
как они отговаривали его от визита к Вицу, как советовали не рисковать
собой.
«Какой может быть риск? Что они могут со мной сделать? — думал
Тряпицын, оглядывая избу. — Они зажаты с двух сторон. В тайгу им не
податься: снег глубокий, да офицерье не может жить в тайге. Силы партизан
превосходят их силы в несколько раз. Солдаты бегут, казаки недовольны. Что
же тут думать? Сдаваться — и только».
Тряпицын вытащил часы, взглянул на них и положил обратно в карман
френча. Из-за дверей, куда удалились офицеры, неслись приглушенные голоса.
Он опять вспомнил партизанских командиров, одного, второго, третьего —
все они не хотели, чтобы командующий сам шел на переговоры, да еще без
охраны, без предварительной договоренности о встрече. Все они предлагали
себя в парламентеры. Храбрые командиры — ничего не скажешь. Но как они тут
повели бы себя? Как разговаривали с полковником? Разве они смогли бы
произнести такой эффект, какой произвел Тряпицын? «Я, Тряпицын!
Командующий!» Как гром среди бела дня! А если бы пришел кто другой. «Я,
Иванов». А кто ты Иванов? Откуда родом, какого звания? Нет, конечно, тогда
полковник не побледнел бы, как при встрече с ним, у офицеров не вытянулись
бы лица, не округлились глаза. Шутка ли, явился сам Тряпицын. Один, без
охраны. Ночью. На всю жизнь запомнят, кто такой бывший грузчик Яков
Тряпицын!
Прошло полчаса. Время ползло медленно, но Тряпицын, занятый своими
мыслями, не замечал этого. Ординарец расхаживал по избе, изредка поглядывал
на Тряпицына и молчал.
Голоса за дверью замолкли. Опять наступила тишина. Скрипел снег под
ногами часового под окнами, купчиха Кетова все еще переговаривалась с
дочерьми.
Дверь в соседнюю комнату растворилась, вышел полковник Виц, за ним
офицеры.
— Сдаться мы не можем, — твердо проговорил полковник.
Тряпицыну сперва показалось, что он ослышался, он повторил про себя
каждое слово полковника, наконец понял смысл ответа и побагровел.
«Сволочи! Ну, погодите, гады, завтра-послезавтра я вас в порошок сотру.
Самому Тряпицыну не хотите сдаваться? Ну, хорошо!»
— Ответ окончательный? — спросил он, стараясь не выдать своего гнева.
— Да.
Тряпицын не ждал такого категорического ответа, он прибыл в Мариинск с
далеко идущей целью. Он был больше чем уверен, что полковник Виц, трезво
мыслящий опытный военный, понимает свое безвыходное положение и согласится
сдаться на милость командующего партизанской армией. Тогда Тряпицын
возвратился бы к партизанам победителем и во всеуслышание объявил бы о сдаче
полковника Вица. И все партизаны узнали бы, что это он, Яков Тряпицын,
бывший рабочий, бывший грузчик, заставил сдаться полковника! И вновь
заговорил бы о нем народ. И чего только не говорили бы о нем!
— Переговоры закончены? — Тряпицын еще надеялся, что полковник
передумает и заявит о сдаче на милость победителя.
— Да.
«Ну, полковник! — задохнулся в гневе Тряпицын. — Сотру в порошок!» Он
сделал шаг к двери, где на вешалке висел на гвозде полушубок, но полковник
остановил его.
— Вы... — толковник не знал, как обратиться к Тряпицыну, ему очень не
хотелось назвать его командующим, но по существу было бы признанием его
полководческих достоинств, которого этот человек, по глубокому убеждению
полковника, был лишен. — Э-э, вы не выкушаете чашку чаю с нами?
«Право, нехорошо сразу уходить, — подумал Тряпицын. — Могут, гады,
по-своему как-нибудь растолковать».
— Отчего же, можно, — ответил он.
Офицеры засуетились, вышла купчиха Кетова с рослой дочерью и начала
хлопотать у стола. Появились закуски, неизменная амурская рыба во всех
видах, красная и черная икра, американский колбасный фарш, голландский сыр,
бутылки водки, виски, бренди. Офицеры разлили водку, пожелали не очень
весело здоровья неизвестно кому и выпили.
«За свое здоровье можете не пить», — подумал Тряпицын и опустошил
рюмку. Офицеры молча закусывали. Молчал и полковник Виц. Только после
третьей рюмки у офицеров развязались языки.
— Переговоры между воюющими сторонами ведутся на заранее обусловленных
местах, условиях, — говорил пожилой капитан. — А тут...
— Как вы не побоялись прийти к нам один? — спросил молодой поручик. —
Мы могли вас просто расстрелять.
— И вы тогда не избежите суровой кары.
— Допустим, у нас один исход, мы хотим перед смертью своей вас
расстрелять...
— Это пустой разговор, поручик, — прервал его штабс-капитан.
— Командующий бросает армию, один является в стан противника, что за
война такая, — бормотал пожилой капитан.
— Какая бы ни была она, но на этой войне, как на всякой другой, тоже
убивают, — сказал его сосед поручик с рыжими усами.
— Я о правилах говорю, о законах...
— Закон один. Убивать.
Тряпицын попросил чаю и, воспользовавшись минутной тишиной, заявил:
— Мы контролируем все дороги ниже Богородска, без нашего разрешения не
проезжают ни одна кошевка почтовая, ни крестьянские сани, ни охотничьи
нарты. Я привез вам ваши письма.
Тряпицын вывалил из сумки на стол кучу писем. Офицеры тут же сгрудились
вокруг писем и торопливо, нервными пальцами начали перебирать их.
— Господа, мне два письма!
— А мне одно, от брата.
Офицеры отбросили всякую условность, они будто забыли, что тут же за
столом сидит представитель противной стороны, они кричали, вырывали письма
из рук друг друга, приплясывали.
Полковник Виц хмуро наблюдал за ними, но не стал призывать к порядку.
Наконец офицеры отошли от стола, приткнулись кто где мог и начали читать
письма.
— Отнесите солдатские письма, — приказал полковник ординарцу.
«Гранаты попадают в цель», — подумал Тряпицын, выпил чашку чая и
поднялся из-за стола. Полковник взглянул на него и, не говоря ни слова, сам
подал ему маузер. Тряпицын пошел к двери, его опередил молодой поручик,
подал полушубок, шапку.
— До скорой встречи, — сказал Тряпицын и вышел из избы.
Об этой встрече командующего партизанской армией Якова Тряпицына с
полковником Вице рассказывал партизанам каждый перебежчик и каждый добавлял
от себя. История эта обрастала всякими неожиданными и невероятными
подробностями. Рассказав об этой встрече, солдаты вытаскивали письма
родственников и показывали партизанским командирам. В этих письмах
родственники сообщали, что такой-то и такой-то вернулся домой, он
добровольно сдался красным, и те его не расстреляли, отпустили домой; а
такой-то и такой добровольно перешел на сторону партизан, жив, здоров.
Глотов, которому показал письма один из перебежчиков, с недоверием
вертел лист тетрадной бумаги и не верил, что оно могло попасть солдату. Но
на конверте красовались почтовые штемпеля, лучшее доказательство надежности
рассказа солдата.
— Дела белых плохи, — сказал Павел Григорьевич Богдану. — Если такие
письма проникают в гущу солдат, то они действуют на их умы почище всякой
отрады. Эти письма отрезвляют солдат, они лучшие агитаторы за нашу правду.
Сегодня, завтра белые сдадутся.
Павел Григорьевич не ошибся. На следующий день в Мариинске внезапно
поднялась перестрелка и вскоре так же внезапно прекратилась. Как потом
выяснилось, это казаки поднялись против атамана и его подручных и
перестреляли их.
Партизаны с двух сторон одновременно вошли в Мариинск, захватили штаб,
но полковника уже не было в штабе, он с офицерами и небольшим отрядом солдат
бежал на Татарское побережье через озеро Кизи. По всем предположениям
полковник бежал в Де-Кастри.
— Эх, Мизин, Мизин, перекрыть надо было эту дорогу, — сказал Тряпицын
при встрече с Даниилом Мизиным.
— Мы перекрыли оба русла Амура, — ответил Мизин. — Об озере Кизи не
подумали, да и людей не хватало. Простор-то какой.
— Простор, простор, а полковник Виц ускользнул от нас.
— Куда ему бежать, — сказал Глотов, присутствовавший при разговоре. —
Всюду глубокий снег, а они на лошадях, да две-три нарты всего.
— Все это правильно, — недовольно перебил Тряпицын. — Но полковника
надо догнать и уничтожить отряд, мы не должны за собой оставлять тлеющие
угольки. Послать за полковником лыжный отряд.
Даниил Мизин взглянул на Глотова.
— Пожалуй, отряду товарища Глотова поручим, — сказал Мизин.
— Согласен. Задание такое: догнать и уничтожить отряд полковника
Вица, — голос Тряпицына прозвучал высоко и требовательно.
— Есть, товарищ Тряпицын! — ответил Глотов и вышел из штаба.
В дверях он столкнулся с человеком в волчьей дохе и меховой. Человек
стремительно прошел в штаб. Павел Григорьевич встретился на улице с Богданом
и Кирбой. Молодые партизаны оживленно разговаривали, но при приближении
Глотова замолчали.
— Чего замолкли? — спросил Павел Григорьевич. — Секреты какие?
— Нет секретов, — ответил Кирба. — Я сейчас искал софийского
торговца, который меня обманул, но не нашел.
— Присоединяйся к нам, мы идем вдогонку за полковником Вицем, —
предложил Глотов.
Кирба прищурился, зачем-то похлопал по кобуре нагана, подумал и ответил:
— Не могу, товарищ командир, у меня есть свой отряд, я с ним
подружился. Чего буду бегать за этим торговцем, вы сами с ним расправитесь.
А я хочу посмотреть Амур, села большие и город Николаевск.
— Ну что же, твоя воля, храбрый разведчик, — сказал Глотов.
Время подходило к полудню. На улице поднималась пурга, сильный ветер
закрутил поземку, зашвырял отвердевшими зернами снега в окно. Вернулись
Федор Орлов и Тихон Ложкин. Услышав о завтрашнем походе на Де-Кастри, Орлов
свистнул и сказал:
— Товарищ Глотов, как встал в ряды партизан, никогда не нарушал
дисциплины, не перечил командирам, но сейчас я не могу подчиниться этому
приказу. Отпусти, ради бога, из отряда, я хочу драться здесь, на Амуре.
— Ладно, поговорю в штабе, действительно, может, придется оставить
часть людей.
Пиапон осуждающе смотрел на повеселевшего Федора Орлова, он привык к
нему, любил слушать его рассказы о боях с белогвардейцами, рассуждения о
житье-бытье, и было ему жалко расставаться с ним. Война есть война, на войне
все держится очень зыбко, даже дружба. Хочет Орлов сражаться на Амуре, хочет
освобождать Николаевск, и он уже позабыл о товарищах, с которыми прошел
четверть Амура, спал рядом, ел из одного котла, пил из одного чайника. Он
уйдет в другой отряд, подружится с другими партизанами и не вспомнит о
лыжниках, о Пиапоне. А Пиапон привязчивый человек, если человек однажды
понравился ему, он будет ему нравиться всю жизнь. А Орлов так легко покидает
отряд, друзей только потому, что хочется ему Николаевск освобождать.
Вслух Пиапон не успел высказать своей обиды Орлову, в это время
вернулись Дяпа с Калпе, а с ними вместе пришел доктор Харапай.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Мысль об организации своего партизанского лыжного отряда возникла в
голове Кирбы Перменка мгновенно. Послушал он рассказ Богдана о переходе
лыжного отряда Глотова, о дружбе Пиапона и Орлова, о симпатиях Богдана к
своему бывшему учителю, а теперь командиру Павлу Глотову, и вдруг заявил:
— Богдан, а что если мы свой лыжный отряд организуем? Вот здорово!
Хорошая мысль посетила мою голову. Давай соберем свой нанайский отряд.
— Почему только нанайский? А если русские придут, ты что, не возьмешь
их?
— Можно взять, — неуверенно ответил Кирба.
— А если ульч, ороч, нивх, негидалец придет, тоже не примешь?
— Их надо принять, обязательно надо принять!
— Пойдем к Якову, поговорим с ним.
Кирба с Богданом побывали в штабе, поговорили с Тряпицыным. Командующий
похвалил юношей, спросил, наберут ли они нанай, орочей, ульчей, негидальцев,
нивхов на лыжный отряд. Кирба заверил его, что соберут даже на два отряда,
при этом он упомянул нанай отряда Глотова, но командующий возразил, ответил,
что отряд Глотова получил уже задание и завтра утром выходит вдогонку за
полковником Вицем.
— Зачем создавать чисто гольдский отряд? — сказал Даниил Мизин. —
Надо создавать смешанные отряды, надо укреплять дружбу амурских народов с
русскими, в боях закрепится эта дружба.
Тряпицын, казалось, тоже сомневался в необходимости чисто национального
лыжного отряда, но, услышав возражения Мизина, он резко ответил:
— Амурские народы сражаются за свое счастье! Не будем им ставить
мелкие, никчемные преграды. Хотят они организовать свой отряд, пусть
организовывают. Мы их знаем, как прекрасных лыжников, метких стрелков. Пусть
будет гольдский лыжный отряд! Кирба, я тебя знаю, ты храбрый человек,
назначаю я тебя командиром отряда! Собери здесь сколько найдешь земляков и
уходи в Богородск, там организовывай отряд. Почему там? Рядом ульчские
стойбища находятся, лыжи можешь у них достать. Ну, счастливого пути, товарищ
командир!
Так было получено разрешение командующего. Кирба с Богданом вышли из
штаба, обнялись и дали клятву, что будут сражаться храбро, как Тряпицын
будут беспощадно бить белогвардейцев и японцев.
— Ты будешь комиссаром! — тут же заявил Кирба.
Это был первый приказ первого нанай-командира.
— Ты сперва собери отряд, — засмеялся Богдан, и друзья расстались,
договорившись о встрече вечером. Богдан побежал на край села, где
расположился в нескольких избах лыжный отряд Глотова. Но чем ближе он
подходил к покосившимся крестьянским избам, тем тяжелее становилось ему
передвигать ноги, радость, только что переполнявшая его, испарилась, как
капля соды испаряется под жгучим солнцем. Богдан остановился и задумался.
«Что скажет дед Пиапон, услышав о его решении? А дядя Токто? Может,
войдут в отряд Кирбы, чтобы не разлучаться? А Павел?»
Было много тревожных вопросов, решить которые Богдан не мог. Он постоял
немного и твердо зашагал к избе, где остановились Пиапон с братьями и
друзьями.
Открыв дверь, он встретился с доктором Харапаем и был вдвойне рад этой
встрече, потому что давно мечтал о ней, о знакомстве с человеком, который
спас его родителей, дал ему имя, а теперь он должен был отвести от него
удар.
Разговор с Пиапоном, Токто, Калпе и Дяпа был отложен до ухода доктора
Харапая, но сколько ни тяни, разговор должен был состояться. И он состоялся.
Богдану до сих пор тяжело вспоминать об этом. Чтобы отвлечься от этих
воспоминаний, Богдан всячески избегал одиночества, старался быть всегда с
партизанами, рядом с Кирбой, который уже вошел в роль командира отряда. Он
помогал партизанам оснащать лыжи, подгонять по обуви крепления лыж. Потом,
согласовав с Кирбой, стал составлять список отряда.
Первыми в список были занесены Кирба и его земляки с Дубового мыса и
Сакачи-Аляна.
Всего в отряде насчитывалось около тридцати нанай, многие из которых
воевали в отряде Бойко-Павлова по году, по полтора года.
Это были опытные охотники, стреляные партизаны, прошедшие с боями от
Хабаровска до Богородска, им предстоял еще путь до Амурского лимана.
О лыжном нанайском отряде Кирбы узнали нанаи и ульчи соседних стойбищ и
приходили записываться к Богдану. Прежде чем принять кого-либо в отряд,
Кирба с Богданом беседовали с ним, расспрашивали, откуда он, как живет,
большая ли семья и почему решил идти в партизаны. Последний вопрос Богдан
задавал в конце беседы, он и командир отряда придавали большое значение
ответам на этот вопрос, оба они понимали, хотя и интуитивно, что от ясного
представления партизанами конечной цели народной войны с белогвардейцами и
японцами, во многом зависит боеспособность лыжного отряда.
— Если все до одного партизана будут знать, за что мы воюем, то мы
быстро уничтожим белых и японцев, — повторял Кирба.
Но многие охотники и нанай, и ульчи не имели ясного представления,
почему и за что идет война между красными и белыми. Один старый охотник
ответил Богдану так:
— Почему воюют? Как почему? Ты разве не знаешь? — Старик осуждающе
посмотрел на комиссара лыжного отряда и, понизив голос, добавил: — Русский
народ рассудок потерял, вот почему война.
Богдан улыбнулся и спросил, почему же тогда он, не потерявший рассудка
охотник, идет на войну.
— Как зачем? Говорят, если партизаны отбивают у белых муку, крупу, то
все забирают себе. Теперь трудно с едой, нигде ничего не достанешь, вот я и
решил на войне достать муку и крупу.
Богдан с Кирбой долго отговаривали старика не идти в лыжный отряд,
потому что лыжники постоянно будут находиться в походах, отдыхать им будет
некогда, да собирать оставленные белыми обозы они не смогут, потому что им
некогда будет с ними возиться, да и тяжело возиться. Старик не собирался
отступать, он ответил, что будет в отряде до первого боя, как только
партизаны отобьют у белых муку и крупу, он вернется домой. Кирба ответил,
что не примет старика в отряд. Старый охотник разгневался и сказал, что сам
теперь не запишется в отряд, где командиром такой сосунок, который потерял
всякое уважение к седым старикам, который забыл простые таежные законы.
Повстречался Богдану и другой охотник, который тоже шел в лыжный отряд
из личных интересов. Он пришел к Богдану в изодранном халате, без оружия и
сказал, что согласен воевать с белыми, если его красные оденут в хорошую
одежду. Это был бедный бессемейный, бездомный одинокий охотник, которому не
о ком было беспокоиться, некого кормить и одевать, и потому он был беспечен,
беззаботен и крайне легкомыслен.
— Ты на войну идешь, чтобы только теплее одеться?
— Да. Потом там можно каждый день сытно есть.
— На войне убивают.
— Знаю, не маленький. Хоть перед смертью хорошо оденусь, и желудок
всегда будет наполнен.
— А ты знаешь, мы ведь за это воюем, — сказал Богдан. — Чтобы после
победы сделать нашу жизнь такой, когда люди будут всегда одеты хорошо, сыты
каждый день. Вот за что мы воюем.
— За это я согласен воевать, только когда это придет такая жизнь?
— После победы над белыми и японцами.
— Пиши меня в отряд.
— Без оружия мы не принимаем в отряд, берем только тех, кто приходит с
оружием и с лыжами.
— Пиши, я достану себе оружие и лыжи.
Пришли в отряд несколько ульчей, и только один Потап Чируль был вооружен
современным винчестером, у остальных — старые дробовики с перемотанными
проволокой прикладами, древние кремниевые ружья, которые заряжались с дула.
У этих охотников белогвардейцы отобрали ружья, и они шли за красных, чтобы
отобрать свои ружья у белых. С реки Амгунь явились два негидальца Николай
Семенов и Кешка Сережкин.
— Почему решили стать партизанами?
— Чтобы помочь русским братьям, — ответили негидальцы. — Когда мы в
тайге были, наши друзья в отряд Тряпицына ушли, мы узнали об этом и сразу
сюда. Нам надо красным помочь, они богатых уничтожать будут, а вместе с ними
уничтожат и хитрых торговцев. А как они уничтожат богатых и хитрых людей,
так наступит новая хорошая жизнь. Чем быстрее победят красные, тем лучше,
потому и пришли помогать.
Лыжный отряд Кирбы был сформирован, снаряжен, командир торопился, ему не
терпелось попасть в район действия других лыжных отрядов партизан. Кирба
вызвал ульчей, знающих низовья Амура, посоветовался, как укоротить путь к
Николаевску, и распорядился, чтобы все лыжники были готовы к походу; отряд
выступал из Богородска.
Богдан собрал все вещи в котомку, бумаги зашил во внутренний карман
халата и решил пораньше лечь спать, чтобы отдохнуть перед походом. Он
поужинал и сел у окна выкурить трубку. Ночь еще не зачернила окна, на белом
снегу все предметы виднелись отчетливо. Богдан заметил перед окном человека
с тощей котомкой, с оружием за плечами. Человек снял лыжи. Богдан заметил,
что лыжи заклеены камусом, и подумал: «Этот человек возвратился из тайги. По
амурскому твердому снегу не стал бы он зря елозить камус».
Человек вошел в избу, поздоровался. Он был среднего роста в изодранной
меховой шапке, в старом, весь в заплатках, сером суконном халате, на
ногах — олочи из сыромятной лосиной кожи.
— Мне сказали, сюда прийти, — сказал вошедший. — Тут в партизаны
принимают?
— Тут, — ответил Богдан и подошел к гостю. — Откуда ты и кто?
— Из Тумнипа, охотник я, ороч, — гость снял берданку из-за спины,
прислонил к стене, котомку положил рядом.
Богдану показалось, что с этим человеком он когда-то встречался. Он
видел где-то его лицо, эти горящие глаза, слышал его голос. Но где? Богдан
напрягал память, но так и не смог вспомнить.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Акунка Кондо.
«Акунка!» Богдан вспомнил ороча. Акунка! Это тот самый больной ороч,
который несколько дней лежал в зимнике Пиапона, это он выпрашивал у Богдана
фасоль, предлагал соболя за одну фасолину.
— Я на Тумнипе узнал, что красные уничтожают богатых и жестоких
торговцев. Я пришел сюда, чтобы отомстить одному человеку.
— Кто этот человек?
— Хитрый и злой торговец, он сделал нас, всех орочей, бедняками. Я
пришел сюда, чтобы убить его.
— Как его имя?
— Имя его Американ!
Богдан вздрогнул от неожиданности.
Акунка уставился своими лихорадочно блестящими глазами на Богдана и
спросил:
— Ты его знаешь?
— Да. Я его знаю и тебя знаю. Ты несколько дней в нашем зимнике жил, ты
больной был.
Акунка не спускал глаз с Богдана.
— Это у Пиапона? — неуверенно спросил он.
— Да.
— Ты мне тогда дал горсть фасоли, ты был кашеваром. Вот встретились, а?
Где Пиапон, как его здоровье? Я его никогда не забывал. Разве можно забыть
такого человека!
— Дед за полковником Вицем на Де-Кастри ушел.
— Это совсем близко от нас! Вот бы мне встретиться с ним, как хорошо
было бы, как радостно стало бы!
Богдан распорол карман, вытащил бумагу и записал нового партизана —
Акунка Кондо с реки Тумнип. Потом он накормил Акунку, и они улеглись спать.
Богдан задремал, когда вернулся Кирба. Кирба быстро разделся и лег рядом с
Богданом, обнял его, зажал мускулистыми руками и прошептал:
— Ты знаешь какая она хорошая! Самая, самая красивая девушка на всем
Амуре. Я женюсь на ней. Слышишь, Богдан, я женюсь! Уничтожим белых и
японцев, и я женюсь. Мы уже все обговорили, я договорился с ее родителями.
Когда будем возвращаться, я заберу ее с собой.
— Что-то очень уж скоро все получается у тебя, — сказал Богдан.
— Ничего не скоро! Два дня — это разве скоро? Мы как увидели друг
друга, так сразу влюбились. Понял? А ты говоришь скоро. Вот скорее бы
уничтожить белых и японцев — это было бы хорошо.
— К нам записался один ороч, мой знакомый. Давай спать, завтра рано
выступать, — сказал Богдан и отвернулся от друга.
Ночью Богдан проснулся от скрипа дверных петель. Кто-то вошел в избу и
забормотал, что охотники в такое время чай пьют, а партизаны почему-то спят.
Богдан узнал Акунку. Он встал, вышел на улицу и убедился, что утренняя
звезда вышла на свой дозор. Когда он вошел в избу, в избе горела лампа, в
печи потрескивали поленья. Партизаны сидели, покуривая трубки.
Богдан сел рядом с Кирбой.
— Тебе надо заиметь часы, — сказал он Кирбе.
— Зачем они? Всякий зверь в тайге знает, когда вставать, когда ложиться
спать, а мы люди, лучше их знаем. Солнце есть, звезды есть — зачем часы?
— Все командиры имеют часы, все они по часам команды подают.
Кирба задумался. Он тоже видел у всех командиров часы, однажды видел,
как Тряпицын сверял часы с Мизиным. Верно говорит Богдан, командиру без
часов вроде бы нехорошо, у кого не достает чего-то командирского.
Кирба представил, как он достает из внутреннего кармана большие часы с
цепочкой, смотрит на них и говорит: «Через час выходим из Богородска». На
него смотрят партизаны, и все кивают головами, все соглашаются, хотя никто
не знает, сколько им ждать этого часа, какой путь проходит звезда за этот
час.
Выкурив трубки, партизаны попили чай, собрались по-охотничьи скоро и
вышли в поход. Впереди отряда шел Потап Чируль.
Утренний жесткий мороз щипал щеки, нос, поднявшийся верховик гнался за
лыжниками, подталкивал в спину. Было совсем еще темно, но привычные к ней
охотники видели окружающие торосы, чернеющие вдали тальниковые острова. А
Потап Черуль в этих местах мог вести отряд с завязанными глазами.
Верховой ветер усиливался, партизаны с тревогой поглядывали на небо, все
поняли, что надвигается пурга. Жестокая зима выдалась нынче, редкие дни
выглядывало маленькое желтое солнце, больше оно скрывалось за черными
снежными тучами. Шел беспрерывный снег, потом поднимался ветер, крутил
пушистый снег, мел в овраги, в прибрежные кручи и засыпал их. Острова на
Амуре исчезли под снегом, кустарники погребены под сугробами, из-под снега
торчат верхушки тальников.
Лыжный отряд Кирбы, сокращая путь, шел к Николаевску. Когда закрутила
пурга на Амуре, отряд ушел в тайгу, под вековые кедрачи, и продолжал путь.
Родная тайга укрыла их от пурги. Ночевали они под густыми кедрами, постелью
им был мягкий снег, одеялом черная ночь. Так они не одну ночь ночевали в
тайге, когда гнались за ловким и хитрым соболем.
На второй день разведчики, шедшие впереди отряда, заметили в тайге
костры. Сообщили командиру. Кирба с Потапом Черулем подкрались поближе к
кострам и наблюдали за людьми, гревшимися у огня. По всем признакам, это
были партизаны, один из лыжных отрядов.
— Я выйду к ним, наши пусть на всякий случай под прицел возьмут их, —
сказал Кирба.
— Ты командир, тебе нельзя рисковать, — сказал Черуль. — Лучше я
пойду.
— Яков Тряпицын всегда один выходит к белым, — ответил Кирба и,
поднявшись на ноги, скатился к кострам.
— Стой! Кто ты? — окликнули его караульные.
— А вы кто? — выкрикнул Кирба.
К нему приблизились два бородача с берданками наперевес. Поднялись
другие, схватились за ружья.
— Мы партизаны, — ответил один из бородачей.
— Мы тоже партизаны, — сказал Кирба. — Кто ваш командир?
Партизаны повели Кирбу к костру. Навстречу им встал среднего роста
русский, с рыжеватой бородкой, с маузером на боку.
— Кто такой? — спросил он сиплым, простуженным голосом.
— Командир лыжного отряда гольдов!
— Документы есть?
— Вот документы, — Кирба поднял в левой руке берданку и похлопал
правой по кобуре.
Командир партизан усмехнулся.
— У всех есть такие документы. Бумагу тебе дали в штабе?
— Зачем мне бумаги? Мне Тряпицын сказал, ты командир. Этого тебе мало?
Сам Тряпицын сказал слово. Мало?
Или имя Тряпицына подействовало на партизанского командира, или он
поверил Кирбе, но он улыбнулся и сказал:
— Где твой отряд? Почему никого нет с тобой?
— А ты почему не показываешь бумаги? — спросил Кирба. — У тебя есть
бумага, что ты командир?
Рыжебородый расстегнул полушубок, вытащил бумагу и протянул Кирбе. Кирба
не умел читать, но не растерялся, позвал Богдана.
— Это комиссар, — представил Кирба Богдана.
Богдан поздоровался с рыжебородым, прочел с трудом бумагу,
удостоверяющую личность командира отряда русских лыжников.
— Все верно, — сказал он, возвращая бумагу. — У нас нет такой бумаги,
потому что мы из Богородска вышли, а штаб находятся в Мариинске.
Без разрешения командира Чируль вышел из-за укрытия и подошел к
разговаривающим.
— Ты чево, Колька? Почему гольдам, ульчам не стал верить? — набросился
он на рыжебородого.
Тот тоже узнал Черуля и засмеялся.
— Это ты, Черуль! Мать честная, ты тоже в партизаны пошел?
— А я чо, рыжий?
Кирба позвал своих лыжников, и те ловко скатились вниз, остановились
возле костров, под одобрительный гул партизан.
Партизаны повесили котелки, чайники над кострами и вскоре пили
обжигающий, ароматный чай, угощали друг друга тем, что нашлось в котомках, в
заплечных мешках. Русские лыжники рассказывали, как они сделали засаду под
Денисовкой и уничтожили отряд белых, спешивших в Мариинск на помощь
полковнику Вице, нанай вспоминали, как они освободили Мариинск. Много
нашлось соседей, многие нанай и русские жили совсем рядом, их разделяли
какие-нибудь пятьдесять-шестьдесят верст, охотились они в одной тайге, возле
такой-то реки. Нашлись и общие знакомые, знаменитые охотники.
Обо всем говорили русские и нанайские партизаны, бывалые таежники.
Привыкли они вести неторопливые разговоры у костра в тайге, за кружкой
обжигающего чая. И командиры тут же делились своими планами, у них не было
никаких секретов, потому что они выполняли один общий приказ командующего —
бить врага везде и всюду, где только он встретится.
Выкурив трубки после чая, партизаны расстались. Кирба повел отряд на
правобережье Амура к лиману, где хозяйничали белогвардейские и японские
отряды. Командир спешил — ему необходимо быстрее победить белых и японцев,
его в Богородске ждала невеста. Спешил и Акунка Кондо — ему не терпелось
увидеть Американа-тайменя, выброшенным на песок, спешили и ульчи с
кремниевыми ружьями, чтобы заменить свое старье новыми боевыми винтовками,
спешил и Богдан с остальными лыжниками, им хотелось скорее возвратиться
домой и приняться за привычное дело — за рыбную ловлю и охоту. А еще они
хотели, чтобы скорее наступила новая жизнь. Любопытно всем было взглянуть на
эту новую жизнь.
Отряд вышел к деревне Касьяновке. Разведчики доложили, что в деревне все
спокойно, нет ни белых, ни японцев. Партизаны вошли в деревню, расположились
в избах, выставили караульных, впервые за несколько дней сняли с себя
верхние суконные и меховые халаты, остались в одних нижних халатах и
наслаждались теплом. Хозяин избы, где остановились Богдан с Кирбой, даже
предложил баню, но партизаны отказались, они никогда еще не мылись в русской
бане.
— Нет, мы зимой не моемся, — ответил Кирба.
— Ваша воля, мое дело — предложить, — обиделся гостеприимный хозяин.
Хозяйка готовила на печи что-то вкусное, аппетитный запах щекотал
ноздри. Но попробовать это угощение партизаны не успели. Часовой привел к
Кирбе нивха, который назвался Кайнытом, сообщил, что к селу скоро придет
японский отряд, что партизанам надо скрыться в тайге.
— Зачем скрываться? Мы воевать пришли, — сказал Кирба. — Много
японцев?
— Много. Четыре лошади, четыре сани, за санями японцы прыгают.
— Как прыгают? Почему прыгают?
— Не знаю. Может, радуются, может, выпили, кто их знает?
— Оне мерзнут, оне нашего мороза не терпят, — сказал хозяин.
Кирба распорядился приготовиться к бою. Партизаны тут же оделись, встали
на лыжи и побежали навстречу японскому отряду. Сразу за селом Кирба устроил
засаду. Место он выбрал удачное, дорога здесь пролегала по ровному,
обметанному ветрами льду. Партизаны засели за деревьями, за пнями, окопались
в снегу.
— Черуль, ты обойдешь японцев сзади, пропустишь их в наш загон, обратно
ни одного не выпускай, — приказал командир Потапу Черулю.
— Я что, не охотник! — возмутился Черуль. — Будто зверей не
подкарауливал. Чего ты учишь меня?
Чируль с отрядом скрылся за деревьями.
— Добрый человек, только ворчливый, — сказал Кирба Богдану.
— Почему ты меня не послал в обход? — спросил Богдан.
— Ты комиссар, зачем тебе ходить в обход?
— А что делает комиссар в отряде?
— Ты сам должен знать, ты комиссар.
— Я не знаю.
— А я откуда должен знать? Я никогда не был комиссаром, да и слово
такое услышал только у партизан. Надо было тебе у русских узнать, что тебе
делать. Я думаю, ты должен быть рядом со мной, советовать мне, читать и
писать бумаги.
Богдан согласился с другом, конечно, он должен быть рядом с Кирбой,
охранять его, выполнять его распоряжения. Особенно в бою он необходим
командиру.
На дороге показались лошади с розвальнями, за ними шли японские солдаты,
уткнув лица в собачьи воротники. Кайныт не приврал — на самом деле многие
солдаты прыгали, размахивали руками, хлопали себя в бока. Богдан сосчитал
тридцать два солдата. Лошади медленно приближались к засаде. В розвальнях
лежали мешки, ящики.
— Надо отсечь солдат от саней, — проговорил Кирба. — Видишь, только
на первых санях сидит один солдат, на других нет никого. Я буду стрелять в
этого сидящего, а за мной пусть все стреляют в солдат. Чтобы ни один солдат
не сел в сани.
Богдан передал приказ командира по цепи, лег поудобнее и приготовился
стрелять. Лошади подходили все ближе и ближе, поравнялись с Богданом, прошли
чуть вперед. Богдан сжался в комок, он не ощущал мороза, ветра и лицо — он
ждал сигнального выстрела Кирбы. Выстрел прозвучал так неожиданно и громко,
что он вздрогнул и нажал на спусковой крючок. Лошади испуганно заржали и
шарахнулись в разные стороны. С первых саней шаром скатился солдат под ноги
второй лошади, лошадь взвилась вверх, сломала оглобли, сани перевернулись и
стали поперек дороги. Богдан прицелился в первого бегущего, выстрелил, и
солдат серым клубком покатился с дороги. Когда лошади ускакали, солдаты
пришли в себя, легли на твердый, обласканный ветрами лед и открыли
беспорядочную стрельбу.
«Куда вы денетесь?» — подумал Богдан, стреляя в отползавшего от дороги
солдата. Японец дернулся и неподвижно застыл. Солдаты поползли назад,
надеясь схорониться за сугробами. Совсем немного им отползти, всего шагов
пятьдесят-шестьдесят. Но никто до спасательных сугробов не дополз, один за
другим они вытянулись на полпути...
В этот день партизаны собрали богатый трофеи, больше половины лыжников
заменили старенькие берданки на новые японские «арисаки», тощие котомки и
заплечные мешки набили продовольствием, консервами, сотнями патронов к
«арисаки». У убитого офицера партизаны обнаружили часы, бинокль, револьвер и
все передали своему командиру. Кирба спрятал часы в кардан, повесил на груди
бинокль. Партизаны удовлетворенно закивали головами.
— Теперь ты, Кирба, настоящий командир, — сказали они. — Как Тряпицын
или Мизин.
Кирба, довольный, улыбался, он и не старался скрывать своей радости. Он
повертел в руке револьвер японского офицера, выстрелил раз и отдал Богдану.
— Ты комиссар, должен носить такое оружие, — сказал он.
Богдан принял оружие, пересчитал патроны. Потом он пересчитал
партизан — все были налицо, ни один лыжник не получил даже царапины.
Вдруг Богдан заметил того охотника, который явился к нему в Богородск и
потребовал теплой одежды. Охотник принарядился в теплую, обшитую изнутри
мехом, японскую шубу. Другие охотники осуждающе смотрели на него и
сторонились.
— С мертвого снял, разве так нанай делает? — говорили они.
— Что мне делать, если мне холодно? — огрызался охотник.
— Пересилить холод надо, терпеть надо. С мертвого грех снимать одежду,
ему самому одежда понадобится в буни, он там будет замерзать.
— Сами у них отобрали винтовки, это ничего?
— Это ничего, у них надо винтовки отбирать, тогда они в буни не будут
воевать. Понимать надо что к чему.
Богдану было жалко охотника, он видел, как корчился тот возле костра,
когда отряд ночевал в тайге, под открытым небом. Богдан предложил желающим
надеть японские шубы, но никто не захотел притронуться к мертвым солдатам и
к их шубам. Но к счастью комиссара, в розвальнях, в одном из мешков нашли
несколько новых шуб, и Богдан роздал их особо нуждающимся.
Когда отряд Кирбы вернулся с победой в Касьяновку, крестьяне встретили
их более восторженно, чем в первый раз. Кирба отдал крестьянам лошадей,
сани, продовольствие. Оружие и боеприпасы лыжники припрятали в надежном
мосте.
Командир щедро одарил нивха Кайныта, и тот заявил, что тоже становится
партизаном, хочет отомстить японцам, но за что он собирался мстить,
партизаны так и не узнали. Кайныт прекрасно знал низовья Амура, лиман и
заменил Потапа Чируля, который хуже его был знаком с этими местами.
— Надо в Квакинскую бухту идти, — сказал Кайныт, — там, наши рыбаки
говорят, есть белые и японцы.
— Веди туда, — приказал Кирба.
Первая победа, доставшаяся без особых хлопот, без потерь, окрылила
лыжников, война с японцами, которые пляшут и прыгают от мороза, казалась им
не опасным делом, потому что, как они знали по себе, окоченевший от холода
стрелок никогда не попадет в цель.
На Квакинской бухте лыжники повстречали другой японский отряд, он же
вовремя заметил партизан и занял удобную позицию. Партизаны вскоре
убедились, что пляшущие от мороза японцы не такие уж плохие стрелки. У
некоторых партизан пули японцев продырявили новые шубы, двоих ранили.
Кирба с Богданом не хотели рисковать. Командир приказал не продвигаться
дальше, всем оставаться на местах и стрелять только тогда, когда японцы
зашевелятся. Но японскому отряду некуда было отступать: за ними широко и
раздольно белели снега.
— Так они скоро в лед превратятся, — сказал Богдан.
— Пусть превращаются в лед, — ответил Кирба. — А мне тоже холодно,
как бы не обморозиться.
С японской стороны поднялся солдат, но тут же прозвучал со стороны
партизан выстрел, и солдат исчез за сугробом. Потом показался другой и тоже
упал после выстрела.
— Зашевелились, — сказал Кирба. — Не хотят в лед превратиться.
Прошло еще немного времени, и со стороны японцев щелкнул выстрел. Кто-то
поднял винтовку, на дуле которой висел белый платок.
— Что это такое? — спросил Кирба.
— Не знаю, — ответил Богдан.
— Обожди, они что-то кричат, — сказал Кирба. — Эй, партизаны! Не
стреляйте, послушайте, что они кричат!
Лыжники примолкли. Со стороны японцев продолжали кричать.
Кирба приказал больше не стрелять. Приказ командира передали по цепи.
— Это, видно, какай-то знак, русские бы сразу поняли, что хотят
японцы, — бормотал Богдан.
— Давай мы тоже поднимем белую материю, — предложил Кирба. —
Посмотрим, что из этого получится.
У Богдана не было ни клочка белого материала, у Кирбы тоже не оказалось.
Спросили соседей — они тоже не нашли. Тогда Кирба привязал какую-то черную
тряпицу к винтовке, поднял ее и помахал. Японцы не отвечали, но и не
отпускали свой белый флаг. Кирба выстрелил вверх. Японцы не ответили.
— Они все померзли, — сказал он. — Я пойду посмотрю, что с ними.
— Тебе нельзя идти, — возразил Богдан. — Я пойду.
— Нет, Яков Тряпицын всегда сам ходит, так положено, командир сам
должен идти на переговоры.
Кирба поднялся из-за ледяного укрытия и, проваливаясь в сугробах,
зашагал к японцам. Он шел неторопливо, гордо подняв голову. Богдан с
тревогой следил за другом, сжимая в руке винтовку. Японцы не показывались.
Кирба почти вплотную подошел к ним и вдруг упал. Богдан не слышал выстрела,
но ему показалось, что японцы убили командира. Но Кирба тут же вскочил на
ноги. Богдан облегченно вздохнул.
Кирба остановился. Из-за сугроба поднялся человек. Богдан до боли в
глазах напрягал зрение, но не мог разглядеть, с кем разговаривал Кирба.
Вслед за первым человеком поднялись другие и медленно побрели в сторону
партизан.
Когда они подошли, Богдан увидел среди японских солдат русского офицера.
Солдаты и русский офицер еле передвигали ноги. Партизаны обыскали их,
отобрали оружие, ножи. У офицера нашли какие-то бумаги и передали Богдану.
Лыжники повели их в тайгу, разожгли костер. Возле огня солдаты ожили,
заговорили. Партизаны вскипятили чай, предложили солдатам и русскому
офицеру.
— Куда шли? — спросил офицера Кирба.
— В Николаевск, — ответил белогвардеец.
— Есть еще здесь ваши отряды?
— Нет, все уходят в Николаевск и в крепость Чныррах.
Богдан развернул переданные ему офицерские бумаги и прочел: «Приказ.
Секретно».
— Это секретные документы, — сказал офицер, увидев в руках Богдана
штабные документы. — Я не стал их уничтожать, хотя и мог. Вас похвалят ваши
командиры, когда вы передадите.
— Наши командиры сами знают, — резко оборвал его Кирба. — Японцы
откуда шли?
— У них спрашивайте.
— Кто понимает по-русски?
Один из японцев поднялся и низко поклонился.
— Я понимай, я переводчика.
— Где еще есть японцы?
— Японсака нету. Японсака в Николаевска ушел. Наша тозе ходил туда, но
ваша эта досика на ногах...
— Что такое?
— Досика, досика, — японец показал на лыжи. — Оченно худо. Быстро
ходи. Снега монога, досика быстро ходи.
Охотникам, не понимавшим по-русски, перевели про «досика», и они
рассмеялись. Переводчик совсем согрелся, смех партизан подбодрил его, и он
рассказал, что все японские отряды из сел убегают в крепость Чныррах, в
форты рядом и в Николаевск.
Богдан с трудом прочитал одну страницу приказа и сказал Кирбе, что
документы надо немедленно передать в штаб. Кирба разрешил ему самому
доставить документы командующему, и Богдан, торопливо выпив чай, покинул
отряд.
На следующий день он пришел в Касьяновку, переполненную партизанами, и
встретился с Федором Орловым.
— Богдан, свет ненаглядный, откуда ты? — сказал Орлов, обнимая
Богдана.
— С Квакинской бухты, японцев бьем, — похвастался Богдан.
— Обожди, это не ваш отряд тут, под Касьяновской, разгромил японский
отряд?
— Мы, — улыбнулся Богдан.
— То-то, смотрю я, у тебя японский револьвер на боку. А я, брат, к ним
на переговоры отправляюсь. Парламентер я. Слышал такое слово?
— Нет, не слышал. Ты разве командир, чтобы переговоры вести?
— Переговоры от имени штаба фронта может вести каждый боец по поручению
командующего. Ясно?
— Не совсем ясно. Почему тогда Тряпицын сам ходил на переговоры?
— Тряпицын? Вот этого, брат, не знаю, меня тогда не было с ним рядом.
Ты спроси у него.
— Где он находится?
— Вон там, четвертый дом отсюда, — усмехнулся Орлов и удивился, когда
Богдан, не прощаясь, побежал к штабу.
Богдан вошел в штаб, но к командующему его не пустили.
«Раньше все заходили кому нужно было, теперь даже нужные ему документы
не передашь», — с обидой подумал Богдан.
На его счастье, от командующего вышел Даниил Мизин.
— Здравствуйте, товарищ Мизин!
— А, Богдан — беженец! — улыбнулся Мизин.
Богдан, быстро вытащив из кармана документы, протянул их Мизину.
— Это мы отобрали у белого офицера и сразу сюда...
Мизин, все еще улыбаясь, развернул бумагу, глаза его выхватили
напечатанные крупными буквами «Приказ» и гриф «секретно». Он пробежал
мельком по документу и устремился к двери, за которой находился Тряпицын.
Богдан выскочил из штаба, побежал к Орлову и застал его в кошевке: Орлов
прощался с друзьями и смеялся.
— Привет, ребятки, передам от вас япошкам!
— Ты посерьезней там говори! — наказывали партизаны.
— Ну, товарищ Сорокин, поехали! — крикнул Орлов и, увидев Богдана,
помахал ему рукой. — И от тебя передам привет японцам, только не скажу, что
ты их здорово бьешь.
Кошевка тронулась с места, лошадь лениво поскакала по протоптанной
тысячами ног дорого. Партизанский парламентер Федор Орлов отправился с
письмом штаба Николаевского фронта в город Николаевск. Богдан смотрел вслед
кошевке и не знал, что он последний раз видит Федора Орлова.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Лыжный отряд Глотова вышел из Мариинска по-охотничьи затемно. На озере
крутила поземка, жестокий мороз с ветром щипал щеки охотников. Многие
привычные к ветрам охотники были обцелованы морозом, коричневые пятна
клеймом красовались на их щеках, на кончиках носов.
Следы нарт полковника Вица замела поземка, оставила тут и там на
затвердевшем желто-коричневом снегу отпечатки собачьих лап и след полозьев
нарт. Охотники наклонились над следами, но никто не мог точно подсчитать,
сколько нарт в отряде полковника. Только Пиапон был совершенно безучастен ко
всему, что творилось вокруг: он думал о Богдане.
Тяжелое и грустное было расставание. Еще когда вечно занятый доктор
Харапай после продолжительного разговора — воспоминаний заспешил к своим
больным, обмороженным и раненым, Пиапон сказал Богдану:
— Ты не должен покидать нас. Когда охотники идут на медведя, они идут
своим родом, когда род идет войной на другой род, никто не покидает своих.
Ты не должен покинуть нас, мы идем на охоту на большого и страшного медведя.
К Пиапону тут же подсели Токто, Калпе, Дяпа.
Богдан потупил взгляд и тихо проговорил:
— Мы не на одного медведя идем, их много. Отряд, за которым вы пойдете,
еще не самый большой медведь.
— Какой бы он ни был, но ты не должен нас покидать.
— Я хочу повоевать...
— А мы с белыми потягаться на лыжах идем?! — рассердился Калпе.
— Нет, но...
— В снежки с полковником будем играть, — сказал Дяпа.
— Ты один будешь, тебя могут убить, — высказал Токто затаенную тревогу
за жизнь Богдана.
— Я не один, в Николаевск много нанай идут.
— Но ты будешь без нас, — сказал Пиапон.
— Оставайся, — сказал с грустью Токто. — Я тебя, как сына, люблю...
Богдан сидел с опущенной головой. Пиапон видел его торпоан (Торпоан —
белое пятно на макушке, откуда во все стороны расходятся волосы.), он
находился не как у всех на макушке, а правее и ниже к затылку. Пиапон в
детстве много раз ворошил волосы отца и всегда удивлялся такому необычному
расположению торпоана и, только став взрослым, узнал, что люди с таким
торпоаном всегда бывают волевые и упрямые, правда, никто не мог сказать,
чего при этом больше — упрямства или воли.
— Ты же знаешь, ты сейчас у всех у нас сердце ногтями царапаешь, —
воскликнул Калпе. — А больше всех у деда.
— Вы можете с нами в Николаевск идти, — наконец выдавил из себя
Богдан.
— Ты взрослый человек, все понимаешь, — сказал Токто. — Когда одна
собака в упряжке потянет в другую сторону, разве она может перетянуть всех
остальных?
«Нет, нам его не отговорить», — подумал Пиапон и отошел в сторону, где
Глотов беседовал с другими партизанами.
— Павел, ты отговори Богдана, может, он послушается тебя, — попросил
он.
Павел Григорьевич подумал и ответил:
— Ты знаешь, он встретился с другом своим Кирбой, а Кирба совершил
геройские поступки. Теперь ты понимаешь? Наш авторитет пошатнулся. Мы идем
за небольшим отрядом полковника, а они идут на армию, где генералы, где
японцы. Им куда интереснее, кроме всего этого, посмотреть на большие села,
на город Николаевск. А еще ко всему этому у них боевая дружба и молодость.
Ночь переспали рядом, как спали всю дорогу. Пиапон чувствовал себя
глубоко обиженным. Утром Калпе с Дяпой, не попрощавшись с Богданом, вышли
надевать лыжи. Пиапон долго завязывал мешок, а Токто, как никогда раньше,
раскуривал трубку. Опять молчали. Первым не выдержал Пиапон. Он подошел к
племяннику, обнял и поцеловал в обе щеки. Говорить он не мог, чувствовал,
если скажет слово, то голос выдаст его. Богдан всхлипнул и прошептал:
«Дедушка, ты же знаешь, я не могу по-другому. Мы встретимся, обязательно
встретимся». Пиапон прижал его еще крепче к груди и вышел. Вслед за ним
вышел Токто, что-то бормоча, Пиапон разобрал только одно слово:
«Неблагодарный».
Пиапона грызла обида, она глубоко где-то внутри его тела мышью засела в
уютном гнезде. Он обижался на племянника и в то же время оправдывал его.
— Ты о Богдане думаешь? — спросил Токто, пристраиваясь рядом.
— О нем. Всю душу вывернул, все болит.
— Упрямый, с малых лет упрямый.
— Самостоятельный.
— В большого деда пошел, он тоже редко кого слушался, все делал
по-своему.
— Пота с Идари мне наказывали беречь сына, а как теперь беречь?
— Я тоже об этом думаю, я ведь тоже не меньше забочусь.
Ветер усиливался, задымила поземка, постепенно закрывая дальний край
озера Кизи. Проводник-ульч уверенно вел отряд к поселку Кизи. Пиапон немного
отвлекся от мыслей о Богдане. Отвлекали его собаки, тащившие тяжелые нарты с
партизанским грузом. Они устали, высунули красные языки и дышали с хрипом.
Отряд замедлил движение, люди пришли на помощь собакам.
— А большое озеро, это Кизи, — говорил Токто, — как наше, Болонское.
Не бывал я в здешней тайге.
Собаки совсем обессилели, хватали на ходу снег. Сделали небольшой
привал. Лыжники сели на нарты, закурили. Рядом с Пиапоном сели Тихон Ложкин
и Фома Коровин.
— Зима ноне шибко сердитая, — сказал Фома.
— Отродясь не помню такую, — сказал Тихон, — Ты, Пиапон, помнишь
токую метельную зиму?
— Помню. Были такие, — ответил Пиапон.
— Энтот полковник не мог на лошадях-то, — сказал Фома.
— Да уж куда там, в тайге видел же какой снег, — сказал Тихон. —
Самые отъявленные головорезы бежали. Знают, собаки, пощады не будет.
Встренуть бы тех гадов, которые наше село Синду спалили.
— Смотри, Пиапон, кто-то едет, — сказал Токто, показывая рукой на
берег озера, куда шел лыжный отряд.
Партизаны примолкли, все смотрели на приближавшиеся две упряжки. Павел
Глотов наблюдал за ними в бинокль, когда упряжки подошли на расстояние
выстрела, он послал им навстречу двух партизан: одного русского, другого
ульча. Партизаны взяли винтовки на изготовку и медленно пошли вперед.
Упряжки остановились. Партизаны подошли к ним. Переговорили. Сели на нарты.
Когда они подъехали, все увидели четырех испуганных ульчей. Увидев среди
партизан своих, ульчи успокоились, заговорили.
— Нас попросили, обещали хорошо заплатить, — заявили они. — Среди них
был богатый торговец, очень богатый торговец из Софийска. Он обещал
заплатить.
Один из них развернул мешочек и высыпал на ладонь серебряные полтинники,
китайские юани, давно вышедшие из денежного обращения.
«И перед смертью даже обманывают», — подумал Глотов.
— Сколько всего белогвардейцев? — спросил он.
— Много. Может, пятьдесят, может, шестьдесят.
— Оружия у них много?
— Винтовка, наганы, бомбы есть.
— А пулемет есть?
— Какой пулемет? Снег большой, какой пулемет? Пулемет тяжелый, за один
пулемет два офицера могут сесть. Зачем пулемет, когда два офицера негде
садиться?
— Мы вас отпускаем, — сказал Глотов. — Хотя вы очень плохо поступили,
что помогли бежать полковнику и его отряду. Вы должны искупить свою вину
перед красными партизанами. Из Мариинска нам будут посылать продукты, вы
должны нам привозить их? Поняли?
— Поняли. Поняли, — закивали головами ульчи.
Ульчи распрощались и выехали в Мариинск. Отряд лыжников пошел на Кизи.
Пурга усиливалась, и отряд совсем замедлил движение. Партизаны держались
возле нарт, помогали собакам. Стало совсем темно, когда отряд добрался до
другого берега озера и укрылся в тайге.
Глотов послал вперед шестерых разведчиков. Когда отряд подходил к Кизи,
возвратился вестовой разведчиков Фома Коровин.
— Белых нет тама, охвицера арестовали, — сообщил он. — В кармане,
сукин сын, наган держал. А жинка ейная тоже сука, в волосах запрятала
маленькую пистоль, а в пистоле-то пять патронов.
Фома привел Глотова в дом, где арестовали офицера с женой. Павел
Григорьевич допросил офицера, тот подтвердил рассказ ульчей.
Партизаны в эту ночь не ложились спать, выставили посты и ждали
возвращения полковника Вица.
Утром на рассвете Пиапон с Тихоном вышли на свой пост. Пурга чуть
затихла, но ветер гулял в высоких кронах деревьев, деревья трещали, стонали.
Пиапон вспомнил пленного офицера, дрожащего, с бегающими глазами. Он
вечером присутствовал при его допросе, разглядывал его со всех сторон, но
это был незнакомый человек — своего мучителя Пиапон сразу, с одного
взгляда, узнал бы.
«Почему он отстал от своих, — гадал Пиапон. — Неужели из-за жены?
Может, он думает, что его пощадят».
Пиапон вспомнил, как партизаны разглядывали офицера, каждый искал своего
палача.
Тихон тоже думал про пленного.
— Сегодня его расстреляют, — сказал он.
Пиапон вспомнил, как расстреляли телеграфиста в Малмыже, и подумал, что
офицеру не хватит такого мужества, с каким телеграфист встретил смерть.
Офицер вечером на коленях ползал перед Глотовым, умолял оставить его в
живых.
Пиапон с отвращением смотрел на него, плюнул и вышел.
Отряд полковника Вица не возвратился в Кизи. Утром Глотов приказал
офицеру переговорить по телефону с Де-Кастри. Офицер долго и нервно крутил
ручку телефона. Из Де-Кастри наконец ответили. Офицер назвался.
— Большевики пришли в Кизи? — спросили из Де-Кастри.
— Н-нет, н-не пришли, — пробормотал офицер.
— Вы лжете, по голосу слышим.
В Де-Кастри повесили трубку. Офицер непонимающе глядел на телефонную
трубку и моргал глазами.
— Повесьте трубку, — приказал Глотов. — Товарищи, выступаем в
Де-Кастри?
— А что делать с ним? — спросил кто-то.
Глотов задумался. Ему не хотелось чинить самосуд. Он вспомнил о
невыполненном приказе командующего Бойко-Павлова в Малмыже, вспомнил смерть
комиссара Шерого, сожженные села, трупы расстрелянных и повешенных людей. Он
знал и настроение партизан, знал, что многие из них пришли в отряд из
чувства мести за растерзанных товарищей, изнасилованных жен и дочерей,
сожженные стойбища и села. Трудную задачу решал командир.
— Чего ты думаешь, командир? Ежели ты попался бы ему в лапы, он разве
стал раздумывать? В расход — и все, — сказал Тихон.
— Товарищи! Мы не имеем права расстреливать без суда, — сказал Глотов.
— Они без суда расстреливали, вешали!
— Так что же, по-вашему, нам, красным партизанам, уподобиться им?
— Командир! Ты почему жалеешь этого офицерика? Почему?
— Я не жалею! Вы понимаете различие, что такое жалость и что такое
справедливость? Мы воюем за справедливость!
— Ты слишком грамотный, командир! Если не разрешишь расстрелять, мы
другого командира выберем.
Это кричали синдинцы, односельчане Тихона Ложкина, самые храбрые, самые
злые партизаны. Павел Глотов и на этот раз должен был признаться, что не
может он влиять на партизан, что нет у него командирского авторитета, каким
пользовался Даниил Мизин.
Синдинцы расстреляли офицера, и отряд двинулся вперед.
Дорога от Кизи на Де-Кастри шла через густую северную тайгу. Пиапон с
Токто и группой разведчиков далеко опередили отряд. След отряда полковника
Вица припорошило свежим снегом. Разведчики шли по целине по обеим сторонам
тропы. Тайга была по-зимнему прекрасна, и Пиапон с Токто, как только вошли в
нее, так и позабыли об опасности, об отряде полковника Вица. Они
разглядывали следы зверей, птиц, делились вполголоса своими мыслями.
Встретились свежие следы северных оленей, они совсем недавно пересекли
тропу. Токто было не узнать, у него разгорелись глаза, раздулись ноздри, он
прыгал на месте и хлопал себя по бедрам.
— Ни одного оленя не убил, никогда не догонял их, — говорил он. — По
такому снегу их быстро можно догнать. А может, погнаться, а? Ведь свежее
мясо нужно нам, никто не откажется от свежего мяса.
Только теперь Пиапон опомнился.
— Нас вперед направили, чтобы других от опасности уберечь. Нельзя,
Токто, нельзя подводить товарищей. А что будет, если белые где устроили
засаду и наших перебьют? Что будет?
Токто снял шапку, почесал голову и, не говоря ни слова, зашагал дальше.
Тайга, родная тайга со всех сторон обступила своих сыновей, укрыла от врага,
спасла бы их от пуль, если бы пришлось им вступиться в перестрелку. Неуютно
чувствовали себя охотники на широкой озерной глади, но тут они
преобразились, дышали и не могли надышаться таежной хвоей. Здесь им знакомы
все деревья, никогда, может, здесь не ступала раньше их нога, но тайга
все-таки была родной и близкой...
Впереди возвышалась сопка. Пиапон с Токто взобрались на сопку, и перед
ними открылась широкая бухта, с множеством островов.
— Где-то тут мы настигнем их, — сказал Токто.
— Опять голое место, — сказал Пиапон. — Лучше воевать в тайге.
— Это верно. Может, они в этом селе? Вон, смотри правее.
Пиапон с Токто скатились с сопки, нашли оставленных разведчиков,
посовещались, как быть дальше. Разведчики решили подойти к поселку
Де-Кастри. Когда первые разведчики подошли к поселку, ветер усилился,
видимость стала плохая. Хорошо проглядывались только три больших дома:
старая, заброшенная казарма, почтовая контора и какое-то служебное здание.
Двое партизан пошли к крайнему домику и узнали, что белогвардейский отряд
еще утром ушел на маяк. Один из разведчиков побежал с этим известием
навстречу отряду.
Весь отряд поместился в двух домах. Партизаны выставили караульных и
расположились отдыхать.
За окнами выла и стонала пурга, поднялся такой ветер, что на ногах не
устоишь. С полночи пришлось караульным спрятаться в домах.
Пурга продолжалась два дня, и два дня партизаны изнывали от безделья, И
никто из них не знал, что им придется осаждать отряд полковника многие
томительные дни и ночи.
На третий день пурга утихла, и Глотов отчетливо увидел в бинокль маяк,
стоявший через бухту. Между маяком и поселком Де-Кастри находился другой
поселок — Круглое. Павел Григорьевич позвонил туда.
— У нас кругом тайга, потому нас обходят, — ответили из Круглого.
— Где находится отряд полковника Вица? — спросил Глотов.
— Мы не видели полковника, перед пургой мимо нас прошел какой-то отряд,
они ушли на маяк.
Павел Григорьевич повесил трубку и задумался.
— Осада крепости рыцарями, — проговорил он. — Средневековье, и все.
Товарищи, — обратился он к партизанам. — Ночью надо сходить в гости к
полковнику, обследовать его крепость. Я сам пойду, со мной пойдут двадцать
человек, всем надеть белые халаты. Остальным перебраться в Круглое, там мы
будем под боком полковника.
Вечером, когда ранняя зимняя мгла опустилась на землю, Павел Глотов
повел свой невидимый отряд через бухту в поселок Круглое. Правду сказал
телефонист, в Круглом не оказалось белогвардейцев.
Из Круглого на маяк лыжники перешли по узкому перешейку. Когда Глотов
мысленно представлял путь от Круглого до маяка, то ему перешеек и
возвышение, на котором стоял маяк, казались рукой, сжатой в кулак:
перешеек — кисть, возвышение — кулак.
«Разожмем этот кулак», — озорно подумал Глотов, когда отряд после
полуночи подполз к маяку. Разведчики были в двадцати шагах от каменного
дома, где укрылись белогвардейцы. Дальше дома контурно возвышался маяк.
Больше Глотов ничего не разглядел. «Где же у них караульные? Неужели они на
ночь запираются в доме? — думал Глотов, не видя часовых. — Может, из маяка
наблюдают?»
— Что будем делать? — шепотом спросил лежавший рядом Пиапон.
— Понаблюдаем еще, — ответил Глотов.
Пиапон передал остальным приказ командира и опять стал прислушиваться к
ночным звукам. Ночью в темноте охотнику глаза заменяют уши. Пиапон давно
услышал короткое ржание лошади, доносившееся откуда-то левее маяка, и
удивился, откуда у белогвардейцев лошади, когда они из Мариинска бежали на
нартах.
Мороз щипал щеки, уши, вползал змеей под халаты. Пиапон озяб, лежа без
движения. Нервное напряжение, захватившее его, когда он очутился под боком у
белогвардейцев, незаметно спало, и Пиапон опять вернулся к своим обыденным
мыслям. Он думал о Богдане, гадал, что делает племянник в это время ночи,
может, так же как он, лежит в снегу под носом у врага и подстерегает его. А
может... Но дальше что-либо предполагать Пиапон не решался, потому что
придут в голову всякие нехорошие мысли, и только растревожить себя. Мысли
его перенеслись к Токто и бывшему его кровнику Понгсе Самар. Когда Пиапон
вспоминает их первую встречу, его разбирает смех, перед глазами встает
взъерошенный Токто. Теперь Токто совсем поверил Понгсе и крепко подружился с
ним. Они вспоминают общих знакомых, родственников, которые близки и Токто и
Понгсе. Когда Пиапон глубоко задумывается о их дружбе, у него возникают
какие-то необъяснимые мысли. Токто с Понгсой пошли на войну на стороне
красных, позабыли, что кровники: у них есть враг более грозный, более
опасный, и потому они не хотят помнить о кровной мести. Они красные. На
одной стороне. А что было бы, если, допустим, Токто был на стороне белых, а
Понгса на стороне красных? Помирились бы они? А если бы оба были на стороне
белых?
Какие мысли только не появятся у человека, когда ему нечего делать,
когда он лежит на снегу, на морозе и начинает замерзать!
Вдруг загрохотал засов в дверях, звякнули щеколды, и в открытую дверь
вышли двое. Они постояли на крыльце и скрылись в темени. За ними вышли еще
двое, и изнутри дом заперли на засов, щеколды и крючки.
— Не стрелять, — передал команду Глотов.
Пиапон ясно слышал скрип дверей конюшни, ржание лошадей, топот копыт и
ворчание возниц. Он еще больше изумился, откуда у белых столько лошадей.
— Пропустить возчиков, — передали разведчики новую команду командира.
Четверо возниц на трех санях выехали из маяка и направились в сторону
Круглого. Отряд Глотова, не выдавая себя, последовал за ними. Километрах в
пяти от маяка они нагнали сани. Возницы бросились врассыпную в тайгу, но
лыжники тут же переловили их. Пиапон погнался за самым резвым из четверых,
нагнал и тут только заметил в руках его винтовку. Он ударил его лыжной
палкой по голове, как бил на охоте косуль. Белогвардеец зарылся в глубокий
пушистый снег.
Пленных повезли в Круглое, где уже расположились партизаны.
Глотов остановился в доме, где находился телефон. Отогревшись, попив
чаю, он позвонил на маяк.
— Позовите полковника Вица, — потребовал он.
— Кто хочет говорить с полковником? — спросили из маяка.
— Позовите!
Наступила пауза. На том конце провода переговаривались. Потом раздался
густой бас.
— Я полковник Виц. Кто изволит со мной говорить?
— Командир партизанского отряда Глотов. Полковник, в вашем отряде
насчитывалось шестьдесят семь штыков, из них вы потеряли пятерых: одного на
Кизи, а сегодня четверых с тремя лошадьми. Сена они не привезут. С
сегодняшнего дня из маяка не выйдет ни один человек. В моем отряде более
тридцати охотников-гольдов, вы, по-видимому, наслышаны о меткости их
винтовок. Поэтому, полковник, предлагаю вам сдаться!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
С приходом основных партизанских сил к устью Амура японцы и
белогвардейцы укрылись в городе Николаевске, в крепости Чныррах и в фортах,
рядом с крепостью. В их руках находилось побережье амурского лимана между
Чныррах и Николаевском, где постоянно их тревожили партизанские лыжные
отряды.
Лыжный отряд Кирбы Перменка сделал короткий отдых в селе Касьяновке, где
теперь находился штаб партизанской армии, тыловой госпиталь.
Когда шли по улице села командиры нанайского отряда Кирба и Богдан,
партизаны улыбались им вслед, некоторые балагуры начинали подтрунивать над
ними: уж очень живописно одеты были командир с комиссаром. Кирба носил
зимний суконный халат, подбитый мехом, подпоясанный широким офицерским
ремнем, на правом боку висел наган, на левом — две гранаты и нож, на шее
бинокль, на груди полукругом обвисла массивная цепочка часов; на ногах
легкие кожаные олочи и наколенники из рыбьей кожи. Самым главным венцом
этого наряда была охотничья шапка с соболиным хвостом на макушке. Правда,
Кирба носил эту красивую шапочку только в селах, в походе он надевал теплую
ушанку из беличьих шкурок.
Богдан был не менее привлекателен, у него тоже на ремне висели японский
пистолет, нож и бомба, на груди — бинокль и цепочка от часов. В отличие от
Кирбы он носил ушанку и вышитые высокие унты.
Оба они не расставались с винтовками, так как никогда не надеялись на
свои игрушечные пистолеты, которые в душе не считали серьезным оружием и
носили вроде украшения и еще потому, что все командиры носили такое оружие.
В штабе Кирба с Богданом получили боевое задание, присоединиться к
отряду Семена Павлученко, который действовал в районе крепости Чныррах.
Получив задание, друзья вышли из штаба и направились в дом, где они
квартировали. По дороге им встретился доктор Харапай.
— Охо! Вот это командиры! — воскликнул Василий Ерофеич. — Здравствуй,
здравствуй, крестный, здравствуй и ты, командир. Наслышан я о ваших
подвигах.
Кирба с Богданом улыбнулись, они часто слышали от партизан похвальбу, и
им приятно было услышать то же от доктора Харапая.
— Значит, воюете? — вместо похвальбы строго спросил Харапай.
— Воюем, — растерянно ответили друзья.
— Вы воюете, а мне что делать?
— Лечить раненых.
— Были бы раненые! Вы не умеете воевать, вы некультурно воюете.
Ошарашенные Кирба с Богданом растерянно переглянулись.
— Да, некультурно! Вы воюете по-варварски!
Кирба с Богданом по поняли, что значит воевать по-варварски, — слово
это они услышали впервые. Но вспыльчивый Кирба, вкусивший славу, почести, не
выдержал и выкрикнул:
— Мы по-партизански воюем! Понял?
— Как это понять?
— Храбро воюем, как Тряпицын воюет. Вот как!
«Да, Яков Тряпицын сделался культом», — подумал доктор.
— Храбрость — это хорошо, но зачем вы замораживаете своих
противников? — спросил Василий Ерофеич. — Говорят, это ваша затея,
замораживать японцев.
— Как замораживать? — спросил Богдан.
— Вы их окружаете и ждете, пока они не превратятся в льдины. Так?
— Ну и что? Мы воюем как хотим, — сказал Кирба.
— Разве так можно, японцы народ южный, они не привычны к морозам, а вы
применяете новый вид войны, Ай, как не хорошо.
— Кто их сюда звал, пусть уходят.
— Это верно, но воевать не по законам нельзя. Вы там замораживаете, а
мне потом их приходится лечить. Это хорошо? Приводят их, руки, ноги, уши,
щеки, носы — все обморожено. — Василий Ерофеич расхохотался. — Ну,
молодцы, ребята! Честно скажу, молодцы!
Кирба с Богданом переглянулись, они не поняли, что доктор Харапай только
что их разыгрывал, а теперь поздравил их за находчивость, за военную
смекалку.
Василий Ерофеич налил в кружки обжигающий чай. Богдан взял кружку,
поднес ко рту и начал дуть. Он не мог избавиться от видения — перед глазами
сидел в кошевке Федор Орлов и смеялся: «И от тебя передам привет». Потом он
хлопнул его по плечу и засмеялся: «Вместе, значит, паря. Нам, бедным людям,
надо всегда быть вместе».
Что-то горячо продолжал говорить Василий Ерофеич, не менее горячо
поддерживал его Кирба, но Богдан не слышал их слов, он будто находился в том
сонном состоянии, когда одновременно видишь сон и слышишь голоса
разговаривающих.
«Вместе, значит, паря... И от тебя передам».
Богдан поднес к губам кружку — чай остыл. И Василий Ерофеич повел Кирбу
с Богданом пить чай. Жил он рядом с большим длинным домом барачного типа,
где теперь лежали больные, раненые, обмороженные партизаны. Небольшая изба
была разделена на три части, одну из них занимал Василий Ерофеич. Кирба с
Богданом разделись в прихожей, но ремни с револьверами, гранатами и
винтовками захватили в половину Василия Ерофеича.
Доктор жил по-походному, в его комнате стояла деревянная кровать, стол,
заваленный книгами, и два табурета.
Василий Ерофеич попросил хозяйку приготовить чай, сел на кровать.
— Молодцы, ребята, хорошо воюете, заставили врагов попрятаться в
городских домах да крепостных казематах. Японцы на вас жалуются и
белогвардейцы. Они называют партизанскую войну «варварской». Они говорят,
что партизаны не признают правил войны. А сами они признают эти правила?
Помнишь, Богдан, Федора Орлова? Он был назначен парламентером и направлен в
Николаевск. И вот Орлов — парламентер, неприкосновенный человек, не
вернулся из Николаевска. Они убили его.
— Ну, теперь им не будет пощады! — воскликнул пораженный Богдан.
— Всех будем убивать, не будем больше морозить! — сказал Кирба.
Хозяйка испуганно заглянула в дверь, в руках ее блестел самовар. Василий
Ерофеич жестом пригласил ее. Женщина поставила недовольно ворчавший самовар
на стол, принесла свежий каравай хлеба, три кусочка сахара.
Из госпиталя за Василием Ерофеичем пришла санитарка, и он заспешил.
Кирба с Богданом тоже стали одеваться.
— Итак, друзья, до встречи в Николаевске, — сказал Василий Ерофеич,
прощаясь с молодыми командирами.
Он обнял друзей и своей скорой походкой направился в госпиталь.
— Я буду таким же умным, сердечным человеком, как Харапай, — сказал
Кирба, глядя влюбленными глазами вслед Василию Ерофеичу.
Кирба вытащил часы, поглядел на стрелки, потом на солнце и стал
заводить. Он каждый раз, когда вытаскивал часы, заводил их. Богдан тоже
взглянул на свои часы, короткая стрелка замерла на цифре два, длинная
подходила к тройке.
— Полдень, до ночи доберемся до того берега, — сказал Кирба.
Он сверил свои часы с часами Богдана, на его часах короткая стрелка
замерла между двойкой и тройкой, а длинная приближалась к девятке.
— Почему-то у нас часы по-разному показывают, — сказал он. — Почему,
ты не знаешь?
Богдан тоже не знал, почему часы у них показывают разное время.
— Солнце показывает полдень, — ответил он.
— Верно, но почему же часы по-разному показывают? Ты не знаешь, что
надо сделать, чтобы они одинаково показывали?
Богдан и этого не знал. Он давно хотел с кем-нибудь из русских
посоветоваться по этому поводу, но боялся показаться смешным.
— А, неважно, пусть по-разному идут, — махнул рукой Кирба.
— Все равно мы в них не разбираемся.
Вернувшись в отряд, молодые командиры посовещались с партизанами, с
проводником нивхом Кайнытом, подкрепились и вышли из Касьяновки. Ночью они
обогнули Николаевск и скрылись в тайге. На следующий день разведчики
разыскали отряд Семена Павлученко. Павлученко радостно встретил
подкрепление.
— Це хорошо, це дюже хорошо! — басил он, пожимая руки Кирбы и
Богдана. — Та скильки же вам роки, хлопци?
— Говори по-русски, — смеялся комиссар отряда Данилов.
— Уж очень они молоды, — переходя на русский язык, сказал
Павлученко. — Мы слышали о ваших делах. Молодцы. Вы вовремя пришли, прямо
скажу, вовремя. Мы решили тут форты захватить, япошки их не очень сильно
охраняют. Как только погодка запуржит, мы их мигом приберем.
— Мы один секрет знаем, как только захватим форты, тогда сразу откроем
секрет японцам и белякам, — сказал Данилов и засмеялся.
Комиссар Богдану показался несерьезным человеком, уж очень часто он
смеялся. Но, к своему удивлению, Богдан с первого же знакомства привязался к
нему, а увидев, как он заводит свои часы, признался, что они с Кирбой не
умеют переводить стрелки часов, не умеют по ним определять время. Данилов на
этот раз не рассмеялся, как обычно, а с серьезным видом все объяснил.
«Как можно ошибиться в человеке», — думал Богдан, слушал объяснения
комиссара. Потом он по просьбе Данилова рассказал о своей жизни, а Данилов
рассказал про свою.
Данилов был потомственный амурец, он работал слесарем в Амурском
пароходстве в Благовещенске.
— Дружные охотники в твоем отряде, Богдан, — говорил Данилов, глядя
как охотники беседовали возле костра.
— Мы люди одной крови, — повторил Богдан слова Акунка.
— Как это одной крови?
— Мы люди разных народностей. Вон, тот справа, который весело смеется и
размахивает руками, Чируль Потап, ульч, рядом с ним, с левого боку, Кешка
Сережкин, негидалец. А с правой стороны Потапа — Акунка Кондо, ороч. За
Акункой винтовку протирает — нанаец. Вот сколько народностей в нашем
отряде. Но мы люди одной крови, мы братья, у нас язык совсем сходится.
— А я и не знал, что тут столько народностей живет, — сознался
Данилов.
— Это еще не все. Вон, слева сидит, молчит, в лисьей шапке. Это Кайныт,
наш проводник, он нивх. Только с ним не сходятся наши слова. Ни одно слово
не сходится. Но мы с ним дружим, только по-русски приходится с ним говорить.
— Выходит, с Кайнытом у вас тоже есть общий язык?
— Так выходит, есть общий язык, русский, он нас соединил с ним,
подружил.
— Это хорошо. Это очень хорошо, я об этом расскажу нашим партизанам.
— Я тоже много рассказываю нашим, за что воюем, какая будет у нас
жизнь. Только одно не могу им объяснить — почему мы воюем за свободу. Как я
не думаю про себя, про наших — мы совсем свободные люди, что хотим, то и
делаем, хотим — рыбачим, хотим — охотимся.
Данилов рассмеялся и сказал:
— Ты уверен, что ты свободный человек, как птица?
— Да. Мы все свободные.
— Ты добывал себе еду в тайге и на Амуре?
— Да. Добывал пушнину и сдавал торговцам.
— Выходит, охотник уже находится в зависимости от торговца. Какой же
это свободный человек?
«Верно ведь, как это я не мог сам разобраться в этом», — подумал
Богдан.
— Чтобы освободиться охотникам, они должны уничтожить этих
пауков-торговцев, а их можно уничтожить, когда уничтожишь власть
белогвардейцев. Понимаешь, какая это цепочка?
На следующий день с утра потянул сильный ветер с лимана, и к вечеру
закружила пурга. Тайга загудела, застонала, словно раненый зверь. Темная
ночь раньше времени опустилась на землю, под ее покровом партизаны подошли к
фортам, стоявшим на сопке над крепостью Чныррах, и заняли исходные позиции.
Форты были окружены со всех сторон, партизаны ждали сигнала атаки.
Богдан с десятью охотниками лежал через дорогу, ведущую через сопку из
Николаевска на побережье, в каких-нибудь двадцати шагах от стен форта. Он
знал расположение огневых точек, казарм: разведчики Семена Павлученко давно
прощупали эти форты, они знали даже, сколько солдат и офицеров охраняют их.
Богдан лежал, прижимая к груди гранату, холодный металл согрелся и
приятно грел озябшие руки. Богдан теперь не боялся гранаты, но совсем
недавно он стороной обходил ее, увидев на поясе убитого солдата. Скоро
прозвучит сигнал, и Богдан метнет ее в ворота крепости, и партизаны пойдут в
атаку. Пойдут под пули. Противно все же, когда душа сжимается, как голодный
желудок, при свисте пули над головой! К этому, пожалуй, трудно привыкнуть. А
Федор Орлов говорил, что можно привыкнуть. Федор Орлов... Неужели его
замучали? Неужели убили?
— Скоро или нет? Стрелять так стрелять, чего лежим?
«Это Акунка. Ничего — подождешь. Когда пули засвистят возле уха — не
очень-то будешь храбриться. Пулемет, наверно, будет стрелять. Страшно все
же. Так холодно, а как подумаешь о пулемете, еще холоднее становится».
— Акунка, патронов не жалей, всем передай так, — сказал Богдан. —
Больше шума надо, чтобы напугать солдат.
Жалко патронов, сколько зверей можно было бы убить.
— Не жалеть! Такой приказ командира.
Акунка еще что-то бормотал, но Богдан не слышал его, снежный заряд
ударил ему в лицо, ослепил и оглушил. Но он все же вскочил на ноги и метнул
гранату в ворота. Партизаны молча побежали к стене, по сугробам
вскарабкались на нее и открыли беспорядочную стрельбу. Богдан спрыгнул со
стены в чернеющую глубину, не удержался на ногах после падения и зарылся
лицом в жесткий снег. Кругом палили винтовки, где-то впереди строчил
пулемет. Богдан опять почувствовал, как внутри него что-то сжимается в
комок. Он встал и побежал вперед, где строчил пулемет. Ноги совсем ослабли и
подгибались. Он выстрелил раз, выстрелил второй раз и неожиданно
почувствовал, как силы вернулись к нему, исчез страх, ноги больше не
подкашивались.
— Стреляйте! Бейте! — закричал он и опять выстрелил в чернеющее здание
казармы. Он подбежал к казарме, прижался к стене. Пулемет перестал стрелять.
Слева, справа партизаны кричали «ура!». Богдан растерянно стоял под окнами
казармы. «Как стрелять, куда стрелять? Кругом свои кричат», — подумал он и,
чтобы свои, с той противоположной стороны, услышали, закричал: «Ура! Ура!»
Его одинокий голос потонул в вое ветра, его не поддержали остальные
охотники. Выстрелы прекратились.
Богдан с двумя охотниками обогнул угол и лицом к лицу столкнулся с
каким-то человеком.
— Ты кто? — спросил он. — Партизан?
— Партизан, — услышал он ответ.
Человек бочком отошел от стены и вдруг побежал в темноту, вниз в сторону
крепости Чныррах. Богдан видел его чернеющую на снегу фигуру и выстрелил.
Человек упал. Богдан подбежал к нему, нащупал на плечах погоны.
Кто-то поднял большой факел, обозначавший, что форт захвачен. На
соседнем форту подняли такой же факел.
Богдан положил труп солдата возле дверей. Здесь он встретился с Кирбой.
Вдвоем они устроили перекличку отряда — все были в сборе. Партизаны забили
разбитые окна сеном и расположились на ночлег в солдатской казарме.
Кирба с Богданом и Данилов лежали рядом. Богдан ворочался с боку на бок
и не мог заснуть. Он вспоминал короткий бой, вспоминал обуявший его страх и
как он избавился от него. В глубине памяти где-то зацепилось чье-то
поучение: «Когда охватит страх, то стреляй, гром выстрела развеет страх».
Кто же говорил? Когда и где? Могли это говорить только взрослые: отец,
Токто, большой дед... И Богдан вспомнил! Он вспомнил Баосу, рыбную ловлю,
как дед учил его метать копье, его рассказы о клиньях грома, о злых и добрых
духах. Он вспомнил, как ночью ходил к могилам и как дрожал от страха.
«Точно так же, как сегодня, — мысленно усмехнулся Богдан. — Как прав
дед! И откуда он это знал, когда сам не был на войне? Надо кричать, надо
стрелять и стрелять, тогда страх не влезет в твою душу».
Богдан чувствовал, что Кирба с Даниловым тоже не спят.
— А я так и не заметил, как прошел бой, — сказал Кирба.
— Ничего, завтра постреляешь еще, — ответил Данилов. — Завтра
крепость под нами будем брать. Утром мы им сюрприз преподнесем, из орудий
отсюда ударим.
— Из пушек?
— Да.
— Они же не стреляют. Почему белые не стреляли?
— Это мы знаем, — засмеялся Данилов. — Два года назад, когда наши
уходили отсюда, они сняли с этих орудий замки и кое-какие важные части и
запрятали тут недалеко, в камнях. Двое наших партизан знают, где находятся
эти части. Завтра мы эти пушки подчистим, подладим и выстрелим по крепости.
Вот будет потеха!
— Верно! Отсюда же как на ладони видно крепость, — подхватил Кирба. —
Ну, повоюем! Мы будем отсюда, с сопки, наступать.
— Это уже как решит командир, — сказал Данилов. — Ну, орлы, спать,
нас завтра ждут дела.
Но Богдан с Кирбой, взбудораженные разговором ожидаемого боя, уже не
могли заснуть.
— Теперь уже скоро кончится война, совсем уже скоро, — шептал
Кирба. — Сам подумай, какое у нас теперь войско, сколько ружей, пулеметов,
а теперь появились пушки. Понимаешь? Пушки. Завтра услышим, как они грохнут.
Наверно, можно оглохнуть, а? Они очень громко бьют. Ты слышал, как они бьют?
Сильно громко бьют. Завтра мы крепость заберем, это уж нечего и думать.
Отсюда эту крепость как на ладони видно, из пушки все можно снести.
— Ты говоришь, будто из пушки когда стрелял, — заметил Богдан.
— Зато я из винтовки, из нагана стрелял! Слушай дальше. Крепость мы
заберем, белые и японцы убегут в город, а мы город со всех сторон окружим и
всех белых и японцев перебьем. Понял? Тогда война и кончится. А раз война
кончится, что нам больше тут делать? Нечего делать. Мы пойдем домой, будем
новую жизнь строить. Я сразу женюсь. Ты слышишь?
— Да.
— Я сразу женюсь. Богдан, она такая хорошая, такая ласковая, другой
такой нет нигде, ни на земле, ни на небе. А потом мы будем учиться.
— Совсем разговорился.
Поднялись партизаны, закурили, заговорили. Печь заполыхала ярким огнем,
кашевары в солдатской кухне начали готовить завтрак. Данилов с двумя
партизанами пошел на поиски замков и частей к крепостным орудиям
«виккерсам».
Вскоре они вернулись. Богдан с Кирбой пошли помогать
партизанам-артиллеристам откапывать и вычищать пушки. Орудия были готовы
вести огонь, когда явился из соседнего форта командир Семен Павлученко. Он
долго наблюдал в бинокль за крепостью. Богдан тоже поднес бинокль к глазам,
волшебные стекла тут же приблизили солдатские казармы, склады с
продовольствием и боеприпасами, он видел даже расхаживающих часовых.
Метель утихла, но слабый ветер тянул с лимана, сильный мороз жег щеки,
нос. Богдан, напрягая зрение, смотрел на береговые форты, с левой стороны
крепости, откуда должны были наступать основные партизанские силы.
Артиллеристы подносили снаряды.
— Товарищ командир, а што, не разбудить ли япошек? — озорно спросил
один из них.
Павлученко переглянулся с Даниловым, усмехнулся и сказал:
— Нехай так буде! Пали! Им жарко буде, и наши услышат. По казармам, по
пулеметам пали.
Богдан с Кирбой немного отошли от орудий, но все же, когда пальнули оба
орудия, они на мгновение оглохли и долго ковыряли пальцами в звенящих ушах.
Павлученко с Даниловым наблюдали в бинокль за стрельбой.
— Так их, бисовых детей! — восклицал Павлученко после каждого удачного
выстрела. — Вот так! Добре, хлопцы! Добре! Слушай, комиссар, в том форту
стоят еще две пушки, нельзя их исправить?
— Почему нельзя, вот их части, — показал Данилов.
— Так чего же ждешь?! Надо из четырех орудий палить! Так палить, чтобы
в Николаевске у беляков жилки затряслись!
Богдан опять поднес бинокль к глазам и увидал, как в крепости забегали
испуганные солдаты, всполошились, они ему показались муравьями в
разбросанном муравейнике.
Орудия продолжали стрельбу по крепости. К полудню партизанские отряды с
трех сторон начали штурм крепости. Из фортов артиллеристы палили из четырех
орудий.
Отряд нанайских лыжников наступал с сопки, они спускались по крутому
склону, укрываясь за реденькими кустами, многие, не удержавшись за кусты,
скатывались вниз. Богдан сверху видел все, что происходило в крепости, как
солдаты запалили склады и густой дым окутал их, как они группами перебегали
с места на место, ища надежного укрытия от партизанских снарядов и пуль.
Партизаны продолжали наступать. Кирба покатился на спине вниз. Богдан
последовал за ним. Где-то слева застрочил пулемет, и пули зажикали над
головой. Кирба поднялся и побежал в ту сторону, откуда бил пулемет. За
командиром устремились партизаны. Белые открыли частую стрельбу из винтовок,
и пули, как надоедливые осы, жужжали над головой, Богдан бежал вслед за
Кирбой, рядом с ним оказался Потап Чируль, чуть впереди, пригнувшись, бежал
Кешка Сережкин. Богдан увидел разинутые рты товарищей, и у самого у него
першило в горле, и он понял, что он вместе с ними издает боевой кляч.
Впереди разорвалось несколько снарядов. Кирба, добежав до какой-то
стены, лег и начал беспорядочно стрелять. Богдан уже менял третью обойму, на
стволе его винтовки с шипением таял снег.
— Бегут! Богдан, они бегут, собаки! — закричал Кирба.
Впереди его лежал убитый японский офицер с шашкой в закоченевших руках.
Кирба выхватил шашку и, подняв ее над головой, как это делали
белогвардейские кавалеристы, побежал дальше.
Вдруг неистово залаял замолкший пулемет. Кирба на всем бегу встал, как
вкопанный, будто уткнулся в невидимую стену, потом сделал шаг назад, опустил
шашку и упал на спину. Богдан подбежал к нему, приподнял голову.
— Кирба! Кирба! Что с тобой? Ну, отвечай! — бормотал он, тормоша
обмякшее тело друга.
Кирба смотрел широко открытыми глазами на зимнее серое небо, на тусклое
желтое солнце, и серое небо, и солнце вместились в его остекленевших глазах.
— Кирба! Скажи слово, одно слово.
Но Кирба молчал. Богдан приложил ухо к груди друга, но не услышал биения
сердца: снаряды густо рвались правее. Богдан опять приподнял голову Кирбы.
— Ты жив, Кирба, ты жив, ты не мог так умереть, ты должен жениться,
тебя ждет самая хорошая девушка на свете. Слышишь? Кирба? Тебя ждут книги,
ты должен учиться, Кирба!
Богдан плакал. Он не слышал больше ни взрывов снарядов, ни выстрелов, он
тормошил друга, пытался привести а чувство.
— Ты не должен умереть! Слышишь? Нет, не должен! Харапай тут рядом, ты
не должен умереть! Кирба! Кирба!
Богдан взвалил друга на спину и пошел навстречу наступавшим партизанам.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
— Полковник, вы находитесь в безвыходном положении, сопротивление
бесполезно, — как можно спокойнее сказал Глотов. — Николаевск в наших
руках, вся Сибирь освобождена, адмирал Колчак расстрелян, на днях Хабаровск
будет в наших руках.
— Мы вам не верим, — глухо ответил полковник Виц.
— Хорошо, доказательство будет на днях жерлом направлено в вашу
крепость.
— Вы не угрожайте, угрозы ваши мы слышим уже больше месяца. Мы можем
продержаться до лета.
— Надеясь на что?
Полковник опять замолчал.
— На бога и на себя, — ответил он после паузы.
— Не говорите чепуху, полковник! Последний раз я предупреждаю вас, если
не сдадитесь, пощады не ждите.
Павел Григорьевич повесил трубку и обернулся к окружавшим его
партизанам. Партизаны молчали. Глотов сел на табурет, побарабанил пальцами
по столу.
Пиапон стоял у окна и любовался открывавшимся видом бухты Де-Кастри, с
живописными черными островами, высокими берегами. Он видел и маяк, где засел
полковник Виц. Каждый раз, когда он находился на карауле под маяком в
каких-нибудь пяти-десяти метрах от каменного дома, где ютился отряд
полковника, он пытался представить, что в это время делает полковник и его
офицеры, о чем они думают. Больше месяца сидят они в этой каменной норе, и
больше полмесяца ни один человек не высунет носа на улицу.
В первые дни осады партизаны караулили возле дома только по ночам, Калпе
с чолчинцем Бимби тогда убили двух белогвардейцев, осмелившихся выйти на
улицу. Тогда-то и поняли белогвардейцы, что нанайские охотники и кромешной
ночью стреляют без промаха. С тех пор ни один человек по показывался на
дворе осажденного дома.
С наступлением марта погода несколько улучшилась, смягчились морозы,
больше стало солнечных дней, и партизаны стали караулить днем. Они натянули
в ста метрах от дома охотничью палатку, поставили жестяной камин, который
обогревал озябших караульных.
В первые дни Пиапон удивлялся смиренностью солдат и офицеров полковника
Вица, он удивлялся, почему те не пытаются сбежать с маяка, ведь партизаны
караулят их только с одной стороны, у перешейка, они могут сбежать через
устье бухты в тайгу, в Николаевск, могут перейти Татарский пролив и
оказаться на Сахалине. Почему же они не пытаются бежать? Но вечно же они
собираются сидеть в этой каменной норе?
Однажды, в безветренный день, Пиапон обошел на лыжах полуостров и понял,
что сдерживало белых: маяк стоял на высокой скале, отвесно спускавшейся к
воде. Но острые глаза Пиапона приметили на скалах щели, выступы, по которым
можно было бы с большим риском спуститься на берег.
«Я бы рискнул», — подумал Пиапон, возвращаясь в Круглое. Когда он
поделился своими мыслями с Глотовым, Павел Григорьевич сказал:
— Не скалы их сдерживают, Пиапон, их сдерживает неуверенность. Куда они
сбегут? В Николаевск? Полковник знает, что город окружен партизанами. На
Сахалин? На Сахалине тоже партизаны. Куда ему бежать? Некуда. Полковник это
все хорошо понимает.
«Тайга большая, я бы сбежал в тайгу, — подумал Пиапон. — А они,
безмозглые, только о городах думают».
А Токто совсем сник от безделья, помрачнел, стал неразговорчив, сердит.
Он скучал по внукам и каждое утро принимался рассказывать товарищам о своем
сне.
— Это войной называется? — спрашивал он Пиапона. — Лучше бы я дома
сидел, умирал от безделья, чем так воевать. В моей фанзе много мышей, лучше
бы я сидел с палкой в руке у их норы и ожидал, когда они выглянут, это
интереснее, чем караулить этого полковника. Что за человек этот полковник?
Он мужчина или женщина? Если мужчина, то он должен воевать. Мы пришли с ним
воевать, и он обязан воевать.
Токто оживлялся только тогда, когда приезжали ульчи с Амура, они
привозили на нартах продовольствие партизанам. Токто с первого же дня
познакомился с ними, и с каждым их приездом он все больше знал о них самих,
об их семьях. Он садился с ними пить чай и расспрашивал о новостях на Амуре,
о партизанах, которые воевали в низовьях. Потом они долго говорили о тайге,
о нынешней жестокой зиме и об охоте. После ухода ульчей Токто опять
замолкал. Однажды он сказал своему новому другу Понгсе:
— Мне все равно как умереть, я пойду к этому полковнику и подожгу его
дом.
Встревоженный Понгса рассказал Павлу Григорьевичу о настроении друга.
Глотов близко к сердцу принял тревогу Понгсы и тут же поговорил с Токто.
— Токто, партизаны наши давно не ели свежего мяса, — сказал он. — Все
говорят, что хотят свежатины. Я прошу тебя, добудь для отряда мясо. Здесь
должны быть какие-нибудь звери.
У Токто загорелись глаза, он улыбнулся и, не говоря ни слова,
засобирался.
— Возьми с собой Понгсу и без мяса не возвращайся, — добавил Глотов.
В этот же день Токто с Понгсой ушли в тайгу и на следующую ночь
возвратились в Круглое. Они убили четырех северных оленей. По этому случаю
все партизаны, не находившиеся в карауле, поднялись, стали поздравлять Токто
с Понгсой с удачей и тут же в середине ночи затопили печь и начали варить
мясо.
Токто вернулся из тайги совершенно обновленный, посвежевший и говорил
Глотову, что тот вылечил его от тяжелого недуга, что теперь он вновь стал
человеком здоровым и крепким. Но не прошло и пяти дней, как Токто опять
заскучал.
— Теперь я думаю о своих внуках, — заявил он Глотову.
Токто хотел поговорить с командиром, рассказать ему о своей несчастливой
жизни, но он не знал русского языка, а у Глотова был недостаточный запас
нанайских слов, чтобы он понял исповедь Токто. Им на помощь пришел Пиапон.
— У меня, Кунгас, сердце сильно ноет, — рассказывал Токто. — Меня
знают как охотника, многие завидуют моей удаче, а я отдал бы свою
удачливость, сменил бы на их счастье в домашней жизни. Кунгас, у меня было
много детей, но ни один не стал мне кашеваром, ни за одну дочь я не выпил
водки на свадьбе, все они умерли и унесли с собой в могилу по кусочку мое
сердце. Я победил хозяев тайги, рек, ключей, я бросил вызов Солнцу и эндури,
но я не мог одолеть злого духа — Голого черепа, который уносит моих детей.
Теперь у меня дома два внука, я о них всегда думаю, когда в белых стреляю, и
тогда думаю. Я очень беспокоюсь о них. Скажи, Кунгас, нельзя ли как-нибудь
узнать о здоровье моих внуков? Если бы я сейчас узнал о них, и если они
живы, здоровы, то я совсем окреп бы душой и сердцем.
— Я бы тебе помог, Токто, — ответил Глотов. — Но как это сделать —
ума не приложу. Если бы ты жил недалеко от Малмыжа...
— Джуен — это разве далеко от Малмыжа? — удивился Токто.
— Не близко, километров сорок с лишним будет. Если бы Джуен был рядом с
Малмыжем, можно было бы попросить телеграфиста узнать о здоровье твоих
внуков и сообщить нам. Но Джуен далеко находится, да не найдешь человека,
который сходил бы туда, узнал о твоих внуках и сообщил телеграфисту. Тяжелую
задачу ты задал, на нее я пока не нахожу ответа.
Токто помрачнел и молча сосал трубку. Молчали и Глотов с Пиапоном.
— Я думаю, Токто, твои внуки здоровы, — сказал Глотов. — Они ведь
крепыши, я помню их. Давай закроем глаза и попытаемся умом заглянуть на
десять лет вперед.
Токто с Пиапоном удивленно посмотрели на Глотова.
— Представим, сейчас зима тысяча девятьсот тридцатого года, —
продолжал Павел Григорьевич. — Токто, ты хочешь узнать, как живут твои
внуки, ты просишь меня узнать об этом. Хорошо. Я снимаю телефонную трубку и
звоню. Алло! Алло! Это Джуен? Скажите, пожалуйста, как здоровье внуков
товарища Токто? Здоровы? Спасибо. Вот и все, Токто, внуки твои здоровы.
— Ты думаешь, через десять лет в наших стойбищах такие разговорные
трубки появятся? — спросил Токто.
— Обязательно будут! — убежденно ответил Глотов.
— Сказки рассказываешь.
— Нет, не сказки рассказываю. Мы с тобой здесь караулим полковника
Вица, замерзаем, обмораживаемся, чтобы твое стойбище стало новым стойбищем,
чтобы ты перешел из глиняной фанзы в теплый рубленый дом. Мы воюем, чтобы
твои внуки не болели и не умирали.
Токто молчал.
— Сейчас ты хочешь знать, как здоровье твоих внуков, — продолжал
Глотов. — Ты не веришь, что телефон появится в стойбищах. Хорошо. Пусть не
будет телефона. Но о своем здоровье через десять лет твои внуки будут
сообщать письмом. Будут писать: «Дедушка, ты не беспокойся о нас, мы
здоровы». Это что, тоже сказка, скажешь? Через десять лет все ваши дети,
внуки будут знать грамоту, будут писать и читать, как Богдан.
Пиапон не стал переводить последнюю фразу, но с самого начала разговора
ждал момента, чтобы попросить Павла Григорьевича об одном очень важном,
волнующем его деле. При упоминании имени Богдана он не сдержался и попросил:
— Павел, ты каждый день с Николаевском разговариваешь...
— У нас нет связи с Николаевском. Телефонный провод тянется от Кизи
через Де-Кастри, Круглое в маяк — и все.
— Но все равно ты связан с Николаевском, по твоей просьбе они присылают
шутку. Павел, спроси командиров, спроси самого Тряпицына, как там наш
Богдан?
Глотов никогда не видел такого выражения лица своего друга. Все его
переживания, любовь к племяннику, страх за него отразились на лице Пиапона.
— Узнай, Павел, я тебя очень прошу, — тихо повторил Пиапон.
Павел Григорьевич тут же составил текст телеграммы на имя Даниила
Мизина. Пиапон с Токто облегченно вздохнули, и Павел Григорьевич понял, что
эти два уже не молодых человека постоянно находились мысленно вместе с
Богданом, что они думают о нем, тревожатся за него, хотя ни один из них и
словом не обмолвился об этом.
На следующий день телеграмму он отправил с ульчами в Мариинск, чтобы по
телеграфу отстукали в Николаевск.
А Токто той ночью увидел сон: молодая, полная сил Кэкэчэ ласкала его и
шептала: «Я понеслась, рожу тебе кашевара».
— Внуки мои здоровы, — сообщил утром Токто. — Сон хороший видел.
С того утра прошло десять дней. Каждый день Пиапон встречал ульчей и,
поздоровавшись, спрашивал, есть ли письмо из Николаевска. Каюры знали, какое
письмо ждет Пиапон, но ничем не могли его обрадовать: телеграмма от Даниила
Мизина все еще не поступала.
И сейчас Пиапон, любуясь видом бухты Де-Кастри, нет-нет да косил глаз в
сторону поселка, откуда приезжали ульчи. Пиапон знал, что напрасно он ждет
каюров сегодня, они застряли с тяжелым грузом на Кизи, сегодня, может быть,
доберутся только до поселка Де-Кастри. И ничего удивительного, что они так
медленно едут — шутка ли везти на нартах тяжелую пушку и сто пятьдесят
снарядов. Пиапон точно не знает, какую пушку везут ульчи, ему кажется, что
она должна быть такой же, какую он видел на канонерке, когда его везли из
Нярги в Малмыж.
Павел Григорьевич все еще барабанил пальцами по столу. Партизаны
молчали.
— Как-никак, еды у них должно быть маловато, — наконец прервал
молчание Тихон Ложкин.
— А ты откеда знаш? — спросил Фома Коровин.
— Как это откеда? Подумай малость. Из Мариинска бежали, обоза не было.
В Де-Кастри на складах кое-чего прихватили, но их шестьдесят с лишним ртов.
Пиапон тоже думал о подземных складах продовольствия, колодцах, ему
казалось, что под каменным домом проложены ходы, выходы с хитрыми
разветвлениями, как в барсучьей норе.
— Командир, поговори с полковником, — попросил Калпе. — Пошли его
на... Может, он рассердится и начнет воевать.
Предложение Калпе никого не рассмешило, потому что некоторые партизаны
по своей инициативе уже много раз куда только не посылали самого полковника
и его офицеров, но те оставались глухи и не сердились.
— Ерунда, — махнул рукой Тихон. — Их ничем уже не проберешь. Пушка
только заставит их воевать.
Пиапон отошел от окна, сел на полу рядом с Тихоном Ложкиным.
— Привезут пушку, уничтожим эту трусливую свору и подадимся домой, —
размечтался Тихон, — Приду я в село, а избы-то у меня нет. Вновь мне надо
лес рубить да избу ставить. Но ничего, отстроюсь. Баньку срублю, такую
махонькую, да сердитую.
— Хорошо бы сейчас попариться в баньке, — сказал Ерофей.
— А наши-то в Николаевске в городской бане отмываются, — сказал
Фома. — Орлов-то уж любит попариться, я знаю.
Пиапон закурил, прислушиваясь к неторопливому разговору товарищей. Он
тоже в последнее время много думал о доме, о семье и должен был сознаться
Токто, что тоже соскучился по внукам. Он теперь часто видел сны о Богдане, о
дочерях и внуках.
— Командир, может, навстречу пойти ульчам, помочь им, — предложил
Калпе, которому стало невыносимо безделье.
Павел Григорьевич перестал барабанить пальцами, поднялся со стула,
сделал несколько шагов взад и вперед между сидящими на полу партизанами.
— Хороший наконец совет ты подал, Калпе, — сказал он. — Правильно,
надо пойти встречать ульчей, помочь им. Чем быстрее пушка прибудет сюда, тем
скорее мы уничтожим отряд полковника Вица. Калпе, собери человек десять и
иди помогай каюрам.
Калпе с радостью бросился выполнять приказ командира, через час его
отряд вышел из Круглого.
Пиапон проводил брата и с отрядом в двадцать человек ушел на маяк
заменять караульных. С ними шел и Павел Григорьевич.
— Не волнуйся, Пиапон, — говорил он, когда партизаны гуськом шли по
узкой тропинке между густыми кустами. — Я думаю, Богдан невредим и здоров.
Ты слышал, что Николаевск был сдан без боя, партизаны вошли в город мирно.
Узкая тропинка выбежала на чистое обласканное ветрами белое поле и
спускалась вниз к узкому перешейку, соединявшему маяк с материкам. Отсюда
как на ладони виднелся маяк, дом, в котором отсиживались белогвардейцы;
направо, насколько хватало взору, раскинулся Татарский пролив, слева ковшом
лежала бухта Де-Кастри.
Пиапон остановился, пропустил мимо себя партизан. Павел Григорьевич
встал рядом.
— Как только расправимся с полковником Вице, вернемся в Мариинск и я
сам запрошу Николаевск, —сказал он, глядя на маяк. — Пока не ответят, буду
сидеть на аппарате. Ты не беспокойся, все будет хорошо.
«Одну ночь еще ждать, — думал Пиапон, спускаясь к узкому перешейку,
вслед за партизанами. — Послезавтра я узнаю, как там мой Богдан...»
В палатке, укрытой за густыми деревьями и кустарниками, возле жаркого
каминка сидели караульные. Среди них были и Токто с Понгсой, Дяпа с Бимби.
— Новости есть? — спросил Пиапон.
— Нет, — ответил Пиапон.
Этот короткий разговор происходил на каждой смене караулов, раз
спрашивал Токто, а отвечал Пиапон, в другой раз роли менялись. И все
присутствующие при этом разговоре знали, что Токто с Пиапоном говорят о
телеграмме из Николаевска.
Пиапон прошел по снежной траншее к наблюдательному пункту. Здесь уже
находилось несколько партизан с Тихоном Ложкиным. Каменный дом серой глыбой
закрывал голубое небо, белые облака. Дом молчал. Партизаны тоже молча
смотрели на чернеющие проемы окон, с белыми бумажками и тряпичными затычками
пулевых дыр.
— Завтра от дома одни камни останутся, — сказал Тихон.
Ночь прошла спокойно, белогвардейцы не подавали признаков жизни. Но в
партизанской палатке в эту ночь не затихали голоса, партизаны говорили о
своих семьях, детях: этой ночью сокращалось время встречи с женами, детьми и
родственниками, может быть, сразу на месяц, а может, и больше.
Утром, когда взошло солнце, взоры всех караульных были направлены не на
серый каменный дом, а в Круглое.
На берегу Круглого толпились партизаны, там они всегда собирались, когда
приезжали ульчи с продовольствием. Но теперь они привезли долгожданную
пушку!
— Эй, беляки-гады, помолитесь перед смертью, — закричал кто-то из
караульных, и партизаны подхватили его клич.
Какие жестокие слова! Но в этом кличе больше было радости, чем злости.
— Кончилось, слава богу, наше сидение! — сказал Тихон и ткнул кулаком
в плечо Пиапона.
Пиапон не поверил своим глазам. «Это хмурый, немногословный Тихон!» — И
тоже засмеялся.
Через полтора часа пушку подвезли к перешейку и стали устанавливать на
виду у противника. В палатку пришли еще человек тридцать партизан. Лыжный
отряд Павла Глотова готовился к штурму логова полковника Вица.
— Товарищи, а каково полковнику, а? Он ведь видит эту пушку, — говорил
Тихон. — Теперь-то он поверил, что Николаевск наш.
Пиапон уже третий раз проверял винтовку, хотя и знал, что она
безотказна, третий раз проверял обойму — все ли патроны новые. В этом бою
ни один патрон не должен дать осечки.
«Может, сейчас я встречусь с той собакой, с усиками, — думал Пиапон. —
Я не должен промахнуться, должен попасть ему прямо в лоб».
В первые дни осады маяка Пиапон с нетерпением ждал встречи со своим
мучителем, и гнев, и жажда мести жгли ему грудь, но проходили утомительные в
своей опостылости дни, и Пиапон физически чувствовал, как исчезал гнев, как
утихала жажда мести.
Теперь в ожидании последнего боя Пиапон опять почувствовал, как
вселяется в его грудь гнев, он должен быть сейчас злым, потому что без
злости нельзя сражаться с врагами.
Вдруг он вздрогнул от звона разбиваемых стекол и увидел разбитое окно
серого дома, белое полотнище на древко, выползавшее из окна. Вот оно
вылезло, заполоскалось на ветру.
— Сдаются, гады! — процедил кто-то сквозь зубы.
— Не обман это?
— Теперь им не до обмана.
Через четверть часа из дома вышли два офицера с белым флагом и
направились к позиции партизан. Навстречу им поднялся Павел Григорьевич.
Встретились они на полпути.
— Мы уполномочены вести переговоры, — сказал один из офицеров.
— Где полковник Виц? — спросил Глотов.
— Ему нездоровится.
— Условия наши. Сдаться без промедления. Все по одному выходят из
укрытия без оружия. Оружие оставить в доме. Срок исполнения — немедленно.
— Скажите, вы нас расстреляете?
— Если вы запятнали себя кровью безвинных людей. Принимаете наши
условия?
— Да.
Офицеры вернулись в дом. Глотов вызвал пятнадцать партизан, они должны
были принимать капитулируемых солдат и офицеров полковника Вица. Остальные
партизаны оставались в траншее, готовые отразить возможную провокацию.
Пиапон стоял возле Глотова со вскинутой винтовкой.
Открылась дверь, и показался первый офицер с поднятой рукой. Он был
бледен, изможден, со впалыми щеками, испуганно бегающими глазами, шинель на
нем висела будто с чужого плеча. Офицер спустился с крыльца, двое партизан
проверили его карманы, отобрали документы.
Пиапон, не опуская глаз, смотрел на офицера, мысленно приклеивал к его
безусому лицу щегольские усики, придал выпуклость впалым щекам, но лицо
офицера не становилось от этого знакомым, ненавистным. За первым офицером
вышли второй, третий, четвертый. Все они дрожали то ли от холода, то ли от
страха — не разберешь. Одни прятали глаза, другие, наоборот, заглядывали в
лица партизан, точно сами искали знакомых. От их прежнего офицерского лоска
не осталось и следа.
Пиапон разглядывал каждого выходящего, будь он офицер или солдат, ему
было безразлично: и среди солдат он мог бы разыскать своих мучителей. Прошли
мимо Пиапона больше сорока человек. Пиапон все еще надеялся встретиться с
офицером-мучителем, хотя давно уже вышли все офицеры, теперь перед дулом его
винтовки шли угрюмые солдаты и казаки. За казаками стали выходить смотрители
маяка. Полковник Виц все еще не показывался. Вышел последний смотритель
маяка, и тут партизаны услышали глухой пистолетный выстрел. Глотов вбежал на
крыльцо и скрылся за дверью. Он нашел мертвого полковника во втором
помещении, возле него белел лист бумаги. Павел Григорьевич поднял бумагу.
Это было завещание полковника Вица, он просил исполнить его последнюю
просьбу, похоронить по-моряцки на тюфяке, а браунинг передать Якову
Тряпицыну.
Пиапон с товарищами ждали у крыльца командира. Павел Григорьевич
показался в дверях с браунингом в руке, оглядел толпу сдавшихся солдат и
офицеров и сказал:
— Все.
Больше он ничего не добавил. Пиапон ожидал, что он скажет о походе, о
победе над отрядом полковника Вица, поздравит партизан с победой, но, не
дождавшись ожидаемой речи, он медленно пошел к палатке, которая защищала его
больше месяца от пурги и жестоких морозов. Палатка стояла на месте, но
каминчик давно остыл, и в палатке было так же холодно, как и под открытым
небом. Пиапон сел возле палатки, посмотрел на копошившихся возле пушки
партизан и подумал: «Сколько сил потребовалось, чтобы привезти ее. А она и
не понадобилась». Потом его взгляд скользнул по крутому скалистому берегу,
где стоял огромный камень, удивительно напоминавший сидевшего медведя.
Партизаны так и назвали этот камень «медвежьи уши».
Над «медвежьими ушами», над черными скалами голубело мартовское небо. С
голубого неба взгляд Пиапона опустился на Татарский пролив, где неброская
голубизна неба сливалась с белым горизонтом.
Пиапон долго смотрел на белый Татарский пролив, туда, где должен был
быть Сахалин. Он смотрел до боли в глазах, до звона в ушах. Отчего же
зазвенело в ушах? Пиапон прислушался, стояла удивительная тишина, будто на
земле вымерла жизнь. Но жизнь не вымерла. Пиапон видел партизан,
продолжавших копошиться возле пушки.
Пиапон оглянулся на бухту, и ту сторону, куда он сегодня направит свои
лыжи, где находится родной Амур. И на той стороне земля белела девственной
белизной. И по-прежнему стояла тишина. Белая тишина.
 СМИ не получает субсидий.
СМИ не получает субсидий.


