Книга третья. Амур широкий
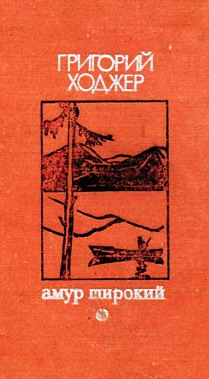
 |
| Г. Ходжер |
|
|
Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого, преобладающего в России, состояния к социализму? Да, мыслимо...»
В.И. Ленин.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Стойбище Нярги не подавало признаков жизни, собаки и те спали под амбарами, когда Пиапон вышел на крыльцо.
На востоке чуть заалела заря, звезды начали блекнуть, будто припорашиваемые пылью. Пиапон неторопливо закурил трубку и спустился с крыльца. В каких-нибудь трех шагах плескалась амурская вода. Он подошел к оморочке, сел и взглянул на палочку с тремя ножевыми отметинами, воткнутую в песок. Последняя отметина, которую он сделал вечером на уровне воды, теперь спряталась под ней.
Пиапон глубоко вздохнул и отвел взгляд от палочки-водомера, он уже на глаз определил, что вода за ночь прибыла больше чем на полвершка. Он оттолкнул оморочку и выехал на протоку, которая теперь так широко разлилась, что на противоположной стороне подступила вплотную к каменистому мысу. Все низкие острова были затоплены, тальники на них купались по пояс в воде.
Наводнение. Страшная это беда для рыбаков: как лесной пожар угоняет зверей в дальние края, так и при наводнении рыба бесследно исчезает в густой траве. И пожар — беда, и наводнение — не лучше. Опять голод ожидает нанай. Который уже год им живется голодно? Кажется, четвертый. Прежде тоже бывали тяжелые годы, но теперь вдвое труднее. Помнит Пиапон ту весну 1920 года, когда он вместе с партизанами уничтожил отряд полковника Вица, засевший в маяке на Де-Кастри. Из Де-Кастри лыжный отряд возвратился в Мариинск, и командир Павел Глотов, переговорив со старшими командирами в Николаевске, разрешил лыжникам расходиться по домам. Пиапон и Токто просили его разузнать что-нибудь о Богдане — сыне Поты, но Глотов ничего не мог добиться. Делать было нечего, Пиапон по-братски попрощался с Глотовым, обнял его, и они по русскому обычаю расцеловались трижды.
«Я думаю, мы с тобой, Пиапон, встретимся еще», — сказал Павел. Пиапон ответил: «Не встретимся, Павел, ты теперь уедешь в свои края, где солнце запаздывает на целый день». — «Не знаю, может, и уеду. Я большевик, как партия прикажет. Если даже и уеду, все равно до последних дней буду помнить Амур и вас, хороших людей».
Так и расстались. Пиапон с товарищами заспешил домой. Чем выше они поднимались по Амуру, тем становилось теплее, снег сильно таял. Март — ничего не поделаешь. Пришлось идти по ночам, когда морозец схватывал мокрый снег. Партизаны заходили в стойбища и всем сообщали, что война на Амуре закончилась, что победила народная власть, советская власть; теперь всем будет хорошо, всего будет в достатке у охотников, а торговцы больше не посмеют их обманывать.
К Малмыжу отряд, уменьшившийся наполовину — многие остались в своих стойбищах, — подошел в полдень. Партизаны глазам своим не поверили — на берегу села их встречало все население стойбища Нярги. Тут же поджидали их и малмыжские.
Радости было — не рассказать словами! Женщины плакали, причитали, как на похоронах, мужчины орали, обнимались. Друг Митрофан так облапил Пиапона и стиснул, что ни вздохнуть, ни охнуть. Тут же вертелась его жена Надя, раскрасневшаяся, помолодевшая. Пиапон теперь мог смотреть ей в глаза, потому что свой позор он смыл белогвардейской кровью. Правда, он не встретил того офицера, который приказал при народе пороть его шомполами, но это ничего, он другим отомстил.
— А мы-то как услышали про ваше возвращение, так брагу заварили, ждем не дождемся, — говорила Надя.
— А откуда вы узнали, что мы сегодня будем? — удивился Пиапон.
— Глотов сообщил, что идете, а мы подсчитали, в какой день прибудете.
Митрофан не стал приглашать Пиапона к себе, он давно живет среди нанайцев, знает их обычай: с дальней дороги охотник должен прежде всего войти в свой дом, поклониться очагу и Гуси-тора — среднему столбу фанзы. У Пиапона теперь нет в рубленом доме столбов, но у него стоит родовой фетиш — жбан счастья, которому он обязан помолиться, поблагодарить за счастливое возвращение. Митрофан запряг свою лошадку и покатил в Нярги вслед за нартами.
Пиапон с братьями помолился священному жбану, поблагодарил за успешный поход, попросил оберегать Богдана, который остался в Николаевске. А женщины тем временем выворачивали тощие мешочки, высыпали в котлы последние крупинки, месили последнюю муку —как же иначе, разве можно в такой день что-нибудь пожалеть? Мужчины вернулись, кормильцы вернулись живы и здоровы!
Старый Холгитон будто сбросил два десятка лет, прибежал к Пиапону, обнял его и заплакал. Странно было смотреть на плачущего Холгитона.
— Всех уничтожили? Верно, всех уничтожили? — спрашивал старик. — Хорошо, теперь я могу спокойно жить, теперь я не хочу умирать.
— Правильно, зачем умирать? — отвечал Пиапон. — Теперь только и жить, новую счастливую жизнь будем строить.
Радости было много, но праздника не получилось. Война огнем прошла по Амуру, она заглянула во все дама и во все закрома амбаров. Нанайцы делились с партизанами всем: и порохом, и свинцом, отдавали самое дорогое — оружие, угощали кашей и лепешками, на дорогу снабжали юколой. Какой же нанаец не поделится последним с вошедшим в его дом! Теперь в амбарах пусто, нет даже юколы. Охотники сообщают, в тайге зверя не стало, то ли погибли от какого мора, то ли их разогнала война. Одна надежда на Амур, он кормилец, он поилец нанайцев.
Как и пророчили старики, большая беда пришла в стойбища. Перед ледоходом начался голод, а с голодом пришли всякие болезни и унесли много стариков, женщин и детей. Нанайцы проклинали войну, которая разорила торговцев, — будь у них мука и крупа, можно было бы взять в долг, а теперь они сами сидят голодные, потому что у них все продовольствие отобрали партизаны.
— Почему партизаны? — возмущался Пиапон. — До партизан здесь метлой прошли белые, вы сами это хорошо знаете. А партизаны ничего никому плохого не делали, и не говорите про них плохо. Забыли, как сами молились эндури-богу, чтобы они победили?..
Примолкли охотники: что правда, то правда, все молились эндури и привезенным из Маньчжурии мио, просили помочь красным победить белых.
С той партизанской весны голод ежегодно посещал нанайские стойбища. Тяжелая жизнь настала на Амуре. От такой жизни всякое может взбрести в головы неумных людей, вот и начали они ругать советскую власть, мол, она, эта власть, виновата во всем.
— Советская власть, что ли, уничтожила в тайге соболей? — спрашивал их Пиапон.
Те, у кого в голове оставалось немного ума, замолкали, другие продолжали ворчать. Пиапон перестал на них обращать внимание.
Пиапон много думал о советской власти и только себе признавался, что тоже обижен на нее: сколько времени прошло, а советская власть что-то не обращает на нанай внимания, не торопится строить новую, счастливую жизнь. Позабыла...
Обратился он к умным людям, и те объяснили, что советская власть еще не везде победила, что продолжается война с японцами и белогвардейцами. Только в прошлом, в двадцать втором году, наконец-то кончилась проклятая война. Пиапон понимал, как трудно приходится советской власти: будь она трижды народной властью, разве за один-два года сможет отстроить разрушенные города, сожженные села, одеть и обуть, накормить досыта всех обездоленных? Много лет потребуется, чтобы построить новую, счастливую жизнь. Много лет...
За раздумьями Пиапон не заметил, как подъехал к выставленной на ночь сети; только в двух местах притоплены поплавки — попались щука и небольшой сазан. Вот и попробуй накормить ими всю семью. Но ничего, может, другие что еще поймают, они тоже выставили свои сети.
Пиапон направился домой, когда золотой диск солнца наполовину выглянул из-за горбатой сопки и разлил по земле ласковое тепло. Хорошо на оморочке в такое утро!
На крыльце его поджидал внук Иван, сын Миры.
— Папа, тала есть? — спросил он, подбегая к оморочке.
— Сколько тебе говорю, зови меня дедом, а ты все папа да папа, — улыбнулся Пиапон, любовно глядя на вытянувшегося тонкошеего мальчишку.
— Папа — и все, мама — и все, — упрямо сказал Иван.
— А настоящая мама как же?
— Она не настоящая, она просто Мира. Тетя.
Пиапон засмеялся. Лет пять прошло, как он выдал свою дочь Миру за Пячику, выдал без тори — выкупа, вопреки обычаям, оставив при себе внука, внебрачного сына Миры. Сколько тогда было разговоров, даже не упомнишь. Но никто не последовал примеру Пиапона, все отдавали дочерей за калым. Пусть отдают, Пиапону до них дела нет, он сделал, как велела совесть, и теперь не жалеет о своем поступке.
«Кашевар уже, — подумал он, глядя на внука, — только не из чего ему кашу варить».
ГЛАВА ВТОРАЯ
Про извилистые речушки, закрученные, как утиная кишка, рассказывают легенду, будто это бежала жена от нелюбимого мужа и подвязка ее наколенника волочилась по земле. Может, так было, может, нет — кто знает. А как появился Хурэчэн — кто объяснит? Каменная, поросшая густым лесом горбатая сопка поднимается посреди ровной мари. В Хурэчэне встречаются все породы деревьев, какие только есть в тайге, даже виноградная лоза вьется. Откуда появился этот остров? Как перебрались сюда таежные деревья, когда до тайги пути на две трубки?
Токто неторопливо, размеренно загребал маховиком, и нагруженная мясом оморочка тихо и плавно скользила по гладкой воде. На носу, ощерившись трехпалым острием, покоилась острога, три ее острых жала глядели на Хурэчэн.
— Чего сказки придумывать, — сказал сам себе Токто, — сопку посреди воды и мари эндури сделал, чтобы мы во время большой воды на ней спасались.
Нагруженную оморочку Токто давно заметили его внуки, сообщили матери и бабушке. Женщины натаскали воды в большой котел, приготовили дрова. Потом они вышли на берег встречать Токто.
— Деда, что ты нам привез? — в один голос закричали двое мальчишек, забредших по колено в теплую воду.
— Чего спрашиваете, видите, оморочка перегружена, — сказала их мать Онага.
— Будто не знаешь, о чем они спрашивают? — улыбнулась седая женщина, Кэкэчэ, жена Токто.
— Лыжи везу, — ответил Токто внукам.
— А зачем нам сейчас лыжи? — удивились мальчишки. — По траве, что ли, кататься?
Токто расхохотался.
— Осторожнее, осторожнее, — оттаскивала сыновей Онага, когда острога угрожающе засверкала остриями перед голыми животиками мальчишек. Оморочку подтащили на берег, и Токто, с хрустом разогнувшись, тяжело поднялся с места. Ноги от долгого сидения онемели и подгибались. Он оперся на плечи внуков и засмеялся:
— Вот, ваш дед совсем состарился, теперь вы будете ему посохом.
Он обнял мальчишек, поцеловал в щеки. Женщины тем временем убирали мясо, вещи охотника. Встречать Токто вышли все соседи. Здесь, в Хурэчэне, теперь раскинули свои летние берестяные хомараны-юрты все жители затопленных стойбищ. Женщины, мальчишки, девчонки мигом перенесли мясо к летнику Токто. А быстрорукая Онага уже вымыла мясо, спустила в котел.
Токто сидел возле юрты и рассказывал об охоте. К старости он совсем стал скуп на слово, и рассказ его был очень кратким, что вызывало неудовольствие слушателей, особенно молодых.
— Стареет Токто, совсем стареет, волосы стали белеть, — говорили озерские нанайцы. — Ему теперь, наверно, уже шестьдесят лет будет, не меньше.
Сварилось мясо, и Онага стала угощать охотников. Кэкэчэ резала сырое мясо, раскладывала на широких листьях винограда и раздавала женщинам; те, у которых была большая семья, получали побольше, другие поменьше. Всех соседей оделила Кэкэчэ, никого не забыла. Таков обычай. Завтра придет удача другому охотнику, и он так же раздаст все мясо, тоже никого не забудет, не обделит. Люди в беде всегда должны помогать друг другу, на то они и люди. А беда, что и говорить, кружится много лет вокруг охотников, не хочет их оставить в покое. Летом прожить легче, всегда есть рыба, мясо изредка попадает на стол, но кто стал бы возражать, если бы женщины напекли лепешек, сварили кашу, ребятишек бы побаловали сахаром? Да где теперь достанешь муки, крупы, сахару?
Все эти мысли одолевали охотников, но вслух об этом они не высказывались. Мясо запили чаем, заваренным сушеными листьями винограда, и закурили.
— Как же будем жить? — спросил старый Пачи, отец Онаги, глядя на внуков, которые с усердием обгладывали кости.
Никто ему не ответил.
— Скажи, Токто, ты воевал за эту советскую власть, где она, эта власть? Где новая жизнь?
— Откуда мне знать? Я столько же знаю, сколько и ты, — огрызнулся Токто.
— Но ты ходил по Амуру, слушал умные речи.
Опять замолчали. Внуки Токто из-за чего-то поссорились, их тут же разняла бабушка Кэкэчэ, дала им еще по куску. Охотники молча разошлись по своим хомаранам.
— Где Пота? — спросил Токто у жены, когда все ушли.
— Он с женой и детьми уехал на Унупен. Сегодня-завтра должен вернуться, — ответила Кэкэчэ.
— А Гида с Гэнгиэ где?
— Он на Холгосо поехал, рыбу будет готовить.
Токто давно собирается поговорить с сыном Гидой, да все не может: то сын уедет на рыбалку или на охоту, то он сам, и редко им приходится видеться. А поговорить надо, очень даже надо. Плохо относится Гида ко второй жене — Онаге, живет только с Гэнгиэ, ездит на рыбалку только с ней. Нельзя так, нехорошо любить одну жену, а другую не любить. У Токто тоже было две жены, но он, сколько помнит, любил обеих, не обижал ни одну из них. Будь Гида поумнее, он бы мог рассудить, какая жена дороже. Гэнгиэ красивая, нежная, работящая, слов нет, но сколько лет они живут, а она все не приносит Токто ни внука, ни внучки. Видно, бесплодная. Онага, напротив, принесла двух внуков, да еще каких внуков! Если бы Гида больше обращал на нее внимания, может, она еще родила бы. Токто любит детей. Хоть и тяжело нынче живется, но он жилы свои растянет, а внуков не оставит голодными. Зачем Гида обижает Онагу? Токто в последнее время замечает, что Гэнгиэ меньше работает по хозяйству, стала вялой, нерасторопной. Все это оттого, что Гида ее балует. Нельзя так. Женщина всегда должна работать по дому, до старости оставаться быстрой на руки, резвой на ноги. Зачем женщина в доме, если сидит на нарах сложа руки?
«Вернется Гида, поговорю обязательно», — решил Токто.
Вечером приехали Пота с Идари и детьми. Названые братья не виделись с полмесяца, но, встретившись, не обнялись, как бывало в молодости, не стали бороться и хлопать друг друга по спине, они уселись возле юрты и закурили трубки.
Токто приглядывался к названому брату, его обеспокоило измученное лицо Поты, застывшая в нем тревога. За полмесяца Пота постарел, согнулся. Его всюду преследовала неудача, он не убил лося, рыбы попадалось мало, еле хватало на еду.
— За себя не стал бы беспокоиться, дети ведь, — бормотал Пота.
— Беспокоиться еще рано, есть еще у нас силы, прокормимся, — подбадривал Токто. — Нас трое мужчин...
— Такая большая вода...
— К осени она уйдет, кету поймаем, перезимуем.
Идари проходила мимо мужчин, остановилась.
— Я ему это же толкую, — сказала она и глубоко вздохнула. — Совсем ты состарился, отец Богдана, тяжелые мысли стали брать над тобой верх. В молодые годы ничего не боялся, меня умыкнул от родного отца, не боялся.
— Молодые были, детей не было...
— Да мы с тобой их прокормим, мы же еще молоды!
Токто взглянул на Идари, встретился с ее все еще озорными глазами и усмехнулся: в черных волосах Идари кое-где пробивалась седина.
— Ты не смейся, отец Гиды, мы еще все можем. Правда, отец Богдана, мы еще все можем? — засмеялась она.
Пота не выдержал, улыбнулся, лицо его посветлело.
«Любят все еще друг друга», — подумал Токто.
— Ты меня из гроба сумеешь поднять, — засмеялся Пота.
— Ничего, все хорошо будет, — ответила Идари, пропустив мимо ушей слова мужа, — не надо много думать. Дети уже большие, чего о них беспокоиться? Я уже выбираю жену Дэбену, мальчик шестнадцатое лето живет. Сам себя прокормит. Разве он зимой не убил кабана, не добыл соболя? Взрослые охотники теперь не видят в глаза соболя, а наш сын добыл!
Идари пошла к очагу, где хлопотали Онага с Кэкэчэ. Она шла упругой девичьей походкой, прямая еще, как осинка. Пота поглядел жене вслед и улыбнулся.
— Ей бы мужчиной родиться, — сказал Токто.
— Тогда мне надо было бы родиться женщиной, — засмеялся Пота.
— Правильно, вы родились друг для друга.
Токто засопел трубкой, замолчал. Внуки его, Пора и Лингэ, рядом стреляли из привезенного им лука и не могли попасть в мишень. С берега поднимался сын Поты Дэбену, стройный юноша, как вылитый, похожий на старшего брата, Богдана.
— Новости какие слышал? — спросил Токто.
— Приезжали в Джуен амурские, кое-что рассказывали, — ответил Пота. — Вода все прибывает, прибывает. Говорят еще, что какой-то торг организовывают то ли в Болони, то ли в Малмыже. Там можно будет купить все, что пожелаешь, только шкурки требуются.
— Торговцы придумали?
— Нет, новая власть будет торговать, цены будут низкие.
— Это интересно.
— Все говорят так, все хотят посмотреть на этот торг.
— И мы поедем. — А где у нас, шкурки?
— Что оставили на осенние закупки, то и повезем.
— Как тогда осенью? На что будем закупать на зиму продукты, дробь, порох?
— Новая власть поможет, так говорил наш командир Кунгас. Знаешь, Пота, честно скажу, не верю я этой власти. Ее ведь все нет. Может, увидим ее на этом торге?
Пота промолчал, он давно слышал это от названого брата, и ему не хотелось вновь вступать с ним в спор: все равно Токто не переубедишь. Как-то, рассердившись на него, Пота спросил: «Зачем тогда ты жизнью рисковал, ходил в партизаны?»
— Многие шли, и я пошел. Что я — хуже других, — ответил Токто.
— Но другие знали, понимали, зачем они идут.
— В упряжке не надо быть всем собакам миорамди — вожаками, одной хватает, она ведет за собой остальных.
С Токто бесполезно спорить, и Пота промолчал. Онага подала вареное мясо. Охотники, вытащив ножи, принялись за еду.
— О Богдане что слышал? — спросил Токто.
— Живет в Нярги у Пиапона.
— Жениться не собирается?
— Кто его знает. Когда вернулся из Николаевска, Пиапон хотел его женить. Не согласился. Я говорил, мать говорила, бесполезно.
Токто пожевал жилистое мясо, запил варевом, сказал:
— Теперь жениться труднее. Где возьмешь на тори?
— Да. Труднее.
— Может, он потому и не соглашается?
— Кто его знает.
После еды они выкурили по трубке и разошлись по своим хомаранам. А на следующий день ближе к полудню с сопки спустились испуганные мальчишки и сообщили, что со стороны Амура идет большая лодка без весел и густо дымит черным дымом. Встревоженные взрослые вскарабкались на сопку и увидели подходивший к Хурэчэну пароход. Никогда никто не помнит, чтобы пароход приходил на Харпи. Правда, в большую воду по озеру ходили военные корабли. Но на реку Харпи никогда не заходили пароходы. Что нужно этому пароходу? Может, это военный корабль? Может, опять война пришла на Амур, вернулись белые и ищут партизан?
Охотники посовещались тут же на вершине сопки и решили спрятать в лесу женщин и детей, хотя знали, что если это белые и захотят они разыскать женщин и детей, то переловят их, как зайцев, на затопленном острове. В стойбище остались несколько мужчин, среди них Токто, Пота, Пачи. Они уселись вокруг костра, варили уху, заваривали чай: кто бы ни приехал, враг или друг, его надо напоить чаем, угостить тем, что найдется в хомаране.
Тишина нависла над стойбищем, только птицы безумолчно пели в кустах, кузнечики стрекотали в траве да комары назойливо звенели над головой. Уха клокотала в котле, чай забулькал в чайнике и нетерпеливо затарахтел крышкой. Пота снял чайник с тагана, и в это время за мысом совсем рядом рявкнул гудок парохода. От неожиданности дрогнула рука Поты, чайник выпал и, брызгая коричневым кипятком, покатился к воде.
— Дырявые руки, — бормотал смущенный Пота, спускаясь за чайником. Он зачерпнул воды и вновь повесил чайник над костром.
Убежавший от Поты чайник не развеселил людей, не убавил тревоги — охотники неотрывно глядели на мыс, из-за которого должен был вот-вот появиться пароход.
Что ждет охотников? Унижение или смерть? О другом никто не думал. Хотя война не коснулась горной реки Харпи, здешние нанайцы много слышали о ней. Знали они о трагедии, которая произошла в Нярги и в Малмыже, слышали о спаленном дотла русском селе Синда, о гибели неповинных детей, женщин и стариков. Если война вернулась на Амур и этот пароход ее вестник, то чего же хорошего ждать от него? Живи харпинцы на материковой стороне, они могли бы убежать в тайгу. Но Хурэчэн — остров, отсюда никуда не убежишь.
Пароход еще несколько раз прогудел, и при каждом гудке охотники вздрагивали и съеживались. Наконец он обогнул мыс, совсем рядом зашлепал плицами. Это был старый колесный пароход, доживавший свой век. На палубе стояло несколько человек. Увидев между деревьями хомараны, они замахали руками, закричали что-то.
Токто встал, вгляделся в пришельцев и невольно глубоко, облегченно вздохнул: военных среди них не было.
— Это не война, другое что-то, — сказал он.
Охотники сразу зашевелились, выпрямились их согбенные спины. Одни стали подкладывать дрова в костер, другие, отбив пепел с холодных трубок, вновь закурили.
Пота выстругал палочку и тихонько начал переворачивать рыбу в котле; убедившись, что уха поспела, он снял котел с тагана.
Тем временем пароход подходил к берегу. На носу стоял матрос в тельняшке и отмеривал полосатым шестом глубину. Глубина была подходящая, и пароход, тяжело вздыхая, как диковинный зверь, подполз к деревьям, протянувшим над водой свои сучья. Люди на палубе переговаривались.
— Здешние гольды не то что амурские, — говорил лысый полный мужчина. — На Амуре нас выходили встречать всем стойбищем, показывали свое радушие, а здесь, чувствуете, другая атмосфера. Боятся, видать.
— В глубинке живут, редко с посторонними встречаются, — словно оправдывая озерских нанайцев, проговорил высокий, с густыми усами моложавый человек.
Пароход причалил к берегу, матросы закрепили его и сбросили трап. Пришлось им прорубать просеку в густом шиповнике.
— Мы гостей не по-нанайски встречаем, — сказал Пота. — Что гости подумают о нас? Пойдем, поможем кусты рубить.
Охотники, прихватив свои охотничьи топорики, последовали за Потой и Токто. Они поздоровались с матросами, с людьми на пароходе и начали вырубать широкую просеку, недоумевая, для чего приезжим такая широкая дорога. Когда просека была сделана, первым выкатился по трапу лысый толстячок. Он здоровался со всеми охотниками за руку, заглядывал в лица, улыбался. За ним вышел высокий, усатый, он тоже улыбался.
— Бачипу, бачипу, — здоровался он с охотниками.
— Ты что, по-нанайски говоришь? — спросил Токто.
— Маленько, маленько, — улыбался усатый.
Токто повел гостей к костру, усадил их на кабаньей шкуре. Пота налил им ухи. Гости с удовольствием начали хлебать ушицу.
— Откуда приехали? — полюбопытствовал Пота.
— Из Хабаровска, — ответил толстячок.
— Спроси, кто они такие, зачем на железной лодке приехали на Харпи, — попросил Пачи Поту.
— Нас советская власть послала к вам, — ответил усатый, не ожидая перевода Поты. — Мы в каждом стойбище раздаем муку, крупу. Вода большая на Амуре, рыбы нет, в тайге зверя нет, совсем худо стало туземцам, голодают. Вот советская власть и послала вам муки и крупы. У советской власти совсем мало муки, люди в городах и в селах тоже голодают, но вам еще тяжелее, поэтому послали вам все, что могли. Сейчас всем тяжело, но скоро станет легче, потому что война кончилась, мы победили, начали строить новую жизнь. Мирно, если без войны жить, мы многое сделаем, потому что мы будем все делать для себя, а не для богачей и торговцев.
Охотники слушали переводы Поты, и не понять было, что они думают о приезжих, о помощи. Наконец Токто прервал молчание, спросил: — Как понять эту помощь?
— Просто, — ответил усатый. — Вот ты убил лося, а соседи без мяса сидят, ты ведь с ними поделишься, верно?
«Откуда он узнал, что Токто лося убил?» — удивился Пачи.
— Отнесешь мясо, потому что соседи сидят голодные. Ты им помогаешь. Так ведь?
— Так, — кивнул головой Токто.
— Вот и советская власть делится с вами.
— А за это что власть потребует? Пушнину?
— Ничего не потребует, ни денег, ни пушнины. Когда ты несешь мясо соседу, ты не требуешь от него денег, не берешь шкурки.
— Так, выходит, советская власть нам дает даром муку?
— Даром.
Охотники молчали. Все они были безмерно удивлены этой даровой помощью. Сколько они помнят, власть никогда и никому ничего даром не давала, а советская власть вдруг в самое тяжелое время привезла сама, бе> их просьбы, муки и крупы. Может, и правда, что она народная и печется о простых людях?
— Когда я даю мясо соседям, я знаю, они убьют лося и тоже мне он него уделят, — сказал Токто. — А советская власть как думает? Чем ей мы отплатим?
— Ничем. Ты просто будешь хорошо охотиться и сдавать пушнину советской власти.
— В долг, выходит, все же...
— Нет, никакого долга. Это только торговцы вам давали в долг, обманывали. Советская власть эту муку и крупу отдает безвозмездно. Поняли? Безвозмездно. Ты лучше переведи это слово, — попросил усатый Поту.
Но как ни переводил Пота, охотники поняли, что советская власть дает муку в долг и за эту муку им придется расплатиться шкурками белок, лисий, выдры. Ведь ясно сказал усатый: «Будешь хорошо охотиться и сдавать пушнину советской власти». Детям и то понятно. Охотники не обижались, что усатый старается за всякими хорошими словами скрыть, что мука-то все же дается в долг. Охотники сами понимают, они не возьмут даром, они вернут долг при первой возможности. А что привезли вовремя муку, за это большое спасибо.
Усатый тем временем продолжал объяснять, что советская власть теперь всегда будет помогать туземцам, что торговцы больше не посмеют их обманывать. Пота старательно переводил, иногда добавлял свое, как ему казалось, весомое слово.
— Теперь вы сами видите, что советская власть — это наша власть, — говорил он.
Усатый, довольный поддержкой Поты, кивал головой.
— Ты кто? — спросил Пачи усатого.
— При Дальревкоме я состою, специально чтобы заниматься нашими туземными делами.
— Наш начальник, выходит, дянгиан, — закивали охотники.
— Мой товарищ тоже из Дальревкома.
— Сразу два дянгиана. Это хорошо, — сказал Пачи.
— При старой власти тоже были дянгианы, — пробормотал старый охотник со слезящимися глазами.
— Старая власть тебе не привозила муку, — перебил его Пота, — не давала даром. — Он обернулся к усатому и спросил: — Ваши на пароходе не хотят ухи?
Усатый приподнялся и закричал:
— Капитан! Эй, капитан, зови ребят на уху, сам тоже подходи.
Матросы не стали ждать повторного приглашения, пришли они вместе с капитаном и дружно налегли на уху. Пота на Амуре встречался с русскими чиновниками, они никогда не садились есть за один стол с простыми людьми. Покрикивали на них. А эти советские дянгианы, к удивлению Поты, шутили, смеялись вместе с матросами, ели из одного котла, и не чувствовалось между ними разницы. Капитан, прямой начальник матросов, сам подшучивал над чумазым кочегаром, а тот в свою очередь не упускал случая подпустить ему шпильку. Пота переводил их разговор вполголоса.
Матросы покончили с ухой, запили ее чаем и, поблагодарив охотников, пошли на пароход. Лысый толстячок с усатым вытащили кисеты, предложили махорку охотникам и сами закурили.
— Вы во все стойбища заезжаете? — спросил Токто.
— Во все.
— И в русские села?
— Нет, мы спешим, заезжаем только к туземцам. Мы спустимся до самого Николаевска, всем постараемся помочь.
Токто больше не стал спрашивать: усатый опять задал ему загадку. Почему, интересно, русские не помогают русским, а пришли на помощь нанай? Разве русским в селах хорошо живется? Они, может, и не голодают, как нанай, но, если им привезти муку, разве откажутся? «Все непонятно у этих русских, ничего не разберешь», — думал Токто, глядя на усатого, который достал из сумки блокнот и карандаш. Охотники тоже настороженно глядели на него.
— Как тебя зовут? — спросил усатый Токто.
— Токто Гаер.
— Семья есть?
— Зачем семья? — встрепенулся Токто. — Я беру, пиши долг на меня.
— Это не долг, понимаешь? Не долг. Я отпущу тебе муки и крупы смотря по тому, сколько людей у тебя в семье.
«Говори, говори, — подумал Токто, — все торговцы, и русские и китайские, все записывают в долговую книгу. Ты тоже записываешь меня — чего же обманывать?»
— Понимаешь, мне это надо для отчета. Когда вернусь в Хабаровск, я должен отчитаться за каждый фунт муки и крупы.
— Пиши меня одного, — упрямо повторил Токто.
— Брат, зачем упрямишься? — сказал Пота. — Они ничего плохого не собираются делать твоей семье. Пусть пишут всех, тебе-то от этого что?
Токто не ответил. Молчали и охотники.
— А где ваши жены и дети? — спросил лысый толстячок.
— Пиши меня, — вдруг обозлившись, сказал Пота. — Зовут меня Пота Киле, есть жена, двое детей.
— Где они?
Вместо ответа Пота приложил ладони ко рту рупором и закричал:
— Идари! Дэбену! Боня! Спуститесь сюда! Не бойтесь, идите сюда все! Муку нам будут выдавать! Идите скорее!
— Я вам говорил, они спрятали в лесу жен и детей, — прошептал усатый толстячку. — Боятся нас. Сколько потребуется времени, чтобы они привыкли к нам, к новой власти. Много потребуется наших сил, Тарас Данилович.
— Благословясь, мы уже принялись за дело, Борис Павлович, и эта мука — большая агитация за советскую власть, — ответил Тарас Данилович Коротков.
— Вы замечаете, они ведь не верят нам, — сказал Борис Павлович Воротин. — Они никак не хотят поверить, что муку мы даем им безвозмездно.
Борис Павлович задумчиво ворошил палкой остывавшие угли в костре. Он мог бы многое вспомнить из пережитого, потому что целый год ездил по тайге, жил среди тунгусов, выполняя поручения Туземного отдела Дальневосточной республики. Еще в ноябре 1922 года он держал в руке программу ДВР о действенной помощи туземцам. В этой программе говорилось, что первоначальная помощь туземцам должна быть оказана в снабжении их продовольствием, одеждой, боеприпасами. Борис Воротин на оленьих упряжках развозил муку, крупу, порох и свинец по таежным стойбищам. «Советский купеза», — прозвали его охотники и оленеводы. Помимо него в тайге шныряли десятки торговцев-частников, и Воротину приходилось не раз вступать с ними в борьбу, он защищал туземцев, как требовал того второй пункт программы.
В мае того же 1922 года вышел новый закон, по которому охотничьи и рыболовные угодья закреплялись за туземными охотниками и рыболовами. И опять Борис Воротин ринулся в тайгу на защиту туземцев от русских, китайских охотников и браконьеров. Много приключений пережил он, много раз на него поднимали руку браконьеры, торговцы, вступал он в перестрелку и с белогвардейцами.
— Идари! Иди сюда с детьми! — продолжал кричать Пота.
Эхо разносило его голос по лесу, спускалось по крутому боку сопки и исчезало в водном просторе, как обрезанное ножом.
— Сейчас придут, — сказал Пота, оборачиваясь к Воротину. — Пиши: я хозяин, жена есть, двое детей. Четыре рта.
Борис Павлович записал, он поверил на слово.
На сопке раздались голоса, зашуршали листья, и вскоре показался Дэбену, за ним Боня. Мальчик и девочка со страхом смотрели на русских.
— Сын и дочь, — сказал Пота.
— Хорошо, Пота, я записал тебя, — ответил Воротин. — Почему ты только свою семью позвал, почему других не позвал?
— Как я позову? Муж сам должен звать свою жену, отец сам должен звать своих детей.
— Зачем вы запрятали их в тайге?
— Как зачем? Вдруг война.
— Кончилась год назад война.
— Может вернуться. Мы думали, она опять началась.
— Может вернуться, ты прав. Охотники, друзья, — обратился Воротин к мужчинам, — позовите всех женщин и детей. А пока они идут, я буду записывать вас и сколько у кого в семье едоков. Пота, говори.
Пота назвал Пачи, на пальцах сосчитал членов его семьи.
— Отец Богдана, хотя ты говоришь по-русски, знаешь их обычаи, не забывай и наши нанайские, — тихо промолвил Пачи. — У нас всегда считалось за грех на пальцах считать детей. У меня их немного, мне нелегко с ними расставаться, если они после этого умрут.
Пота растерянно примолк.
— Я забыл, отец Онаги, заговорился, — пробормотал он заикаясь. — Не буду больше, пусть он сам считает.
Пота больше не считал, он называл главу дома и перечислял членов семьи по именам.
Женщины и дети вышли из лесу и бесшумно разбрелись по своим хомаранам. Только любопытные мальчишки обступили русских и с расширенными от удивления глазами наблюдали за карандашом Воротина, который оставлял след на чистой белой бумаге. Такое они видели впервые. Родители объясняли им, что русский записывает их имена в долговую книгу, что теперь они всю жизнь будут платить новой власти свой долг. Но мальчишек это нисколько не беспокоило, они следили за палочкой усатого. Не следы заворожили мальчишек, а то, что они петляли сразу же после слов Поты: скажет слово Пота, и тут же эти слова оставляют след на бумаге; назовет он имя охотника, а палочка уже торопливо бежит по белой бумаге, петляет, точно заяц перед лежкой. До чего это было удивительно! Слова Поты оставляли след на бумаге. Кто бы такое мог подумать! Утка летит по небу — не оставляет следа, слово, вылетевшее из рта, тоже не оставляет следа — так всегда все думали. А тут совершалось чудо!
— Всех записали, никого не забыли? — спросил Воротин.
— Всех. Другие в Джуене живут, — ответил Пота.
— Там мы уже были. Теперь берите мешочки под муку и крупу и идите на пароход.
Мешочки были у всех, у одних с зелеными и красными клеймами Америки, у других с японскими иероглифами — пудовые мешочки времен гражданской войны и интервенции.
Охотники столпились у сходней, никто не осмеливался первым подняться на пароход: кто-то пустил слух, что русские хотят заманить их на пароход и увезти. Поте пришлось и тут быть первым, он поднялся на пароход и исчез за дверями. Охотники замерли, тревожно клокотал никотин в их пустых холодных трубках. Женщины с малыми детьми застыли, как каменные изваяния, в стороне, между деревьями. Идари стояла среди них, прижав к себе дочь. Сколько прошло времени в тревожном ожидании — никто не заметил. Молчали люди, замерла тайга, пароход черной громадиной заснул на воде. Вдруг люди одновременно глубоко и облегченно вздохнули: из железного чрева парохода вышел живой улыбающийся Пота, он нес пудовый мешок муки на плечах и мешок с крупой под мышкой. Он спустился на землю, сказал:
— Идите, чего заставляете человека ждать.
Охотники переглянулись, посоветовались между собой и решили идти к усатому по одному: мало ли что могут сделать русские, может, Поту они отпустили в надежде, что за ним побегут все охотники, как кабаны, табуном, тогда они захлопнут железные двери и все окажутся в ловушке. Осторожность никогда не была излишней для охотников.
За Потой поднялся на пароход Токто и тоже возвратился с мукой и крупой.
— Верно, он выдает по бумаге, — сказал он, — смотрит, сколько у кого едоков, по имени всех считает.
— Теперь и дети и жены — все должники, — сказал кто-то.
— Кто их поймет, я ничего не понимаю, — пробормотал Токто.
Охотники один за другим поднимались на пароход и возвращались с продуктами. У сходней их встречали жены и дети с сияющими лицами. Вскоре возле каждого хомарана запылали костры, запахло лепешками, подгорелой кашей.
— Разучились кашу варить, — добродушно посмеивались охотники над женами.
Они собрались возле костра Токто и Поты, пригласили в круг Воротина, Короткова, капитана с матросами. Теперь русские были желанными дорогими гостями. Для них вынесли из хомаранов жесткие кабаньи шкуры, настелили на траве, а поверх положили мягкие шкуры лосей — сидите, дорогие гости, угощайтесь. Поставили перед ними миски с ухой, с кашей, пресные лепешки.
— Э, так не выйдет, чего вы нашей кашей нас угощаете? — возмущался Короткое. — Беречь надо продукты, а они, вот те на! Кашу нам сварили. Надо учиться бережливости, зачем зря транжирите!
Воротин улыбался, он подталкивал в бок Короткова, мол, уймись, попытайся понять сидящих перед тобой людей. Чем они тебя, самого дорогого гостя, могут угостить, если не твоей мукой и крупой? А ты «зачем зря транжирите!».
После еды матросы принесли мешочек сухарей, с десяток пачек махорки и все положили перед охотниками.
— Это все, чем мы можем вас отблагодарить за гостеприимство, — сказал Борис Павлович. — В следующий раз приедем — будем побогаче, в этом я уверен.
Охотники закивали — спасибо за добрые слова. Распечатали пачки махорки, и все закурили. Курили охотники, курили их жены, невестки и дети, курило все стойбище.
Матросы принесли гармошку-хромку, балалайку-трехструнку и, к несказанному удивлению взрослых, радости ребятишек, заиграли на них весело и задорно. Потом они запели, их поддержали капитан с Воротиным и Коротковым. Звуки музыкальных инструментов ладно сливались с голосами поющих и напомнили охотникам утренние голоса птиц, шелест листьев, звон ключей, когда все эти звуки сливаются в единую нерасторжимую песню земли. После веселой песни гости запели что-то трогательно грустное. Пота прислушивался к словам песни и кое-как понял, что поется о замерзающем в тайге ямщике. Он с грустью подумал, что ямщик, будь он охотником, не замерз бы в тайге, разве можно здоровому, сильному человеку замерзнуть в тайге, когда кругом деревья? Потом ухо его уловило незнакомое слово «степь». Ему стало грустно, но не от того, что умирает здоровый, сильный ямщик в какой-то незнакомой степи, а от того, что струны балалайки напомнили ему про Амур, про телеграфные столбы и натянутые между ними тугие железные нити. Пота вспомнил родной Амур, покойного отца, сына Богдана, который ушел от него и живет на Амуре у Пиапона.
— Эх, жаль, поплясать места нет, — сказал один из матросов.
— Времени мало, — возразил Воротин. — Давайте, братцы, закругляться будем. Вы там готовьтесь к отходу, — сказал он капитану и обратился к Поте: — Теперь последнее дело к вам. Пришла советская власть, а у вас никакой власти нет. Надо выбрать местную власть. Председатель Совета будет здесь главным представителем советской власти. Там, где есть многочисленный род, мы организуем родовой совет. Так нам говорили и в Дальревкоме. У вас здесь один род?
— Нет, здесь нас много, есть Киле, Бельды, Гаер, Ходжер, — ответил Пота. — Вот мой брат Токто, он один Гаер. Что, он один будет совет?
Борис Павлович много поездил по Амуру и хорошо знал, что роды распались, остались в неприкосновенности только законы рода. В нанайских стойбищах проживали люди разных родов, и об организации родовых советов у нанайцев не могло быть и речи. Об этом он говорил и в Дальревкоме. Но нашлись там «знатоки», они заявили, что Советы у гольдов надо организовать только по родовому и племенному принципу.
— Родовой Совет как организуешь? — продолжал Пота. — Мы здесь все вместе пока вода большая, как воды станет меньше, мы разъедемся по своим стойбищам. Как Совет получится?
— Пока здесь организуем Совет, — ответил Воротин после раздумья, — потом посмотрим. Позовите женщин.
— Зачем женщины? — удивились охотники.
— Советы будем организовывать, людей выбирать.
— Женщины не присутствуют, когда избирают старейшину.
— Мы избираем Совет, а не старейшину. По советским законам женщины тоже выбирают в Совет.
— Женщина не выбирает, она не охотник, она не кормилец семьи, — упрямились охотники.
Упорство охотников тоже не удивило Воротина, все это он встречал у тунгусов, у амурских гольдов, гиляков, ульчей.
— Если ты так настаиваешь, то можешь собрать женщин, — сказал Пачи. — Мы отойдем, ты выбирай с ними Совет.
— Женский Совет? — усмехнулся Воротин.
— Так выходит.
Нет, Воротин не собирался организовывать отдельно мужской и женский Советы, но и упрямство охотников он не знал, как сломить. Пришлось ему уступить упрямым озерским нанайцам, выбирать Совет без женщин. Охотники стали выдвигать в Совет самых уважаемых белоголовых старцев. Когда Воротин опять разъяснил, что Совет — это не совет старейшин, а советская власть, что в Совет можно избирать и молодых, они снова запротестовали и заявили, что пусть сначала молодые подрастут, наберутся ума-разума.
Председателем Совета охотники Хурэчэна избрали Токто.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Русские слова «ярмарка», «базар» ничего не объясняли охотникам. Только после того, как знатоки русского языка растолковали их, заменив доступными для понятия словами «обмен» и «торговля», охотники стали собираться в Малмыж, где открывалась эта неизвестная ярмарка. Из меховых сумок они доставали последние шкурки выдры, лисиц, колонков и белок, припрятанные на черный день.
Охотникам объявили, что на ярмарке будут впервые торговать советские торговцы, которые назывались очень мудрено — кооператоры. Говорили, что эти кооператоры будут покупать шкурки по высокой цене, а за пушнину выдавать больше муки, крупы, сахару и боеприпасов, чем китайские и русские торговцы прежде.
Няргинские охотники не спешили: им до Малмыжа ехать, трубку выкуришь — и там будешь. Да и о ярмарке они мало думали — какое тут веселье, когда сидишь на узлах и каждое утро со страхом ждешь, что вода вот-вот подползет к дверям дома. Некоторые уже прямо с порога садятся в оморочку и выезжают на рыбалку. Оморочками и лодками окружено каждое жилье. Няргинцы теперь ходят в гости друг к другу по узкой полоске песка, пьяный по ней не пройдет, не замочив ног.
Калпе, как и в молодости, каждый день заглядывал в гости к Пиапону; придет, выкурит трубку, побалагурит и, позабыв о возрасте, начинает барахтаться с семилетним Иваном.
Но сегодня он сильно озабочен, сидит на табурете у дверей и пыхтит трубкой, извергая синий дым. Пиапон и его домашние знают, что беспокоит его, но тоже молчат.
— Сколько ей лет? — наконец спросил Пиапон.
— Мы подсчитывали с Дадой, что-то двенадцать или тринадцать, — ответил Калпе.
— Время как быстро бежит, — вздохнула жена Пиапона Дярикта. — Мару уже невеста, подумать только, сватают ее.
«Да,, время, время, — думал Калпе, — сыну Кирке уже восемнадцать, жену ему надо. Где теперь денег добудешь на тори? Один выход, надо за Мару требовать тори, чтобы потом на них купить жену Кирке».
— Поступай как лучше, — сказал Пиапон.
— Ты старший, ты должен посоветовать...
— В большом доме вас трое взрослых, да Кирка и Хорхой уже взрослые, ты с ними советовался?
— Что с ними советоваться? Не советовался и не буду.
Пиапон знал, что после смерти отца большой дом распался и три семьи в нем живут отдельно друг от друга, имеют свои амбары, отдельно едят, отдельно промышляют в тайге. Он сказал:
— Надо все же спросить Дяпу и Улуску, что они думают. Улуска отдал свою дочь Гудюкэн за тори, Дяпа дочь свою Дяйбу тоже отдал за тори, надо с ними посоветоваться.
— Но ты за Миру не брал тори?
— Не брал.
— А почему не брал? Почему не говоришь об этом?
— Когда отдавал Миру, тогда говорил: дочь моя не собака, я не продавал ее, она полюбила Пячику и сама вышла за него.
— У тебя всегда все просто, а мне надо Кирку женить. Где деньги достать?
— Бери за Мару тори, кто тебе запрещает.
Калпе с малых лет подражал любимому брату, он во всем хотел походить на него, ни в мыслях, ни в поступках не хотел отставать. До сегодняшнего дня все вроде получалось ладно, он ни в чем не расходился с братом, если не считать того, что не построил себе деревянного дома. Но как ему теперь быть? Он вынужден продать дочь, взять тори, хотя тоже не считает ее собакой и не хочет продавать за деньги. Если бы в тайге зверя было больше, Калпе не стал бы брать за дочь тори, он с сыном своими руками заработал бы денег.
«А что если отец будущей жены Кирки согласится отдать дочь без выкупа?» — вдруг подумал он и тут же одернул себя: на Амуре не было случая, чтобы родители отказались от тори, один Пиапон отказался.
— «Бери, бери», — раздраженно проворчал Калпе. — Думаешь одно, а говоришь другое. Чего кривишь душой?
Пиапон промолчал. За порогом раздались шаги, открылась дверь, и вошел Богдан.
— Вода сегодня не поднимается, — сообщил он.
— Хоть бы остановилась, так не хочется переезжать в летники, — сказала Дярикта. — На таежной стороне камни, хомараны не поставишь как тебе хочется. Комаров много.
Калпе вышел на крыльцо: он понял — продолжать разговор бессмысленно. Когда он спускался с крыльца, в дверном проеме появился Пиапон.
— Много у тебя шкурок? — спросил он.
— Откуда они?
— Вот что. Побереги муку и крупу, которую Воротин дал, ужмись, а шкурки продай за деньги новым торговцам на ярмарке.
— Ты советуешь не брать тори?
— Ты же сам так думаешь.
— Долго нам с Киркой придется копить деньги...
— Ничего, подождет. — Пиапон поглядел на свой водомер-палочку: — Правда, вода сегодня не прибыла. Можно ехать на ярмарку.
Утром все стойбище оживилось враз, охотники собрались на ярмарку, как на осеннюю путину. Вся узкая полоска песка занята людьми, они копошились возле своих лодок и оморочек. Многие уже столкнули лодки.
— Эй, отец Нипо! — кричал Калпе проезжавшему мимо Холгитону. — Побольше бы лодку тебе надо, эта не поднимет всю муку, которую ты обменяешь на шкурки.
— Ничего, — ответил усмехаясь Холгитон. — Часть муки я положу в твою лодку, тебе-то все равно нечего обратно везти.
Охотники покатились со смеху, смеялся и Калпе, он любил острую шутку.
Лодки одна за другой выезжали из Нярги, гребцы старались вовсю, вода кипела под их веслами.
Малмыж встретил их многоголосым шумом и криком. Здесь собрались охотники со всех ближайших стойбищ: никто не помнил, чтобы собиралось сразу столько людей. Хулусэнские встретились с родственниками из Хурэчэна, чолчинские обнимали няргинских, болонские — туссерских. Всюду обнимались, целовались охотники, всхлипывали их жены. Калпе пристал к берегу вместе с Пиапоном, и к ним уже спешили Токто, Пота, Гида с женами и детьми.
— Как хорошо, что новая власть придумала эту ярмарку! — кричал Токто, обнимая Пиапона. — Хорошая власть!
На Богдане повисли мать с сестренкой. Он обхватил их за талии и закружил.
— Хватит, хватит, сын! — кричала Идари. — Голова закружилась. Ой!
Долго обнимались и целовались няргинцы с озерскими, потом побрели к церквушке, возле которой торговцы раскинули свои лавки. Прошли они мимо лавки Саньки Салова: никто из них не знал, где теперь Салов. Богдан, когда был в Николаевске с партизанами Тряпицына, слышал только, что Санька Салов будто бы еще перед партизанской войной уехал с молодой женой в Японию. Но где бы ни пропадал молодой торговец, лавка его в Малмыже продолжала работать, приказчик откуда-то доставал продовольствие, товары и бойко торговал.
— Заходите, заходите, друзья! — приглашал приказчик. — У меня самые лучшие товары, самые лучшие-с! Честно говорю-с, без обмана. Американские товары. Прошу, друзья, прошу-с!
Но охотники проходили мимо, им не терпелось взглянуть поскорее на советских торговцев-кооператоров.
В небольшом, на скорую руку сколоченном из досок домике, рядом с частниками, торговал кооператор. Это был молодой рыжеватый парень с симпатичным лицом, густо усеянным веснушками. Голубые его глаза перебегали от одного охотника к другому, губы безостановочно шевелились. Он что-то говорил, но Калпе ничего не мог понять за гамом и шумом охотников. Он видел на прилавке добротные штуки материи, на полках муку, крупу, сахар, леденцы.
«Не хуже, чем у Саньки», — удовлетворенно отметил он про себя. Охотники тоже одобрительно отнеслись к советской лавке и с любопытством щупали материю.
— Ничего, такие же товары, как и у Саньки.
— Э-э, такой материи нет у Саньки.
— Зато у болонского китайца есть.
— Мука-то белая, нет ли у него другой, которая подешевле?
— Крупа, смотри-ка, трех сортов.
— Дробь, видишь, дробь крупная. Картечь...
Новый торговец принимал у чолчинского охотника Бимби Актанки связку дымчатых белок, желтых колонков и рыжую лису. Охотники примолкли, они заглядывали в глаза кооператору, пытаясь понять, что он думает о принимаемом товаре.
Кооператор, по всему было видно, знал хорошо свое дело, он быстро перебрал связку шкурок, заметил все изъяны, оценил мастерство обработки и объявил наконец цену. Охотники замерли от неожиданности — никогда ни китайские, ни русские торговцы не оценивали так высоко белку и колонка.
— Сколько, сколько он сказал? — спрашивали задние и, узнав цену, передавали другим, стоявшим за дверью.
— А как мука и крупа у него оценивается?
Мука и крупа стоили дешевле, чем у торговцев-частников. Теперь уже никто не мог молчать, охотники заговорили все враз.
— Что я говорил? А? Что я говорил? — размахивал рукой Бимби Актанка. — Наша власть, народная, мы за нее с белыми воевали. Она с нами по-честному торгует. Я это всем говорил, а мне не верили. Теперь верите? Я вам говорил, я знал...
Калпе вместе с Бимби Актанкой был в одном партизанском отряде Глотова, ходил на Де-Кастри. Бимби-всезнайка — так прозвали этого веселого, безобидного человека, единственная беда которого заключалась в его любви похвалиться. Хотя, выставляя себя, он никогда, при этом никого не обижал.
— Зовут этого советского торговца Максим Прокопенко, — тараторил Бимби-всезнайка. — Я это давно узнал, я первый узнал. Он не русский, он украинец...
Мало кто слушал Бимби, охотники совещались между собой, спорили. А Калпе подсчитывал, сколько получил бы он муки и крупы за свою пушнину, если брать продовольствием. Но как он ни бился, подсчитать ему так и не удалось.
— Хорошо, что китайские торговцы не приехали, — услышал он чей-то голос над ухом.
— Не приехали! Оставят они нас, жди, — сердито ответил другой. — Они на краю села свои палатки раскинули.
— Не пойдем к ним, нам выгоднее этому советскому продавать.
— А про долг свой забыл? Как с долгом быть?
Калпе пробрался к выходу, отошел в сторонку и сел на траву в тени. Солнце подходило к зениту и беспощадно палило землю. Калпе закурил и стал наблюдать за русскими и нанайскими женщинами, покупавшими в советской лавке материю. К ним подошел человек в полувоенной форме с наганом в потрепанной брезентовой кобуре. Калпе никогда не встречался с ним в Малмыже и потому все внимание обратил на него. Человек с наганом ходил по площади, подходил то к одной, то к другой группе охотников и малмыжцев, перебрасывался двумя-тремя словами и шел дальше; было заметно, что он скучает от безделья. Вскоре Калпе потерял интерес к нему и вновь принялся подсчитывать стоимость своих шкурок.
— Э, да это же Калпе! — раздался над ним знакомый голос.
Калпе поднял голову и увидел своего болонского приятеля Сапси Одзяла.
— Чего ты сидишь, Калпе? — заговорил Сапси. — Кругом такое веселье, столько людей, а ты в тени отсиживаешься. Смотри, сколько тут наших знакомых, сколько женщин. Ярмарка — это праздник, понял? А раз праздник, то надо праздновать...
От Сапси попахивало водкой, и этот знакомый запах тревожно-ласково щекотал нос Калпе. «Где он достал водку? — подумал Калпе. — Говорили, советская власть не разрешает спаивать охотников, на ярмарке не будет водки. А Сапси где-то раздобыл».
На площади опять появился человек с наганом. Заметив это, Сапси замолчал и сделал вид, что не замечает его.
— Кто он такой? — спросил Калпе.
— Это милиционер, — ответил Сапси, — все равно что жандарм, только советский. Пьяных не любит, ловит их. Где водку найдет, отбирает. Ты его бойся.
— А чего бояться? У меня нет водки.
— У меня есть, пойдем. Давно мы с тобой не виделись, потому надо выпить.
Калпе не против был немного выпить, давно он не пробовал водочки, даже вкус позабыл. Он зашагал вслед за приятелем в левый конец села. Сапси завел его в русский дом, в котором он остановился, и стал угощать китайской водкой.
«Где он достал?» — опять подумал Калпе, но тут же забыл об этом. После третьей чашечки он стал рассказывать Сапси о домашних делах.
— Дочь без тори выдам, как выдал ага-брат, буду копить деньги на жену Кирке, — хвастался Калпе. — Никто не выдает свою дочь без тори, только я да ага, больше никто. Понял? Вот в этом мешочке шкурки, — Калпе вытащил из-за пазухи чистый полотняный мешочек с пушниной и помахал перед носом приятеля. — Эти шкурки я продам советскому торговцу, а деньги спрячу в сундучок. Буду копить деньги, куплю сыну жену...
Сапси поднял пустую бутылку, повертел перед носом Калпе.
— А мне нечем тебя отблагодарить, — огорченно сказал он. — Так нельзя, какой же я нанай, если твою водку выпил и не поставлю свою? Ты скажи, где достать?
— Где ее достанешь? Советский торговец не продает, а милиционер не разрешает торговать водкой другим. Где теперь найдешь?
— Но ты нашел где-то.
— Я-то нашел, захочу — еще найду.
— Ну найди, чего ждешь? Я заплачу, шкурки есть, хватит на бутылку водки. Ну, веди меня.
— К китайцу У надо пойти.
— К китайцу или русскому, все равно. Веди.
Калпе и Сапси вышли во двор. Слабый ласковый ветерок подул с Амура. Калпе глубоко вдохнул прохладный воздух и остановился, что-то вспомнив.
— Обожди, ты сказал китаец У? — спросил он.
— Да, болонский, наш торговец.
Калпе стоял в нерешительности, он не хотел встречаться с болонским торговцем, которому был должен. Сапси взял его под руку и сказал:
— Знаю, ты думаешь о своем долге, но сегодня в праздник. У ни у кого не требует долга. Понял? Ты ему только за водку заплатишь. Пошли, не бойся китайца.
Калпе послушно пошел за приятелем. Болонский торговец поставил в конце села большую палатку, где жил с семьей, а товары свои выставил на траве.
— А, Калпе пришел, — воскликнул старый торговец, увидев Калпе. — Хорошо, что ты не забываешь меня, старика. Очень хорошо. Отец твой, старый Баосангаса, никогда не проходил мимо меня. Очень хороший был твой отец. Так чего ты хочешь у меня купить? Выбирай. Можешь сейчас платить за покупку, можешь в долг взять, сегодня все можешь, потому что праздник, ярмарка. О, у нас в Китае не такие ярмарки устраивают! Разве это ярмарка! Никакого веселья, огней разноцветных не пускают, из пушек не стреляют, украшений нет. Нет, это не ярмарка. Так чего ты будешь брать?
— Водку давай, — сказал Калпе. ; Старый торговец переглянулся с Сапси и, будто испугавшись чего-то, замахал руками.
— Ты что, Калпе, какая у меня водка? Откуда водка? Ты еще иди этому советскому жандарму скажи, что у меня водка. Ты бы хоть моих жен, детей, внуков пожалел. За водку теперь в тюрьму сажают. А-я-я, как ты так? О водке теперь и говорить-то страшно. ;
— Есть у тебя водка. Продай. Никому не скажу.
К палатке китайца подходили все новые и новые охотники, все они просили водку.
— Встретились здесь, долго не виделись, как без водки обойтись, — умоляли они китайца. — Продай, шкурками тебе заплатим.
— Вот вам новая власть, — отвечал У. — Вот какая она, даже выпить при встрече с родственниками не разрешает. Почему не разрешить людям выпить? Не пойму. Нехорошо поступает эта власть, очень нехорошо. Не могу я продавать водку, за это меня в тюрьму посадят...
Сапси взял Калпе под локоть и повел кустарниками в душную тайгу. Они далеко отошли от села, не стало слышно голосов охотников у палатки торговца. Внезапно перед Калпе открылась маленькая солнечная полянка. Здесь в плотном кругу сидели охотники со всех стойбищ.
— Калпе, садись сюда, рядом со мной садись, — позвал его Холгитон. — Я же тебе говорил, ничего домой не привезешь, а ты не верил. Я тоже ничего не привезу, все шкурки отдам за долг, потому что мне тут, в тайге, стыдно пить водку У и о долге помнить. Отдам я ему долг. Тайга — это совесть наша.
Баосангаса — к имени умершего у нанайцев по обычаю прибавляется суффикс «нгаса».
Калпе сел рядом с Холгитоном, ему подали чашечку подогретого на костре ханшина.
— Тебя Сапси привел? — спросил старик сосед. — Этот Сапси ходит по селу, от него водкой несет, он всех дразнит ее запахом. Многих он сюда привел.
— Почему-то он ведет сюда одних должников У, — засмеялся кто-то. — Эй, Сапси, ты нарочно выбираешь должников?
— Чего пристали к нему? Все охотники должники У, брось в толпу камень, в кого ни попадешь — все его должники.
— Русские запретили водкой торговать...
— А что в этом хорошего? Встретились люди, а выпить нечего.
Калпе подозвал вертевшегося тут же приказчика У и попросил бутылку водки. Цена водки была высокая, но Калпе не стал торговаться — стыдно торговаться, когда другие брали по такой же цене. Калпе взял чашечку и стал подносить водку охотникам, сперва старшим, потом тем, кто помоложе. Не забыл он и приятеля Сапси.
— Ты у китайца зазывалой стал? — тихо спросил он.
— Водкой платит он, — улыбнулся Сапси.
— Совсем хитрый стал, любой закон обойдет.
— По-другому теперь ему нельзя, хитро торговать надо. А водку ему привозят то ли из Сан-Сина, то ли из Хабаровска. Тайком, ночью привозят и прячут. Меня иногда зовут на помощь.
— Лаодин ты — слуга, вот кто!
— Ах, лаодин так лаодин, зато я водку пью.
— На, пей, — Калпе протянул приятелю чашечку.
— Сегодня ночью мы в Болонь переезжаем, — сообщил Сапси, отпив водки. — Старик не хочет рисковать. Он уже подговорил самых уважаемых охотников, они последуют за ним в Болонь и продолжат там праздник без милиционера и без советских торговцев.
— Советские больше платят, товары их дешевле.
— Этого старик и боится, потому он уводит охотников от них.
Калпе опьянел, он смотрел на поляну и не мог понять, то ли пришли новые люди, то ли в глазах его двоилось. Мелькали новые лица, озерские, хунгаринские, мэнгэнские. Поляна зашумела пьяными голосами.
— Ты, Калпе, не думай, будто я один зазываю охотников, — бормотал Сапси. — Китаец еще подобрал людей, наказал, чтоб мы по-всякому отводили охотников от советского торговца. Понял?
— Как по-всякому?
— Так. Угрожать можно, пугать можно. Можно обманывать, можно немного напоить и сюда тащить. Совсем хитрый стал старик У. Он так и сказал, у кого есть шкурки, всех зовите.
— А я вот пойду и дам этой паршивой собаке по морде! Я все шкурки продам этому, советскому, новому. Да, кооптару...
— Ко-о-опе-ра-а-тору. Понял? Ты медленно говори.
— Зачем мне медленно? Я быстро, по морде ему...
— Его двое сыновей защищают, понял? Другие заступятся, изобьют тебя.
— Тогда я пойду к своим, возьму бутылку и пойду.
— Не ходи, Калпе. Говорю тебе как другу, нельзя ходить. Этот советский, с наганом, он свирепый, так сказал мне китаец. Он пьяных будет бить, потом отберет шкурки и посадит в тюрьму. Вот так. Понял? В тюрьму посадит, потому что ты пьян. Вот какая эта советская власть. Я думаю, это плохая власть.
— Новая власть нам муку дала? Дала. Хорошую муку. Даром дала. Сама привезла. Я думаю, это хорошая власть.
— Муку — да. Это хорошо. Но почему не разрешает водкой торговать? Это плохо. Понял?
— Понял. Я все понял. Пойдем еще выпьем. Калпе плюхнулся возле Холгитона, выпил чашечку подогретого вонючего хамшина и заснул тут же. Проснулся он к вечеру. Вокруг шумели опьяневшие охотники, они что-то доказывали друг другу, путая русские и нанайские слова. Тут же находился и старый У. Калпе поднял тяжелую голову, встряхнулся, как делает собака, вылезая из воды, и тут заметил милиционера. Тот что-то говорил китайцу, но на него наседали охотники, кричали, и Калпе ничего не мог понять. Вспомнив слова Сапси, Калпе ощупал мешочек с пушниной под халатом, мешочек был на месте, и он облегченно вздохнул. Теперь надо было скорее бежать с этой поляны, пока не заметил милиционер. Он вскочил на ноги, сделал шаг в сторону кустов.
— Тише! — закричал в это время милиционер. Калпе замер на месте и боязливо оглянулся.
— Вы, торговец У, нарушили советские законы, — громко сказал милиционер. — Вы организовали продажу контрабандной водки, напоили охотников и обобрали их. За это вы понесете наказание. А сейчас я конфискую у вас всю контрабандную водку...
Перед милиционером на траве лежало десятка два бутылок водки. Трое малмыжских парней, добровольных помощников милиционера, забрали бутылки и понесли в село.
— Вы еще виноваты в том, что ярмарка не состоялась, — жестко сказал милиционер китайцу, сверля его злыми голубыми глазами. — Вы сорвали ярмарку.
Старый торговец молчал, он сделал свое дело: почти вся пушнина, привезенная охотниками на ярмарку, теперь находилась в его мешках. Он получил пушнину за счет старых долгов промысловиков да еще приобрел новых должников. Старый У был доволен. Он уже знал, что советский торговец набрал всего лишь несколько десятков белок не лучшего качества да с десяток колонков. Если бы не охотники, старый У теперь смеялся бы над своим новым соперником по торговле. Но этого сделать было нельзя, и старик ударил сухонькими кулачками по тощей груди, сморщился, и по его лицу потекли слезы.
— Грабители, хунхузы, — забормотал У тихо, чтобы не услышал удалявшийся милиционер, но слышали окружавшие охотники. — Ограбил старого торговца, среди бела дня ограбил. Кому я пожалуюсь на него? Нигде теперь я не найду защиты.
Старик опустился на измятую траву, прикрыл ладонями лицо. Охотники растерянно молчали — они сразу отрезвели.
— Вот какая новая власть, — всхлипывал торговец. — В старое время разве мог жандарм так ограбить меня? А теперь что? Разве советская власть поможет? Кому мне жаловаться?
— Куда он денет эту водку? — спросил кто-то.
— Сам выпьет, может, продаст русским за деньги, — зло ответил торговец.
— Нехорошо все это, совсем нехорошо, — сказал старый Холгитон. — Отобрал все. Как так можно?
Тут охотники опять загалдели. Они ругали милиционера, советскую власть, которая не защищает старых людей и позволяет человеку с наганом отбирать чужую водку. Долго шумели охотники.
— Нечего нам теперь тут делать, — сказал Холгитон, — собаке под хвост эту ярмарку. Уедем все по домам.
— Правильно. Разъедемся, потом посмотрим, с кем они будут ярмарку справлять.
— Вы хорошие люди, — сказал У, вытирая мокрое лицо. — Я всегда вас любил. Эй! Принесите припрятанное, я хочу выпить с друзьями.
Приказчик юркнул в кусты и вскоре принес четыре бутылки водки. Старый У сам разливал водку и сам подавал охотникам, как это делает радушный хозяин.
— Сколько лет мы вместе живем, сколько водки выпито за это время, — продолжал он. — Дети наши имеют своих детей, а мы состарились. Мы совсем не ссорились, может, если ссорились из-за мелочи, тут же мирились. Я правильно говорю?
Старые охотники утвердительно закивали головами, молодые закричали:
— Правильно! Верно говоришь.
— У меня еще найдется водка, она находится дома, в Болони, — продолжал старый торговец. — Я думаю так, надо перенести ярмарку в Болонь, подальше от этого человека с наганом. Пусть он здесь останется, а мы будем праздновать и веселиться в Болони.
— А он не приедет туда?
— Он напьется отобранной водки и будет спать. Хоть бы сдох!
— Правильно говоришь, У, чего дома сидеть, когда праздник! — закричал Холгитон. — Я поеду к тебе, я хочу еще праздновать. Надо сейчас же выезжать, будем в Болони ночевать. Эй, Калпе, поехали в Болонь!
Калпе с Холгитоном обнялись и, шатаясь, побрели через кусты. Их догнал Сапси и сообщил:
— Милиционер отобрал водку и у Американа.
— Американа? — удивился Калпе. — Почему я его не видел? Где он продавал?
— Пусть отбирает у Американа! — закричал Холгигон. — У него, у паршивой собаки, все можно отобрать. Не жалко его. Но зачем обидели старого китайца? Он старый, как я, он давно живет на Амуре и наш друг. Говорю тебе, он старый и давно...
На берегу Калпе встретился с женой и детьми. Далда, увидев пьяного мужа, испуганно съежилась. Кирка с Мару смотрели на отца с любопытством. Возле соседней лодки сидели в тесном кругу Пиапон, Токто, Пота, Гида, Дяпа, Богдан. Они тоже выпивали.
— Эй, Калпе, где ты пропадал целый день? — окликнул Токто.
— Пил, с друзьями пил, — ответил Калпе и свалился на острые камни возле Токто. — Холгитон пил, другие пили. Только этот милиционер отобрал у китайца водку и пошел с тремя русскими выпивать. Отобрал и все. Плохой совсем этот милиционер.
— Ты продал шкурки? — спросил Пиапон.
— Шкурки? Зачем? Не продавал. Я повезу их в Болонь, так мы все решили. Сказали все, уедем в Болонь, подальше от этого плохого милиционера. Поехали, а?
— Кто это сказал?
— Все сказали. Видишь, все собираются. Поехали, в Болони будем ночевать. Жена! В Болони будем ночевать. Все едут, мы тоже поедем.
Токто подал Калпе чашечку водки.
— Если все едут, чего нам тут сидеть? — сказал он. — Поехали, ближе к дому будем. Пиапон, ты проводишь нас в Болонь, там еще выпьем. У этого хитрого китайца всегда водка найдется.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Первая ярмарка, организованная советской властью, сорвалась. Охотники переехали в стойбище Болонь и здесь продолжили праздник на свой лад. Пьянствовали они еще два дня.
Богдан в эти дни находился возле отца и матери, чтобы не огорчать их, немного выпивал, хотя ему до тошноты был противен китайский ханшин.
— Женись, сын, внуков хочу нянчить, — в который раз повторяла Идари. — Чего ждешь? Невесту не подыщешь?
— Не тороплюсь я, подождем еще, — отвечал Богдан.
— Жди, пока не состаришься! — сердилась Идари.
Ее поддерживали все: отец, Токто, Гида. Богдан только посмеивался. Жениться он пока не собирался, дорогих шкурок соболей, лисиц, выдр у него не было, и теперь никто не говорил, что он самый богатый жених на Амуре. Но даже если бы шкурки на тори и были, Богдан не стал бы жениться. Часто он вспоминал про свои беседы с доктором Храпаем и с командиром Глотовым; они неустанно твердили, что с приходом советской власти жизнь нанайского народа изменится, а Богдан должен выучиться, стать грамотным человеком и помогать своему народу строить новую жизнь. Богдан хотел учиться и поэтому не торопился обзаводиться семьей. Он замечал стыдливые взгляды девушек, откровенно призывные молодух, но старался держаться подальше от них. В Болони Богдан вновь встретился с Гэнгиэ, второй женой Гиды, и опять красавица Гэнгиэ удивила его. Вечером, когда опьяневшие охотники уснули вповалку в доме ее отца Лэтэ Самара, она подошла к нему, взяла его руку и молча начала гладить. Руки ее были теплые, мягкие и чуть дрожали.
— Ты совсем изменился, — сказала она после долгого молчания.
— Состарился? — спросил Богдан.
— Нет. Ты стал совсем мужчина. Ты много пережил на войне.
— Не говори о войне. Зачем ты подошла ко мне?
Гэнгиэ посмотрела ему в глаза, лукаво улыбнулась.
— Боишься? А еще воевал. Подошла, потому что хотела подойти. Я не боюсь, как ты.
— Тебя муж избаловал.
— Может, избаловал, может, нет, но я не ооюсь его, он сам боится меня. Ты слышал, он из-за меня от партизан убежал, домой вернулся.
— Зачем ты напраслину говоришь?
— Все знают, все над ним подсмеиваются.
Гэнгиэ вдруг обняла Богдана, прижалась, но тут же отстранилась и ушла. Богдан растерялся, он почувствовал себя в чем-то виноватым перед своим другом Гидой, и в то же время нежная, красивая Гэнгиэ стала ему неожиданно близкой и желанной.
На следующее утро он проводил родителей и Токто с Гидой. Гэнгиэ на прощании не отводила от него глаз и сидела грустная, сжавшись в комок, словно птица в ненастье.
— Может, приедешь в гости? — спрашивала Идари. — На охоту съездили бы с отцом. Приедешь? Ты совсем стал забывать нас. Мы все скучаем по тебе.
— Он уже взрослый человек, — говорил Пота. — Если любит нас, приедет. Чего ты пристаешь к нему? Сам он все знает.
В тот же день Богдан вернулся с Пиапоном в Нярги и вечером уехал с ночевкой на рыбалку. Он выставил сети и поехал острогой бить сазанов. Ему не везло, только один сазан попался на острие остроги, другие успевали увильнуть и уплывали.
При свете костра Богдан поел талы, похлебал ухи и залез под накомарник. Когда лег, вспомнил Гэнгиэ. Вспомнил ее нежные руки, приятный голос, увидел перед собой ее печальное красивое лицо. «Ты много пережил», — говорила Гэнгиэ.
Да, Богдан много пережил, много видел вокруг смертей, но неужели только из-за сострадания Гэнгиэ обняла его? Просто из-за жалости? Тогда это жестоко, только из-за жалости ласкать и обнимать молодого человека. Да, он полюбил Гэнгиэ, он понял это, когда прощался с ней, когда увидел ее грустное прекрасное лицо. Но Гида может не беспокоиться. Богдан не станет отнимать жену у друга, не будет ее соблазнять.
«Ты много пережил», — вновь услышал Богдан голос Гэнгиэ и, чтобы отвлечься от мысли о ней, стал вспоминать друзей-партизан, бои с японцами.
Проходят годы, и из памяти Богдана исчезают многие подробности похода на Николаевск. Он начал забывать о встречах с людьми на пути в Мариинск, о тяжести расставания с Пиапоном и Токто в Мариинске, о первых столкновениях с белогвардейцами и японцами, но, по-видимому, до могилы не забудет взятия крепости Чныррах и смерть Кирбы Перменка. До сих пор стоит перед глазами восковое лицо Кирбы.
Кирбу хоронили по-партизански, из винтовок стреляли в ненастное небо. Потом наступали на Николаевск, окружили его со всех сторон и начали палить по нему из пушек.
Богдан не знал, кто сыграл главную роль — артиллеристы или лыжники-партизаны, которые каждую ночь тревожили японцев и белогвардейцев. Вскоре Богдан услышал о начавшихся переговорах, о том, что японцы, несмотря на возражения белогвардейцев, без боя сдают город. 28 февраля 1920 года партизаны вошли в город.
Богдан вместе с другими вылавливал офицеров, присутствовал при освобождении заключенных из тюрьмы. Здесь он узнал, что навсегда потерял и второго своего приятеля — парламентера Орлова, — белые его замучили. Товарищи — негидалец Кешка Сережкин и ороч Кондо Акунка разделяли его скорбь и не отходили от него, сочувствовали его горю.
— В тайге самый злой зверь лучше этих белых, — говорил Кондо по-своему. — Застрелили бы сразу, зачем было так мучить?
— Это не люди, потому их надо уничтожать, — сказал Кешка.
Через несколько дней Богдан проводил по домам своих боевых товарищей. Первыми отпустили из отряда негидальцев Кешку Сережкина и Николая Семенова.
— Война кончилась, дома дела ждут, — говорили они на прощание. — Ты, Богдан, если мы понадобимся, позови, мы обязательно придем. Позови обязательно.
Богдан тогда сам не знал, кончилась война или нет. Партизанские командиры говорили, что в Де-Кастри лыжники ничего не могут поделать с отрядом полковника Вица, засевшим в ожидании весны за толстыми стенами маяка. Да и японцы еще находились в Николаевске. В их руках были Хабаровск и Владивосток.
Доктор Храпай — самый близкий Богдану человек — растолковывал молодому охотнику происходившие события, много рассказывал о Ленине. Потом, когда говорили о большевиках, Богдан всегда представлял Ленина, вождя большевиков. Когда говорили о советской власти, перед ним опять возникал Ленин, портрет которого впервые удалось увидеть в Николаевске. Ленин и советская власть — так же неразрывно, как Ленин и большевики.
Партизаны лыжного отряда один за другим покидали Николаевск и уходили по домам. Десятого марта Кондо Акунка разбудил Богдана и сказал:
— Я ухожу, Богдан, по снегу легче добираться в Тумнин. Ты бы тоже лучше ушел, чего тебе тут делать?
— Лета дождусь, на пароходе уеду, — ответил Богдан.
— На пароходе, наверно, хорошо. Я бы хотел приехать на Амур, чтобы с Американом встретиться.
— Приезжай, поговорим.
— Только, Богдан, чувствую, что злости к нему меньше и меньше становится. Насмотрелся, как белые людей мучали и убивали, и злость на Американа стала уменьшаться. Ты понимаешь? Потому что есть люди хуже Американа. Я ненавижу этих людей.
— А Американа любить стал, так, что ли?
— Зачем так говоришь, Богдан? Американ все равно плохой человек.
Кондо обнял на прощание Богдана, они расцеловались. Из всего отряда лыжников Богдан остался один.
Обо всем этом вспомнил Богдан, лежа в накомарнике. Многое забывалось, но главное всегда будет в его сердце.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ярмарка пришлась по душе Пиапону, понравился ему и советский торговец. Но главное — веселье. За время войны народ забыл, что такое веселье, редко когда отмечались праздники, почти никто не справлял касан — отправление души покойника в потусторонний мир, потому что негде и не на что было купить продовольствие и водку. О праздниках люди не думали, у всех на уме было одно: как бы прокормиться, где бы добыть хоть немного крупы и муки.
А тут ярмарка! Пустые охотничьи мешки, пустые амбары, желудки, поджатые от частого недоедания. Но народ веселился! Веселился, потому что видел на прилавках муку и крупу, веселился, потому что за многие годы впервые встретились родственники с родственниками, проживающими в дальних стойбищах, друзья с друзьями. Советская власть организовала эту встречу на ярмарке!
Пиапон обнимал дочь Миру, зятя Пячику, друзей из Хулусэна, Диппы, Подали, Хунгари, Хурэчэна. Много друзей у Пиапона, а еще больше родственников, если начать распутывать клубок родственных связей, то, пожалуй, каждый нанай его родственник.
Когда охотники собрались в Болонь, Пиапон, не задумываясь, поехал со всеми вместе. Только на следующее утро, встретившись с милиционером, который приехал вслед за охотниками, Пиапон стал разбираться в происшедшем.
— Что будешь делать с торговцем? — спросил он милиционера.
— Сообщу куда надо, хватит ему, кровососу, народ грабить, — жестко ответил милиционер.
Торговцу У не удалось в Болони развернуть торговлю водкой, как ему хотелось, широко и вольно. Охотники остались недовольны им, но еще больше сердились на человека с наганом.
— Это советская власть? Она запрещает выпивать с родственниками при встрече?
— Может, покойников тоже без водки хоронить? Свадьбу без водки справлять?
— Эй, партизаны! Зачем такая власть? Зачем вы за нее воевали?
Охотники громко высказывали свое недовольство, а торговец У слушал эти выкрики и довольно потирал ладони. Милиционер не отходил от него, не разрешал он покидать лавку и приказчику.
— Охотника худо говори про советска власть, — потешался У. — Ухо есть, слушай надо.
Милиционер слушал, но и от торговца не отводил глаз.
— Советская власть — молодая власть, — отвечал он, сдерживая себя и не повышая голоса. — Народ здесь еще не разобрался в ней. Вот такой табак.
— Какая табака? — интересовался У. — Не понимай моя.
— Ничего, скоро поймешь.
Как ни сторожил милиционер, охотники доставали водку через сыновей и жен торговца. Вскоре они покинули лавку и разбрелись по фанзам продолжать попойку. А тут еще подоспели из Мэнгэна люди Америка на и тоже привезли водки.
— Моя сиди, а охотника все пьяна, — говорил У милиционеру и смеялся Одними глазами. — Как так, моя понимай нет. Смотри, смотри моя, все пьяна. А-я-я, совсем худо.
Милиционер тоже заметил повеселевших охотников, они уже не поносили советскую власть, да и зачем им было ее поносить, когда никто ничего толком не знал о ней. Ругали они ее под воздействием минутного настроения, оттого что хотелось опохмелиться, выпить, повеселиться с друзьями. Теперь же, пропустив по нескольку чашечек вонючего хамшина, охотники добродушно подтрунивали над милиционером, приглашали к себе в фанзы.
— Советская власть все же хорошая власть. Какая другая власть в самый голод привозила нам муку и крупу?
— Мука и крупа все равно не дармовая.
— Нет, дармовая. Не станет советская власть с первого же дня нас обманывать.
Милиционер не понимал нанайскую речь, но он сознавал, в какое смешное положение попал — старый торговец обвел его вокруг пальца, облапошил, как сказали бы друзья. Чувство стыда и беспомощности овладело им, потом охватила злость. Поглаживая кобуру, он мерил лавку торговца от одного угла до другого. Застрелить бы этого желтого старого волка, как стрелял когда-то белогвардейцев. Но теперь другое время, теперь он не красноармеец, а представитель молодой советской республики. Да и враг другой, с ним надо воевать другим оружием.
«Ну, гнида, погоди, все равно я тебя прижму», — думал он, покидая лавку: сидеть в ней не было смысла.
Милиционер разыскал Пиапона, сел рядом с ним за низкий столик в кругу его родственников. Ему подали водку, и он, поблагодарив, выпил.
— Советский жандарм выпил с нами, — сказал Токто.
— Он не жандарм, он милиционер, — ответил Пиапон и спросил гостя: — Обманул тебя старый лис?
— Обманул, — кивнув головой, ответил милиционер. — И дальше будет обманывать, потому что я один, а вы не хотите помочь.
— Сейчас тебе никто не поможет, — сознался Пиапон. — У людей праздник встречи, а праздник без водки — какой праздник? Сейчас не помогут. Ты маленько погоди...
— Пиапон, ты ему скажи, пусть он не отбирает у торговцев водку, — попросил Токто. — Он людей против советской власти этим настраивает. Неужели это он не понимает?
— А ты неужели не понимаешь, что торговец не хочет новой власти, новых торговцев-кооператоров? — спросил Пиапон.
— Маленько понимаю, не глупый.
— Советская власть отнимает власть У над охотниками-должниками.
— Должники все равно обязаны вернуть ему долги. Честные люди по-другому не могут.
Пиапон не ответил, потому что сам был согласен в этом с Токто. Но долги охотников накапливались годами, многие молодые охотники ныне расплачиваются за умерших отцов и даже дедов. Справедлив ли такой долг? Этого Пиапон не знал. Над этим еще следовало подумать, не сегодня, а позже, на свежую голову. :
— Все же этого У надо выгнать, — продолжал Токто, — он обманщик. Никогда не забуду, как он потребовал с меня долг умершего Чонгиакингаса.
«Запутанное дело, все перемешалось в голове», — подумал Пиапон и сказал милиционеру:
— Ты здесь уже ничего не сделаешь.
— Я понимаю, — ответил милиционер, — мне лучше уехать.
Милиционер уехал. Узнав об этом, старый У безбоязненно начал торговать водкой в лабазе. Подвыпившие охотники несли ему последние шкурки: одни расплачивались за долги и тут же вновь должали, другие брали водку и присовокупляли ее к старым долгам. Торговец только успевал записывать в долговую книгу.
— Калпе, ты умный, честный, как отец, — улыбался У, зачеркивая имя Калпе. — Отец твой, Баосангаса, был хороший человек. Ты в него пошел. Ты больше не должен мне, я снял твой долг. Все.
Калпе еле стоял на ногах, если бы не прилавок, он свалился бы на пол.
— Я честный, я долг отдал! Понял? Честный! — кричал он. — А ты все равно собака, паршивая, все равно... Теперь мой сын без жены останется... Кто виноват? Собака, ты виноват...
— Ты долг вернул! — закричал приказчик.
— Вернул... А все вы собаки... Жену моего сына съели.
Далда с Киркой подхватили Калпе под руки и увели из лавки. Потом Далда пожаловалась Пиапону и расплакалась.
— Глупец, — от злости плюнул Пиапон. — Умирал торговец без его мехов! Ну и голова. Что теперь сделаешь? Назад шкурки не отберешь...
Померк с этого момента праздник для Пиапона. Если даже его брат, которого он считал умным, за водку спустил всю пушнину, то другие охотники, должно быть, совсем головы потеряли. Какой же это праздник? Сегодня веселись, а завтра плачь? Отрезвятся завтра охотники и опять будут мучаться, думать, как прокормить семью, как достать на зиму охотничьих припасов.
«Новая власть, а тяготы те же, — думал Пиапон. — И торговец-обманщик тут же. Сколько так будем жить?»
Пиапон засобирался домой, чтобы не видеть, как старый У обирает охотников. Уехать надо, не обижая родственников и друзей. Но как это сделать? Можно было, конечно, сослаться на дела, если бы они были. Но Пиапон не знал даже, чем должен заниматься председатель Совета. Спрашивал он об этом однажды болонского председателя, но тот и сам представления не имел.
Помог ему Токто, он разругался с торговцем и уезжал в Джуен. За ним и Пота с Идари. Пиапон попрощался с ними, потом с дочерью Мирой и с зятем Пячикой и с легким сердцем покинул Болонь. По пути заехал в Малмыж, зашел к Митрофану Колычеву.
— Один возвратился, — сказал Митрофан по-нанайски, поздоровавшись с другом. — Зачем в Болонь убежали?
— Плохо получилось, Митропан, очень плохо. Я только там сообразил все.
— Хоть поздно, и то хорошо. А кооператоры тут забеспокоились, не понимают, почему уехали. Дружно уехали, — улыбнулся Митрофан. — Только плохо, что командовал У. Если бы ты командовал, совсем по-другому вышло бы, верно?
— Нет, Митропан, люди все выпившие, думы у всех одинаковые, праздновать хотят — тут ничего нельзя было поделать.
Митрофан все это понял сразу и как мог растолковывал кооператорам, милиционеру, но те были молоды, горячи, они хотели с ходу установить законы советской власти и завоевать уважение охотников. Возвращение облапошенного милиционера, его признания несколько остудили одних, других, наоборот, распалили, и они готовы были принять чрезвычайные меры.
— Ничего, Митропан, это только начало, — продолжал Пиапон. — Наши люди дружно встали, когда была война за советскую власть, теперь они еще дружнее пойдут за ней.
— Первый блин — комом, — сказал Митрофан по-русски.
Пиапон не понял поговорки, но не стал переспрашивать. Хозяйка собрала на стол и пригласила его кушать. За столом друзья заговорили о своих житейских заботах, о большой воде, о будущей кетовой путине и зимней охоте.
Митрофан все последние годы охотился в тайге вместе с Пиапоном и его родственниками, но нынче зимой решил «гонять почту». Пиапону хотелось пойти на лесозаготовки, у него не было уверенности, что прокормит семью охотой, но на озере Шарго не заготовляли лес со времени войны, и неизвестно было — станут ли возобновлять работы. Зима предстояла трудная, поэтому друзья много говорили о ней. Потом Митрофан начал вспоминать, как он, похоронив отца, отправился по заданию партизанского штаба в верховья Тунгуски.
Случилось это зимой 1921 года. Митрофану Колычеву дали задание обследовать, возможно ли провести обозы и партизанские отряды с Тунгуски на озеро Болонь. Партизаны хотели по этому пути перебросить на Амур необходимые боеприпасы и военные силы для освобождения Николаевска.
Митрофан никогда не ходил на Тунгуску и проводников мог набрать только среди озерских нанайцев на Харпи. На одиннадцать охотников нашлось всего три винчестера с десятью патронами, три нарты и девять собак. Пошел с Митрофаном и сын Токто, Гида. Гида долго отнекивался, находил разные причины и, наверно, отказался бы идти, если бы его жена не пристыдила.
— Я думала — ты настоящий охотник, — сказала Гэнгиэ. — Все охотники воевать ходили, новую власть ходили защищать. Знала бы я дорогу, сама пошла.
Гида вспыхнул и стал собираться. Всю дорогу он грустил, редко разговаривал.
— Жена у тебя с характером, — сказал ему как-то Митрофан.
— Она самая хорошая женщина, — грустно ответил Гида.
— Ты ее слушаешься?
Гида промолчал. Митрофан усмехнулся.
— Выходит, она верх взяла.
— Что ты понимаешь?! — вдруг рассердился Гида. — Ее все слушаются: и отец и мать, все слушаются. Все любят.
Больше Митрофан не затевал разговора о Гэнгиэ.
Маленький отряд поднимался по Симину. Снегу было мало, и собаки без труда тащили легкие нарты. По обеим берегам тянулись густые тальники, на них сидели тетерева.
— Эх! Ружье бы! Суп получился бы вкусный! — ахали охотники, с завистью глядя на черных птиц. Но ружей охотники не взяли: зачем они, когда нет ни пороха, ни дроби? Только лишняя тяжесть. Вскоре отряд вышел на реку Кур и по ней начал спускаться к Тунгуске. Встретили знакомых охотников-тунгусов.
— Война идет, большая война, — сказали охотники. — На Тунгуске много народу, стреляют. Страшно там, убить могут.
— А где красные? — спросил Митрофан.
— Никто не знает. Сегодня красные здесь, завтра там, потом белые придут, уйдут. Ничего не поймешь.
— Сегодня где красные?
— Они в тайге, мы в тайге, чего узнаешь? Позавчера они на Кукане сидели, поджидали белых. Белые пришли, красные их всех постреляли, винтовки, патроны, всякую еду забрали и в тайгу ушли.
— Куда ушли?
— Ты совсем ничего не понимаешь, русский. В тайге охотишься, а не понимаешь. В тайгу ушли.
Митрофан для маскировки был одет в охотничий таежный наряд, и тунгусы приняли его отряд за охотничью артель, но им не нравилось чрезмерное любопытство русского. :
— Много разговариваешь, — сказали они на прощание.
Добравшись до Тунгуски, отряд Митрофана стал лагерем. Охотники натянули палатку, построили два еловых шалаша, на ночь выставили караульного.
— Митрофан, люди идут, много людей, — сообщил в полночь караульный.
Колычев вышел из палатки, долго прислушивался.
— Тайгой идут, без лыж, — шептал караульный.
— Что будем делать? — спросил Митрофан, так и не услышав приближения людей. — Кто они, свои или враги?
— Как что делать? Убегать надо, три винчестера, что сделаешь? Патронов нет.
Чутко спавшие охотники сразу поднялись, взяли свои котомки и отошли на сотню метров от лагеря. Только теперь Митрофан услышал скрип снега под множеством ног, сопение усталых людей и бульканье жидкости в жестяных сосудах.
— Водку таскают, — подсказал ему Гида.
Он несколько раз бывал в этих местах с отцом и встречал спиртоносов-контрабандистов; среди них иногда встречались удэгейцы, тунгусы и нанайцы. Все они, как правило, были хорошо вооружены и могли постоять за себя. Спиртоносы прошли совсем рядом. Митрофан не видел их, но охотники по скрипу снега под ногами насчитали двадцать человек.
Охотники вернулись в палатки и шалаши, но только стали засыпать, как их вновь поднял караульный. Это опять шли контрабандисты.
— Здесь их тропа, — сказал Гида.
Утром пятый отряд контрабандистов, наткнувшись на лагерь, остановился на отдых. У спиртоносов имелись легкие японские винтовки «арисаки», пистолеты, ножи и кинжалы на ремнях.
— Кто такой? — спросил Митрофана вожак контрабандистов.
— Сам видишь, охотники, — ответил Митрофан.
— Ладно, я так просто допытываю. Бедно вы живете, даже чаем не угостите.
— Кто нынче богато живет?
— Да, верно. Бедно все живем.
Вожак контрабандистов разговорился, и Митрофан стал расспрашивать его, где достают спирт, много ли на этом зарабатывают, можно ли у китайцев купить продовольствия, потом, как бы мимоходом, узнал и о расположении белогвардейцев.
— А красные, видно, в тайге прячутся, — сказал он.
— Они в тайге, но другие красные, слышал я, всю Сибирь ослобонили, сюда вот-вот подойдут.
— Какие другие?
— Красная армия. Говорят, везде она белых бьет.
Контрабандисты угощали охотников спиртом, делились продуктами. Митрофан пил со всеми вместе, опьянел и уснул. Проснулся он вечером. В лагере появился новый человек: он допытывался, где находятся партизаны. Митрофан прислушался, и что-то заставило его насторожиться.
Вожак спиртоносов дружески попрощался с Митрофаном и оставил ему почти литр спирта.
— Зачем тебе партизаны? — спросил Митрофан пришельца, когда ушли спиртоносы.
— А тебе какое дело? — насупился гость.
— Коли нет дела, не спрашивай. На, выпей.
Тот выпил, разговорился. Митрофан слушал, и все больше возрастало в нем недоверие. Настораживала гладкая речь гостя, так не говорят неграмотный крестьяне.
— Ты, брат, темнишь, — сказал ему Митрофан. — Ты, наверно, с какой-то нехорошей задумкой ищешь партизан. Говорят, тут рядом беляки, не от них ли ты случаем?
— Тебе-то что, охотник, и незачем тебе лезть не в свое дело.
Митрофан неожиданно навалился на гостя, закрутил руки назад и, пошарив в его карманах, вытащил браунинг.
— Вот ты какой! Шпиен? Сознавайся, паскуда!
— Ты кто, чтобы допрашивать меня?
— Партизан.
Гость прикусил язык, замолчал. Ему связали руки. Ночью Митрофан сам стоял на карауле. Утром охотники снялись с лагеря, пошли искать партизан. Встретили их совсем неожиданно, недалеко от своего лагеря, передали белогвардейского лазутчика.
— Зря ты, друг, эту экспедицию затеял, — сказал командир партизан, узнав про задание Митрофана. — Зря. Не ближний это свет таким путем силы в Николаевск перебрасывать. Да и людей лишних нет тут. Повсюду идут бои, на железнодорожных станциях, в селах, в тайге. Ты слышал про Шевчука? Наш командир, он знает уже про вашу экспедицию, и его мнение я вам передаю...
Митрофану ничего не оставалось делать, он возвратился на Амур, оставив Гиду проводником у партизан.
— Ох и упрямился парень, — засмеялся Митрофан. — Слезы на глазах, не хочет оставаться — хоть бей. А нам больше некого в проводники оставить, он моложе всех.
— Ты знаешь, Гида ведь тогда сбежал от партизан, — сказал Пиапон.
— Знаю, нехорошо поступил парень.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Первым на правый высокий берег переселился из полузатопленного Нярги Полокто с сыновьями Ойтой и Гарой. Перебрался потому, что трем его лошадям не стало на острове корма.
Полокто за прошедшие годы пополнел, стал степенный, важный. Было отчего ему заважничать — дети превратились в мужчин, появились у него внуки и внучки. А самое главное — Полокто наконец-то разбогател. Никто в стойбище Нярги не имел столько лошадей, сколько у него. Ни у кого не было пилы, которой можно распилить бревна на доски. Ни у кого не было столько денег, сколько у него. Правда, говорят, что многие монеты цены не имеют, но Полокто не верил никому. Разве могут деньги потерять цену, как человек к старости теряет силы? Придет время, монеты вновь приобретут цену. Они только временно ее потеряли, пока власть переходила от белых к красным, от красных к японцам, потом опять к красным. Полокто, честно говоря, мало заботило, кто приходил к власти. Это ему что приход зимы и возвращение лета. Пока власть переходила из рук в руки, пока Пиапон и другие умники ходили воевать, Полокто приобрел трех лошадей и кучу денег.
Дом его теперь Походил на большой отцовский дом, в нем полно мужчин, женщин и детей. Все хорошо у Полокто, но была у него думка привести в дом третью жену. Первая жена Майда уже стара, пусть занимается по хозяйству, нянчит внуков и внучек. Вторая, Гэйе, признаться, еще ничего, но больно уж сварлива, приходится к ней все время подлаживаться. Была Гэйе когда-то не женщина, сгусток страсти! Вспоминает об этом Полокто и думает о молодой, такой же страстной жене. Как же ему, разбогатевшему человеку, не заиметь третью жену?! Смеяться будут охотники, скажут, скряга Полокто, деньги в гроб возьмет. Вон Американ каждый год меняет жен, одну выгонит, другую приведет, одна жена живет в Мэнгэне, другая у ульчей, третья, может, где-нибудь в городе. Американ богат, он покупает где-то водку лодками — что ему иметь пять-шесть жен! Раз плюнуть. Полокто нельзя отставать от Американа, ему надо купить молодую жену.
Когда никого нет в хомаране, Полокто вытаскивает тяжелый мешок и перебирает нанизанные на суровую нитку, как кренделя, связки древних дырчатых монет и современные, искрящиеся серебром кругляшки с жирным китайцем, николаевские и александровские рубли, старые демидовские сибирки и множество других монет, имевших хождение во времена интервенции. Полокто не разбирался в них, не знал их достоинства, но любовался гордыми профилями царей, королей и королев. Богатство свое оценивал он только на вес.
Лошади достались Полокто, можно сказать, тоже даром. Каждое лето он косил с двумя сыновьями сено для зажиточных малмыжцев, и те вознаграждали его лошадкой, надо думать, не самой лучшей. Теперь у Полокто три лошади; одна кобылица жеребая, и он к осени ждет приплода. Нынче плохо с заготовкой сена, луга все затоплены, и Полокто обкосил лесные поляны. Трудная работа. В тайге духота, солнце палит, а ветерка нет. Сена требуется много, и Полокто решил позвать на помощь родственников.
— Нынче зимой, слышал я, лес опять начнут готовить, — говорил он братьям, — будет заработок. Вот лошади когда понадобятся. На собаках столько не вывезешь леса, сколько на лошадях...
О заготовке леса Полокто нигде не слышал, ему эта выдумка потребовалась, чтобы легче было уговорить родственников. Зверя в тайге маловато, не всякий охотник промыслом прокормит теперь семью, а на заготовке леса — верный заработок. Все это хорошо знал Полокто и сам обрадовался выдумке, потому что ему редко удавалось заманить в хитрые сети людей, чаще его самого оставляли с носом. Но на этот раз все обошлось, все, кого попросил Полокто, вышли на работу, вдоволь заготовили сена, хватит и лошадям, и даже останутся излишки, которые можно будет зимой продать многолошадным малмыжцам за деньги или обменять на лошадей.
С этим сенокошением получилось так, что даже Полокто не ожидал. Когда он позвал родственников, откликнулось все стойбище.
— Чем будете косить? — спросил Полокто. — Кос нет у меня на всех.
— Не охотник ты, — смеялись в ответ няргинцы, доставая широкие и острые, как ножи, багдо.
— Хорошо ты придумал, — похвалил брата Пиапон, — лишнее сено пригодится. Может, еще кто купит лошадь.
— Ты тоже идешь косить? — удивился Полокто.
— Люди идут, и я иду.
Ссориться с братом Полокто не хотелось, как-никак Пиапон теперь председатель Совета. Еще непонятно, что означает этот Совет, но Пиапона все слушаются, всегда становятся на его сторону, он умеет сплотить людей.
Все незатопленные луговины были выкошены в несколько дней, и среди густой тайги выросли стога пахучего сена. Кроме заготовки сена, Полокто ничего больше не мог выдумать, а люди приохотились работать сообща. Тогда старший сын посоветовал пилить доски. В стойбище имелось шесть рубленых домов, и все охотники успели убедиться в преимуществах дома перед глиняной фанзой. Многие мечтали выстроить себе дом и готовили лес на Черном мысу. Но откуда они могли добыть доски на потолок, пол? Только у Полокто. Лишь у него есть продольная пила, лишь его сыновья умеют пилить доски. Правда, Гара не хотел заниматься этим не охотничьим делом, он, видно, пошел в деда и не признавал ничего, кроме рыбной ловли и охоты. Но какой сейчас лов, когда столько воды? Полокто не стоило большого труда уговорить Гару. На следующий день на берегу стояли козлы, рядом валили лес и подкатывали к ним. Заторкала пила, и на зеленую траву легли первые пахучие доски, а под козлами вырастала горка янтарных опилок.
Пилка досок обратилась в первые дни в забаву для стойбища. Взрослые один за другим менялись у пилы, дети кувыркались в опилках, обсыпали друг друга. Тут же рядом толпились жены, невестки и потешались над неумельцами-мужьями; самые храбрые из них становились за нижнего пильщика, но наверх не поднимались, нельзя, внизу стоят мужчины-охотники. Хохотали до слез.
— Доски как, на продажу? — спросил у Полокто Улуска.
— Не твое дело!
— Как не мое? Я тебе лес валю.
— Ладно, молчи. Там видно будет.
Улуска замолчал: что ему делать? Полокто хозяин пилы, захочет — продаст доски, захочет — даром отдаст. Тут ничего не поделаешь. Но водку он обязан поставить за то, что Улуска валит лес и подкатывает к козлам.
Лето — время заготовки юколы, рыбьего жира. Какая бы ни стояла вода, надо каждый день ловить рыбу. Неводами рыбы не половишь — нет суши, где можно было сделать притонение, — все затоплено. Ставных сетей имелось мало, да и старые они все — самый крупный карась без труда насквозь проходит через прелую дель. Оставалась только верная острога.
Полокто в солнечные дни выезжал на озеро Чойта, бил острогой максунов. Выезжали и Ойта с Гарой. Женщины готовили впрок черемшу, полынь, желтые тальниковые грибы, большие мохнатые дубовые и маленькие черные «ушки». Много дел у женщин, с утра и до вечера они на ногах. Вторая жена Полокто Гэйе научилась у корейцев огородничеству и теперь выращивала на грядах табак, фасоль и какие-то синие цветочки, из которых изготовляла краску для узоров на халатах.
Полокто сперва с недоверием отнесся к затеям жены, но, выкурив высушенный ею лист табака, изменил свое мнение: табак Гэйе ничем не отличался от китайского, который надо было покупать. Хотел было он заняться выращиванием табака на продажу, но тут же отмахнулся от этой затеи. Под табак земля нужна, а корчевать тайгу — это не на оморочке ездить. Чтобы копать землю, крепкую спину надо иметь. А какой нанай может похвалиться крепкой спиной? Наверно, только признанный силач Хэлэ да, пожалуй, Ойта.
Фасоль у Гэйе ползла по воткнутым в землю шестам, образовав зеленую стену. Зеленая фасоль в супе была ароматна и вкусна. Она всем нравилась. Не одна Гэйе имела огородик. У Супчуки, жены Холгитона, на грядах зрели огурцы, росли морковь, репа. Опыта у нее было намного больше, чем у других, потому что огородничеству ее научил Годо, работник Холгитона. Но и Супчуки не выращивала овощей столько, чтобы можно было оставить их на зиму. Вот почему на овощи ни одна семья охотника не обращала серьезного внимания, и только потому, что не под силу было корчевать тайгу.
Полокто выезжал с сыновьями в заливы, устраивал гон, но рыба не выходила из затопленных трав, уловы были небогатые. Однажды он заехал в дальний конец залива и там вдруг наткнулся на погибавшего лося. Он сперва не понял, почему лось бьется и не может выбраться на берег узкого ключа. Когда лось затих, Полокто подъехал и узнал причину гибели зверя: правая передняя нога таежного красавца была зажата между двумя затонувшими стволами деревьев.
— Эх ты, — сказал Полокто, похлопывая по теплой еще спине лося. — Думаешь, я поверю, что ты так глупо погиб? Нет, нас, охотников, не обманут духи, которые заставили тебя пожертвовать собой. Ты ведь бэ — наживка, это даже ребенку ясно. Привезу твое мясо, накормлю людей, и пойдет по Амуру страшная болезнь. Погубить хотят злые духи нанай, Нет, тебя я не трону.
Полокто ополоснул руку, вытер начисто. Вернувшись домой, рассказал всем о своей находке.
— Правильно ты поступил, отец Ойты, — сказал Холгитон. — Ты прав, это бэ. Никто еще не забыл, как много лет назад на реке Харпи погибло стойбище Полокан. Тогда спаслись только Пота с женой да его названый брат Токто с одной женой. Ты, отец Ойты, хорошо сделал, что не взял лося. Слушайте, молодые охотники, не ездите на этот ключ, не притрагивайтесь к таким подношениям злых духов...
Холгитон говорил легко и привычно. Он издавна считается в стойбище признанным проповедником новой, привезенной из Маньчжурии, религии. Полокто был рад, давно старый Холгитон не хвалил его, наоборот, только поносил, обзывал «жадным псом» и другими нехорошими словами. Похвальное слово Холгитона как никогда кстати теперь. Оставшись наедине с Холгитоном, Полокто спросил:
— Скажи, отец Нипо, много изменений случится при новой власти, как ты думаешь?
— Не знаю, отец Ойты. Думаю, многое изменится. Сейчас уже и то столько нового: новые торговцы с новыми ценами, бесплатно роздали нам муку и крупу, малмыжского бачика прижимают, новый жандарм водкой не разрешал торговать.
— Это плохо...
— Почему плохо? Охотники опьянели, и У начал их обманывать, старые долги требовать. Когда они трезвые были, он про долги не поминал.
— Ты в старое время старшинкой стойбища был, отец твой был халада. Почему тебя новая власть не оставила старшинкой?
— Да, да, ты это правильно говоришь. Это тоже новое, совсем необычное. Отца моего халадой поставили маньчжурские власти, меня старшинкой — русские. Как делали? Говорили, ты будешь халада, ты будешь старшинка. Все. А новая власть собрала всех мужчин и женщин...
— Женщин зря...
— Их дело, это тоже новое. Собрала всех, сказала, выбирайте сами достойных людей в Совет. Люди избрали. Теперь из самых достойных выбирайте самого достойного. А? Как? Это очень хорошо, это так же, как делается у нас в совете рода.
— Раньше было...
— Да, раньше избирали старейшину, так вы в большом доме избирали де могдани — главного охотника. У вас старейшиной дома был отец, а де могдани — Пиапон! Так? Видишь, новая власть будто подглядела, как делается в наших родовых советах.
— Тебя надо было председателем, — сказал Полокто, изображая на лице сострадание.
— Ты всегда завидовал младшему брату, — сказал старик, глядя в глаза Полокто. — Зачем завидуешь? Сам добейся, чтобы тебя уважали, как его уважают. Будь умным, если можешь. Я раньше тебе как-то сказал в сердцах, что тебе переродиться надо...
«Помнит, старая росомаха», — подумал Полокто.
— Правильно люди сделали, что избрали Пиапона председателем. Ты против этого не говори, люди тебя и так почти не уважают, совсем потеряешь их маленькое уважение.
— Хорошо, отец Нипо, — кивнул Полокто, хотя в душе был не согласен с Холгитоном и проклинал его. Правильные слова старика больно ранили сердце.
— Про новую власть я думаю много, многого ждут от нее. Этих хитрых торговцев начали прижимать, а надо их гнать.
— Кто тогда станет шкурки зверей принимать, нас кормить?
— Глупый ты, новые торговцы придут.
— Все они обманщики.
— При торговле без обмана не проживешь, это торговец У говорит.
— Тогда при новой власти разрешат наживать богатство?
— Кто их знает.
— Американ сильно разбогател на водке.
— Американ — хунхуз, и ты про эту собаку не говори при мне, слушать не хочу! А ты что? Все еще думаешь разбогатеть?
«Я уже богат», — чуть было не ответил Полокто, но вовремя спохватился.
— Думать — думаю, да что толку, — ответил он.
— Думать — не плохо. Я тоже в молодости все мечтал разбогатеть, жену из Маньчжурии хотел привезти. Теперь думаю, какой толк, женщина все равно такая же, как наши, ноги, руки и все такое женское — все одинаково. Потом думал работника заиметь. Заимел Годо.
«Он тебе детей наделал», — злорадно усмехнулся Полокто.
— Теперь куда его деть? Выгнать? Куда он пойдет? Дома оставить? Скажут, Холгитон хозяин, работника держит. Так скажут потому, что новая власть не терпит богатых. Не знаю, что делать с Годо.
— Пусть живет.
— Потом ты же будешь кричать: Холгитон богач! Какое у меня богатство? В амбаре мыши с голоду подыхают. Ты думаешь, я совсем глупый, не знаю, что думаешь о Годо, о детях моих?
Полокто побледнел, сжался. «Он мысли мои слышит!» — ужаснулся он.
— Н-нет, почему глупый? Не глупый совсем, — пробормотал он.
— Знаю, все знаю. Я теперь старик, мне все равно, что говорят, мне Супчуки не нужна. Только плохо, что ты имеешь две жены, а Супчуки, наоборот, — два мужа.
Холгитон засопел. Ему тяжело было все это высказывать, но когда-нибудь он должен был эту тяжесть сбросить. Слишком тяжелая ноша для него. Лучше высказать глупому Полокто, все же полегчает на душе.
— Да, пусть все останется как было, — вздохнул он. «Какой он непонятный человек, — думал Полокто, -как он может все это рассказывать другому? Я, когда узнал об изменах Гэйе, места не находил, избил ее до полусмерти, потом месяц не спал с ней, а он так говорит. Может, по старости это? Небось в молодости не стал бы так откровенничать».
— Ты о новой власти говорил с Богданом? — спросил Холгитон.
— Что говорить с мальчишкой! — махнул рукой Полокто.
— Этот мальчишка скоро станет судьей вашего рода. Он один из всех нанай, которых я знаю, умеет читать. Он больше всех знает о советской власти. Молодые скоро переплюнут нас, стариков. Запомни это!
Полокто кивал в знак согласия, а в мыслях откровенно издевался над Холгитоном. Особенно забавляли его привезенные стариком из Маньчжурии мио — нарисованные на ткани длиннобородые китайцы со всякими животными, которым молились; теперь у всех эти тряпки обветшали, их обгадили мухи, и они стали совершенно неузнаваемы — тряпка тряпкой. Запасов мио у Холгитона не осталось, поэтому он созетовал сородичам молиться своим пиухэ — семейному священному дереву, как молились раньше.
«Эх, Холгитон, говоришь о новой власти, а сам зовешь возвращаться к пиухэ!» — издевался Полокто мысленно.
— Хорошо поговорили, отец Нипо, — сказал он. — Много мне стало понятно, чего не пойму, опять у тебя спрошу. Богдана тоже расспрошу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Тяжелые воспоминания о николаевских событиях совсем растревожили сон. Богдан еще долго лежал с открытыми глазами, слушал шелест травы, сонное дыхание разлившейся воды и незаметно уснул. Проснулся он на рассвете, закурил, полежал, наслаждаясь теплом и табачным дымом.
Улов в это утро был приличный: четыре крупных сазана, полтора десятка желтых карасей и две щуки. В трех местах сеть порвана. Богдан без особого труда заметил, что у верхнего края сети, почти у поплавков, долго мучилась щука, в середине был сазан, а на самом низу сом оставил слизь.
Возвращался Богдан вместе с другими рыбаками, ночевавшими в своих излюбленных местах. Это были юноши, не имевшие жен, их ничто не удерживало в стойбище в душных хомаранах. Однолетки — Кирка, сын Калпе Заксора, и Нипо, сын Холгитона, уважительно встретили Богдана, не расспрашивали про улов старшего, не бахвалились своим. Кирка — шаловливый мальчишка, выдумщик всяких непристойных шуток — таким знал его Богдан.
— Вы что, не проснулись? — спросил Богдан молчавших юношей. — Расскажите что-нибудь.
— Ты, дядя, лучше расскажи, — ответил баском Кирка.
— Правда, ты много видел, — поддержал товарища Нипо.
— Ты, Нипо, научился у Годо железному делу? — словно не слыша их просьбы, спросил Богдан.
— Маленько.
— Маленько — это ничего. Ножи, топоры, ружья чинить умеешь?
— Маленько.
— Другое слово, кроме «маленько», знаешь?
Оморочки проезжали мимо затопленной релки, на рыбаков дохнуло дымом костра.
— Хорхой здесь ночевал — сказал Кирка. — Наверно, не потушил костра. Ничего, пожара не случится, кругом вода.
За релкой Хорхой снимал сети.
— Эй, молодой муж, зачем без жены ночуешь? — спросил Богдан. — Дома зачем оставляешьодну?
— У меня хоть есть что оставлять дома, а у вас и этого нет, — беззлобно ответил Хорхой и расхохотался.
— Если он с утра смеется, весь день будет смеяться, — сказал Кирка.
— Буду, чего же не смеяться. Скажи-ка, сын младшего брата моего отца, почему тебя оставили без жены?
Кирка отвернулся.
— Пропил отец твою невесту. Ха-ха-ха! Сколько тебе без жены жить, а? До старости?
Хорхой — сын Дяпы, с Киркой живет в большом доме и с малых лет измывается над младшим. Кирка привык к шуткам старшего, переносит их бессловесно, без обиды. Но на этот раз присутствие Богдана и Нипо подбодрило его, он широко улыбнулся, и выпалил:
— Твою жену Калу уведу!
— Она тебе что, собака, чтобы ты увел ее?
— Уговорю.
Богдан засмеялся и похвалил Кирку.
— Правильно, хорошо ответил. Будешь всегда так отвечать, Хорхой перестанет над тобой измываться. Испугается.
— А ты думал как? Испугаюсь, конечно. Уведет жену, где другую найду? Накоплю деньги — отец пропьет.
И Хорхой опять закатился легким, заразительным смехом.
«Весельчак Хорхой, — подумал Богдан. — Читает ли он книжку? Надо поговорить».
Привез Богдан из Николаевска единственную книжку, подарок командира и учителя Павла Глотова. Это были рассказы Максима Горького в дешевом издании. Богдан перечитал книжку от корки до корки раза два. Вернувшись домой, отдал ее Хорхою.
— Я уже позабыл, с какой стороны читать, — смутился Хорхой.
— Вспомни.
— Говорю тебе, позабыл, как надо держать книгу.
— Вспомни, — настаивал Богдан. — Теперь это пригодится.
— Вновь начинать учиться?
— Если позабыл, начинай сначала.
— Мальчиком не понимал, теперь совсем не пойму. Да и стыдно этим заниматься. Люди охотятся, рыбачат, а я буду с книжкой сидеть.
— Учиться грамоте — ничего зазорного.
— Тебе одному так кажется, другие иначе думают.
Богдан тогда настоял на своем, и Хорхой согласился прочитать книжку. Но не читал, а только отделывался обещаниями, чтобы отвязаться.
«Наверняка не читает, все позабыл», — подумал Богдан.
Хорхой продолжал балагурить, сам же громче других смеялся своим шуткам. Богдан улыбался, многие шутки Хорхоя он не слышал, углубившись в свои мысли. Война закончилась только год назад: приезжали несколько раз представители новой власти, организовали Совет, избрали председателем Пиапона; состоялась, хоть и не удавшаяся, ярмарка, появились советские торговцы, милиционер. Произошло уже много изменений. Но Богдан все ждал еще чего-то нового и знал, что это новое совершенно изменит его личную жизнь. Его преследовали старейшины рода, просили и даже требовали, чтобы он стал родовым судьей. Согласись Богдан, и он стал бы уважаемым на всем Амуре человеком. Пришли бы известность и почет. Но изменилась бы его жизнь при этом? Нет, не изменилась бы — это Богдан точно знал. От Пиапона он не раз слышал про Маньчжурию, и его начинала преследовать эта незнакомая Маньчжурия: хотелось познакомиться с другой страной, с ее людьми. По словам Пиапона, он многое видел на Амуре и в Маньчжурии, многое понял и вернулся обновленным. Да и сказочник Холгитон вернулся оттуда проповедником новой, непонятной религии.
Мать с отцом, тети и дяди настаивают на его женитьбе. Семейный человек — это уже иная жизнь, заботы, хлопот по уши. Но личной свободы не будет, самого главного, чего не хочет терять Богдан. Женатым он не сможет встать по первому зову того же Павла Глотова и уехать в неизведанные края. А уехать ему надо, и не праздношатающимся гулякой поглазеть на новые места, а с определенной целью. Цель эта - учеба- вдолбили это в голову Богдана учитель Павел Глотов и доктор Ерофей Храпай. Учиться хочется Богдану, но где те школы, обещанные Глотовым и Храпаем? Откроют, наверно, школу в Нярги для детей, но где школы для взрослых? Не один же Богдан хочет учиться, найдется еще с десяток молодых охотников.
— Ты много думаешь, Богдан, — сказал Хорхой. — Смотри, головные боли придут, мозги иссушат.
Хорхой засмеялся, но юноши на этот раз не поддержали его.
— А безмозглость отчего, знаешь? От лени лишний раз подумать, — ответил Богдан и, хотя ничего не было смешного в этих словах, юноши рассмеялись.
Возвратились рыбаки в стойбище поздно, часы Богдана показывали десять утра. Встретили их женщины, сообщили, что приехал незнакомый дянгиан, будет разговаривать с людьми.
Богдан оглядел берег, но нигде не заметил черной лодки, на которой бы мог приехать дянгиан. Он торопливо развесил сети и пошел в хомаран Пиапона.
— Вот и Богдан вернулся, — сказал Пиапон.
Возле него сидел худощавый нанаец с остриженными, без косичек, волосами. Лицо показалось знакомым, но кто это был, Богдан никак не мог припомнить.
— Бачигоапу, — поздоровался незнакомец. — Вот ты какой, партизан! В Николаевске воевал?
— Откуда ты знаешь, ты там был? — удивился Богдан.
Богдан пригляделся к незнакомцу и тут вспомнил. Верно, он встречался с этим человеком однажды, и было это больше десяти лет назад. Он приезжал с русским учителем в Болонь и ночевал в большом доме. После знакомства с ним дед Баоса потребовал, чтобы Богдан учился и стал таким же грамотным, как этот Ултумбу.
— Ты Ултумбу, я тебя знаю, — сказал Богдан и тоже удивил Ултумбу.
Богдан коротко рассказал о встрече с ним и спросил:
— Где Глотов, доктор Храпай, Мизин, Будрин, Комаров?
— Не знаю, Богдан, я ни про кого из них не знаю.
Богдану подали есть. «Что же произошло в Николаевске? Где Глотов, Храпай, другие?..» — думал он, обсасывая сазаний хребет.
Уха казалась невкусной, хотя в животе урчало от голода. Богдан все же доел ее, выпил чаю, прислушиваясь к разговору Ултумбу с Пиапоном.
Народ на беседу собирался возле хомарана. Ултумбу с Пиапоном вышли, поздоровались. Богдан вышел за ними и сел возле дымившего костра.
Ултумбу начал рассказывать о советской власти. Охотники притихли. Хорошо, когда о таком важном и малопонятном деле рассказывают на родном языке!
— Советскую власть завоевали рабочие и крестьяне. Когда захотели наши враги сломить эту власть, вы тоже встали на ее защиту. А над всеми нами стоял тогда и сейчас стоит наш вождь товарищ Ленин. Вы слышали это имя?
— Слышали, — ответило несколько голосов. — Кунгас нам говорил, потом Богдан.
— Очень хорошо. А в других стойбищах даже не знают, что Ленин сейчас самый главный человек в советской власти. Хороший человек этот Кунгас. Кто он?
— Он партизанский командир.
— Это Павел Глотов, — подсказал Богдан.
— Видите, вам русский человек рассказывал о Ленине, и советскую власть русский народ завоевал. Вы дружите с малмыжскими русскими, это хорошо. Дружба наша будет крепнуть. Русский народ, советская власть много еще сделают, чтобы нанай жили лучше.
— Наш няргинский Совет, это как понять, родовой, как раньше был, или какой другой? — спросил Полокто.
— Много умных людей и сейчас спорят, какой совет нужен нанай, ульчам, нивхам, тунгусам и другим народам. Одни говорят, лучше родовой, он крепкий будет, потому что все люди братья и сестры по крови, и у нанай надо организовать такой совет. Другие сказали, нельзя организовывать у нанай родовой совет. А мы с вами теперь вместе подумаем. Давайте будем у вас в Нярги организовывать родовой совет. Один совет — Заксоров, другой — Бельды, третий — Киле, четвертый — Хеджеров, пятый — Тумали. Все?
— Есть один Оненка. Он, видно, заблудился, не туда попал.
— Хорошо. Один Оненка — тоже совет. С кем только он станет советоваться? Выходит, у вас в Нярги надо организовать шесть советов.
— Зачем шесть, Оненка выгоним, пусть уедет к своим.
— Ладно, согласен, выгоним Оненка...
— Я не хочу уезжать! Я здесь хочу! — завопил Оненка.
— Не выгоняем, это так, к слову говорю. Сколько Тумали?
— Две семьи.
— Маловато для совета. Выгоним, что ли?
— Мы не уедем, мы тут всю жизнь живем, — заявили Тумали.
— Хорошо. Сколько Киле?
— Три семьи.
— Выгоним?
Охотники поняли, к чему клонит Ултумбу. Никто на этот раз ничего не сказал.
— Выходит, самый большой род — Заксоры. Организуем совет Заксоров. Оненка не хочет уезжать, Тумали и Киле тоже не хотят. Тогда что же, выходит, они должны войти в совет? Так?
— Другого нет пути.
— Так в каждом стойбище. Нанай давно уже не живут родами, разбрелись по всему Амуру. Поэтому нельзя организовывать родовые советы.
«Умный человек! Как хорошо все разъясняет! — восхитился Богдан. — Вот как надо разговаривать с людьми!»
— Тогда как быть с родовыми дянгианами-судьями?
— Дянгианов родовых не будет. Родов нет, зачем они?
— Есть роды. Ты это не говори! — закричал Холгитон. — Всякие споры бывают, роды всегда будут собираться. Говоришь, нет родов. А ты, Оненка, разве женился бы на девушке Оненка?
— Нет, не женился бы!
— Тогда зачем говоришь — нет родов? Роды есть, только люди разъехались, а законы рода сохранились.
— Верно говоришь, отец Нипо, — подхватили охотники. — Родственные связи всегда будут. Это же люди одной крови. Дянгиан родовой тоже нужен.
«Любопытно, как он вывернется», — подумал Богдан.
— Есть уже советские судьи, они будут решать все подсудные дела. Но если вы хотите своих родовых судей, имейте их, решайте свои дела. А большие плохие дела советский суд будет решать, его слово будет последним.
Охотники замолчали, задумались.
— Говорят, советская власть всех бачика выгоняет, а шаманов как?
— Шаманы — это нанайские попы.
— Что, их тоже будут выгонять? Куда?
— Никуда не выгонят, просто запретят им шаманить.
Охотники заволновались, вполголоса заговорили между собой. Женщины позади мужчин заспорили во весь голос. Раздались возмущенные голоса.
— Бачика вредный, гоните. А шаманов нельзя гнать. Кто будет лечить больных?
— Доктора будут лечить.
— Кто будет отправлять души умерших в буни?
На этот вопрос Ултумбу не ответил. Это был единственный вопрос, на который он затруднялся ответить. Он знал свой народ, обычаи, знал, что родственники, не справившие религиозный праздник касан и не отправившие душу умершего в буни, берут на себя самый большой грех. Но как объяснить охотникам, что нет у умершего никакой души, что нет буни, что все это выдумка?
Богдан следил за Ултумбу. Лицо его оставалось спокойным, но глаза выдавали растерянность.
— Шаманы нужны! Нанай нельзя жить без шаманов!
— Ладно, пусть останутся они! — вдруг заявил Пиапон.
Мужчины, женщины примолкли сразу. Закурили.
— Когда выгоните торговцев?
— Сейчас уже торгуют наши кооператоры из Союзпушнины, Центросоюза, Интегралсоюза, — ответил негромко Ултумбу и распрямился. — Они скоро войдут в силу. Торговцы пока будут торговать, потому что у нас мало своих кооператоров, товаров мало. Немного потерпите, пушнины им не сдавайте.
— Тебе хорошо, ты не должен им.
— Долги не отдавать.
— Какой же ты нанай, как это не отдавать долги? — возмутился Полокто. — Так ни один нанай не поступит, раз задолжал — плати.
— Долги обманные, не надо платить.
Опять разгорелся спор, но на этот раз Ултумбу не терялся, спорил, доказывал, убеждал. Разговор продолжался долго. Все утомились. Женщины разожгли костры, поставили варить обед. Часы Богдана показывали два.
— Э, чего ты все на них поглядываешь, — заворчал Холгитон. — И так по солнцу видно, больше полудня.
— Умная штука, эти часы, — улыбнулся Ултумбу. — В городе люди работают по ним. Утром встают во столько-то, работают, обедают, домой идут — все по часам.
— Что за жизнь такая. Тьфу! Может, и нужду справляют по часам,а?
Охотники захохотали. Громче всех, пожалуй, смеялся Ултумбу.
— Может, мы при советской власти тоже по часам будем вставать, невод забрасывать, по часам вытаскивать? — наседал Холгитон. — Может, по ним в зверя стрелять?
— Нет, дака, зачем по часам невод забрасывать? Часы нужны тем, кто на заводе работает, в конторах. Ты зря так сердишься, сам скоро часы заведешь.
— Зачем они, я не собираюсь по ним жизнь мерить.
— Не ты, так дети твои заимеют. Правильно? Молодые охотники отвели глаза, часы Богдана — предмет их зависти, их мечта.
— Да, Богдан, ты слышал о комсомоле? — спросил Ултумбу.
— Нет, — сознался Богдан.
— Комсомол — это отряд молодых людей, юношей и девушек, передовых, конечно. Они первые помощники большевиков. Они как бы молодые большевики. Понял?
— Да. Что они делают?
— Помогают большевикам. Советскую власть укрепляют. Строят. Работают везде- Они везде первые. На войне они были первые, сейчас советскую власть строят. Хорошо было бы организовать в Нярги такой отряд.
— Что им делать в Нярги?
— Все, что делает советская власть, вы будете первыми делать. Это очень здорово быть первыми.
— А в Малмыже есть комсомол?
— Нет, в Малмыже еще нет.
— Как же так, русские первые, а у них нет, — сказал Хорхой.
— Вы будете первыми комсомольцами. Это очень важно и почетно. Каждый комсомолец имеет свои обязанности, свои права, свой закон, которые надо честно выполнять. Комсомольцами могут стать только самые лучшие юноши и девушки.
— Если они будут все время вместе, какой это, как ты назвал? — начал Холгитон. — Вот, вот, комол. Молодые есть молодые. Если вместе да вместе, какая там работа, они найдут другое дело, куда лучшее, чем твой комол.
Охотники опять захохотали.
Ултумбу поморщился: опять из-за словоохотливого старика не получилось серьезного разговора с молодыми охотниками. Ему очень важно было заронить в души молодых новые мысли, хотя он был уверен, что, кроме Богдана, никто тут пока не поймет назначения комсомола. Но главное пока — заронить семена в свежую пахоту.
С шутками, со смехом охотники расходились по своим хомаранам. Время обеда.
— Хорошо ты поговорил с людьми, все поняли, — похвалил Пиапон. — Мы ведь сами ничего толком не понимаем. Малмыжские мои друзья толкуют, а сами понимают не больше меня. Грамотных людей- надо. Школы надо, пусть молодые набираются ума.
— Школы скоро будем открывать, да с учителями трудно, — вздохнул Ултумбу. — Все, Пиапон, еще трудно. Всего у нас не хватает. Война была. Кончилась она, а мы все еще воюем. Слышал? Много банд появилось на Амуре. Внизу особенно много. Грабят, убивают, жгут. А людям жизнь надо улучшать, чтобы советской власти поверили.
— Слышал. Здесь тоже, говорят, кого-то ограбили, это где-то в Славянке или в Троицком. У нас-то нечего грабить, все, что есть, все на нас.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Какой прозрачный воздух осенью на Амуре. От этой прозрачности небо голубее обычного, тайга в осеннем наряде ярче. Даже вода в Амуре чище.
Осень выдалась ясная, теплая, будто природа, чувствуя свою вину перед человеком за летнее наводнение, решила его задобрить. Вода в Амуре убыла, появились песчаные косы. Но самые уловистые тони все еще были затоплены, и рыбакам приходилось выбирать кету из неводов, стоя по колено в холодной воде.
На острове Чисонко, где Пиапон каждую осень ловил кету, теперь было меньше ловцов, потому что оборотистый Полокто с сыновьями, собрав артель, укатил в низовья Амура на заезки. В прошлые счастливые годы рыбаки зарабатывали там неплохо, но не всегда. Выпадали годы, когда артельщики возвращались без копейки. Плохо приходилось тогда семьям артельщиков, оставшимся без денег и без юколы, всем стойбищем им помогали пережить зиму.
Но удача, как известно, что птица на небе, поймаешь — сыт, не поймаешь — голоден. Только зачем из-за этой удачи-птицы рисковать, когда возле своего стойбища можно наловить кеты и на юколу и на продажу. Так думал Пиапон. Он ловил рыбу не только себе, но и для приятеля Митрофана Колычева. Услышав об этом, Митрофан прикатил на рыбалку и стал помогать. Жили они вместе в одном большом хомаране. Рядом другие хомараны: Холгитона, Калпе, одного из Тумали. По вечерам все собирались у Пиапона, слушали сказки Холгитона, просто беседовали, говорили допоздна, и о чем бы ни шел разговор — старый Холгитон сворачивал его на свою стезю.
— Большой дом был всегда и будет, — говорил он. — Ты, Пиапон, жил в большом доме, вышел оттуда, а теперь и твой дом вырастает. У вас уже трое мужчин: ты, зять да Богдан. Чем не большой дом? У Полокто тоже. Он всем говорит, что у него уже большой дом. У меня тоже будет большой дом, оженю Годо, оженю Нипо, мужа для Мимы заманю.
— Что из этого выйдет? — посмеиваясь, спрашивал Пиапон.
— Как что? Большой дом выйдет.
— Зачем тебе большой дом?
— Хозяином буду, как твой отец. Весь Амур его знал. Я тоже на старости лет хозяином буду.
— Распадется твой дом! — сердился Калпе. — Мы в одном доме семьями живем. В одном большом доме, а все отдельно. Нет у нас закона большого дома!
— У меня будет закон, все меня будут слушаться.
— Что про большой дом советская власть говорит? — любопытствовал Тумали.
Никто этого не знал.
— Живите своими семьями, меньше женских склок, — советовал Митрофан.
— Ты русский, ты не жил большим домом.
— Это я-то не жил? Хо-хо! У русских тоже есть большие дома. Глава, как и у вас, отец. У нас в Малмыже сколько таких домов было, да понемножку отделились дети от родителей.
Верно, Холгитон видел эти семьи, но ему кажется, что русская большая семья это не то, что нанайская, у них нет таких сложных и строгих законов большого дома, как у нанай. Холгитон еще спорит, но ему уже никто не отвечает, и он обиженно замолкает. На этом заканчиваются вечерние разговоры, и рыбаки расходятся, залезают под теплые одеяла уснувших жен. Рыбацкий табор затихает.
Если бы кто в такое время выглянул из хомарана, мог бы заметить в темноте крадущуюся фигуру юноши. Это Кирка, он вышел на свидание с Мимой, сестренкой Нипо. Мима лежит в хомаране рядом с матерью, она не может сдержать волнения и дышит прерывисто. Юное сердчишко бьется так шумно, что ей кажется, его слышат мать, отец, братья, соседи. Она сжимается в комочек, пытается унять разбушевавшееся сердце и не знает, бедняжка, что если оно уймется — то испарится и ее любовь. Так пусть оно бьется, шумит, кричит о твоей любви, Мима!
Кирка крадется, и Мима еще издали слышит его кошачьи шаги. Кирка может прокричать ночной птицей, но зачем? У них есть свой верный сигнал! Ой, любовь всех времен, всех народов, как ты иногда бываешь хитра и находчива!
Кирка подкрался к хомарану Холгитона, нашел нитку, выползавшую хитрой змейкой из хомарана, тихонько дернул. Это их, Кирки и Мимы, выдумка: другим концом нитки девушка обвязала себе ногу. Хитра-то, хитра любовь, но что случится, если про эту выдумку узнают недруги и другим концом нитки затянут ногу Супчуки? Что тогда будет с Киркой?
Мима выползла из хомарана и попала в объятия любимого. Они бесшумно побежали по песку, будто поплыли по белому туману, потом утонули в нем, исчезли.
А на следующий вечер у Пиапона Холгитон говорил:
— В большом доме чем хорошо? Там все строго, мужчины строго себя ведут, женщины под наблюдением, девушки всегда скромны, из них выходят хорошие жены. Молодые под присмотром старших.
— А помнишь, Холгитон, сестренка Пиапона, Идари, сбежала ведь с Потой, — засмеялся Митрофан.
— Она любимица отца была, разбаловали ее.
— И ты балуешь свою дочь.
— Мима моя строгая, послушная.
— Найдется хитрый охотник, утащит, — потешался Митрофан.
— Не утащит. Теперь другие законы, советские, понял? Только я дочь в этот, как его, комол, не пущу. Нечего ей целыми днями там бывать, всякое может случиться. Я не против комола, но надо сделать так, чтобы девушки были в одном комоле, молодые охотники в другом.
Разглагольствования старика слушали только из-за уважения к нему, часто перебивали и начинали свой разговор. С начала путины мужчины с тревогой ожидали, какая нынче будет кета, ведь от нее зависит их зимняя жизнь. Первые же кетины обрадовали их — гонцы были крупные, нагулянные, краснобокие. Взглянули на них рыбаки и сказали:
— Будет кета! Перезимуем!
А ворчливый Тумали добавил:
— В старое время жили — на кету надеялись, в новое время живем — тоже на кету надеемся, Кормилица.
Прошел первый ход. У всех рыбаков заполнились вешала юколой, она быстро подвяливалась, и многие отвезли полные лодки юколы в амбары. Теперь красными полосками полощется на ветру свежая юкола. Богдан, признанный мастер засолки кеты, заполнил несколько больших бочек. Икру он солил с Митрофаном.
Богатая кета нынче, и зима уже не страшна. Охотники говорят, кто чем займется зимой; одни собираются в тайгу, другие остаются в стойбище ловить осетров и калуг. Митрофан предлагал Пиапону резвого жеребца и подбивал его гонять почту.
— Нет, Митропан, в тайгу тянет, — отнекивался Пиапон. — Давай так сделаем, по воде отправимся в тайгу вместе, постреляем белок, мяса заготовим и вернемся. Тогда можно почту гонять.
Митрофан согласился.
Богдан несколько дней рыбачил на дальних тонях с родителями и Токто. Возвратился на Чисонко к концу путины.
— Что, опять родители уговаривали вернуться к ним? — спросил его Пиапон.
— Не возвращайся к ним, Богдан, — на полном серьезе сказал Митрофан. — Ты всю жизнь собираешься остаться холостяком, а они тебя оженят. Не ходи к ним.
— Нет, не пойду, — в тон ему ответил Богдан, и все рассмеялись.
Вокруг собрались соседи узнать новости.
— Все живы, здоровы. Был в Малмыже, у тебя, Митрофан, все хорошо. От Ивана только все еще нет известий. Приехал в Малмыж советский торговец, открыл лавку. Дед, ты его знаешь, он приезжал на пароходе, муку, крупу привозил.
— Это который, толстый, лысый, или высокий, усатый?
— Усатый, Воротин. С ним приказчик молодой, шустрый такой. Зовут его Максим Прокопенко. Муки, крупы у них мало, в долг не дают.
— Без дела останутся, — сказал Пиапон. — Правда, если и стали бы давать в долг, не стали бы охотники брать, люди до смерти боятся долгов.
— Хорошо, хоть открыли лавку, — возразил Митрофан. — Это советская лавка, цены в ней, наверно, другие.
— Товары дешевле, а пушнину по хорошей цене берут.
— Тяжело им придется, старые торговцы переманят охотников.
— Это точно. Как рыбу в заливах задерживают сетками, так они загородят нам путь к ним.
— Ничего, пример показать надо, — сказал Пиапон. — Уговорить надо охотников, чтобы сдавали пушнину только советским торговцам.
— Долги ведь...
— Эти долги, как камни на ногах.
Хоть и много раз велись разговоры о новых торговцах, о их ценах на пушнину, но все равно заволновались охотники. Раньше говорили о советской торговле как о далеком будущем, потому что ярмарка была временным торгом, а теперь открылась лавка, приехали торговец с приказчиком. Да и торговец знакомый, нанайские обычаи знает, говорит по-нанайски.
А хитрый Богдан приберег главную новость напоследок. Когда немного затих шум, он сказал:
— Воротин велел передать, что он заготовляет не только пушнину, но и мясо и соленую кету.
Никакого шума. Богдан оглядел охотников — может, они не расслышали? Нет, охотники все слышали, просто они обдумывали новость. Русские торговцы всегда кроме пушнины закупали мясо и рыбу. Вопрос в том, какая сейчас будет цена.
Богдан назвал цены, и тогда только зашевелились охотники. Да, цены у советского торговца были хорошие.
— Кто не засолил кету, можете везти ему юколу, — сказал Богдан. — Юколу, костяк — все он принимает и оплачивать будет мукой, крупой, порохом, дробью, материей.
Вот когда поднялся шум. Это была действительно новость!
— Зачем ему юколу? Костяк куда денет?! Цена какая?!
— Правда, что дробь и порох выдает?
Прибежали на шум женщины.
— Материю? На юколу? Правда?
— Богдан, слышишь, Богдан, даба есть? На халат есть?
— Не знаешь? Какой бестолковый, вот почему он не женится!
— Всякие материи, говоришь? Это хорошо. Юколу будем готовить!
Наконец утих шум.
— Юколу Воротин готовит впрок, — начал объяснять Богдан. — В складе будет хранить. Кому потребуется, тому и будет продавать.
— Это что, я свою же юколу смогу весной купить? — спросил Калпе. — Я могу ее и сам сохранить в амбаре.
— Тебя просят излишки продать, понимать надо. Никто у тебя последний кусок изо рта не тянет.
— Хорошие новости, — сказал Холгитон. — Сразу видно, что советская — это наша нанайская власть, раз она юколу, костяк принимает. О нас думает.
В этот вечер допоздна горел жирник в хомаране Пиапона, мужчины по-настоящему были взволнованы услышанным. Надо ловить больше кеты. Эх! Почему об этом не сообщили в начале путины!
— Есть еще время, — сказали рыбаки, — поднажмем.
Но время было уже упущено. Амур заштормил, подул низовик. Начались непрерывные дожди. В такую погоду не приготовишь хорошей юколы.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В октябре опять прояснилось, солнце припекало так, будто лето назад воротилось. Многие няргинцы ушли на горные речки ловить тайменей и ленков. Пиапон решил перед уходом в тайгу настрелять уток. На узких речушках жировали крохали, гоголи, кряквы. Пиапон мог не жалеть пороха, он хорошо заработал на кете, купил вдоволь охотничьих припасов.
Кряквы летали большими табунами, опускались на маленькие озера так густо, что закрывали воду. Только подкрадываться к ним было трудно, трава полегла во время дождей и сильного низовика — не очень-то укроешься. Но Пиапон знал озера с высокими кочками по берегу, там не требовалось ползать на животе. Пол-оморочки набил Пиапон уток, когда ему встретился Ванька Зайцев.
— Здорово, охотник! — сказал Ванька.
Постарел, взматерел Зайцев, рыжая борода кое-где серебром взялась. Давно, с партизанских времен не встречал его Пиапон. Когда Ванька был мастером-оружейником у партизан, Пиапон ездил к нему, отдавал на ремонт берданку. С того времени не встречались.
— Где живешь, ты уехал из Шарго? — спросил Пиапон.
— Где бог покажет. Охо, сколько кряквы. Поснедаем!
Пиапон пристал к берегу, набрал сухого тальнику и разжег большой костер. Ощипали двух крякв, тяжелых, как казарки.
— Чего делаешь? — спросил Пиапон.
— Воюю.
Пиапон поднял голову, взглянул на Ваньку.
— Чо уставился? Не поверил? Воюю, на сам деле, бью всякую жирную гниду.
— Война давно кончилась.
— Тебе кончилась, мне не кончилась. Как может она кончиться, когда кругом еще богатеев столько! Не может. Давить их надо, как вшей!
— Кого ты давишь?
— Богатеев, сказал тебе. Ты чего, не понимаешь али представление вздумал какое делать? Ушлый стал. Богатеев давлю. Ты, часом, не разбогател?
— Вот мое богатство! — Пиапон протянул Зайцеву ружье.
— Это чо, это у всех есть. О торговцах я говорю.
Пиапон снова оглядел Ваньку. И правда, Ванька был одет во все новое, добротное. Ватник суконный, штаны кожаные блестят, и ичиги из добротной кожи выше колен, почти до паха. Богато! Но зачем ему маузер в деревянной кобуре? Ведь есть винтовка.
— Оглядываешь? Смотри, разуй шире глаза. Бью богатеев, отбираю у них все. Почему мне не одеться, раз так? Я беднякам помогаю, не будет богатых, им шибче житуха. Ты знаешь, кто я?
Ванька уставился на Пиапона зелеными глазами.
— Не знаю.
— Коммунист я! Вот так. Кто такие коммунисты, знаешь? Они за бедных, богатых уничтожают. Разбираться надо в политике.
Зайцев мог не рассказывать Пиапону, кто он и за что воюет. На Амуре полно слухов о нем, один грабеж за другим совершал он в низовьях, потом бросил банду и переместился повыше. Эти места он знал как свои пять пальцев, здесь он жил долго, ездил много. Здесь он неуловим. За ним уже год как гоняется отряд красноармейцев, но он ускользает от них. Ему помогают русские крестьяне и нанайцы. Они ему верят. Банда Зайцева не грабит села, в селах она иногда скрывается. Зайцев грабит почту, обозы, кунгасы с продовольствием и товарами. Все награбленное он не мог прятать и сбывать, поэтому часть раздавал крестьянам и охотникам.
— Бью богатеев, вам помогаю, — твердил он всем.
В его банду приходят молодые, ищущие приключений или просто охочие до грабительства люди. Но после одного-двух нападений они уходят от Ваньки. Пиапон даже знает одного нанай, который был в банде Зайцева. Знает и другого охотника, который не выдал красноармейцам банды. Когда красноармейцы встретили его, возвращавшегося от Зайцева, и спросили, где находится грабитель, тот представился непонимающим.
«Зайча? Зайча чичас белый, как увидишь? Нет, не увидишь. Снег белый, зайча белый, не увидишь», — бормотал он.
Много о Ваньке знает Пиапон, а вот встретился впервые с тех пор, как Ванька ходит в бандитах.
— Коммунист я! За бедняков воюю. Так.
— Советскую власть как, признаешь?
— Что советская власть? Она породила новых торговцев, значит, своих богатеев. Бить их надо!
— Ты партизан был, воевал за советскую власть.
— Воевал, думал, правда она за бедных. Ошибку дал.
Пиапону не хотелось спорить, он побаивался Ваньки. Что стоило Ваньке застрелить еще одного человека, когда за его душой столько погубленных? Он даже не моргнет глазом, не вспомнит, как молодой Пиапон его и Митрофана обучал охотничьему ремеслу. Разве вспомнит такой? Но все же Пиапон сказал:
— Помнишь Глотова, Кунгаса?
— Командиром который был? А, трухля! Шибко грамотные оне.
— Он тоже коммунист, за советскую власть...
— Я коммунист, а он — трухля! Запомни это, Пиапон, я тебе и вдолбить могу, если заупрямишься, Тебя поставили председателем Совета, и ты нос задираешь, да?
— Откуда знаешь?
— Знаю, Пиапон, я все знаю. Ты знаешь обо мне, я знаю о тебе. Не вздумай меня обманывать, схлопочешь горяченького. Я не мажу, знаешь.
Пиапон знал. Лучшего стрелка среди шаргинских оружейных мастеров не было. Ваньке была поручена пристрелка отремонтированных винчестеров, берданок.
— Ты знаешь, сколько денег твоя советская власть за мою голову обещает? По глазам вижу, знаешь.
— Знаю. Все знают.
— Так-то лучше. У меня всюду есть глаза и уши, меня не поймают. В тайгу сбегу, коли худо станет. Ты сам учил, как в тайге жить.
«Вспомнил все же, собака», — подумал Пиапон.
— Учил, — сказал он вслух. — Учил, чтобы ты по-человечески умел в тайге жить. Охотиться, пищу добывать.
— Та-ак, повел! Не по-человечески я живу. Грабитель. Бандит. Это хочешь сказать?
Пиапон посмотрел в зеленые глаза Ваньки и почему-то успокоился: он понял, что Ванька сам побаивается его и убивать не собирается.
— Против советской власти пошел ты, а я воевал за нее. Зачем грабишь, убиваешь советских торговцев? Так бедным помогаешь? Советская власть не помогает, ты один помогаешь?
— Заговорил. Та-ак. Душу раскрыл. А если я тебя, Пиапон, тут прикончу? А? За такие слова могу.
Пиапон прутиком перевернул плававшую сверху в котле утиную ножку и ответил:
— Чего тебе стоит? Убивай. Но тогда от охотников не спрячешься нигде, они, если за тобой начнут охотиться, быстро разыщут. Сам знаешь. Ты пока живой ходишь, потому что тебя охотники прячут, они тебе верят, думают, ты на самом деле коммунист и за бедных. Меня убьешь — всех против себя поднимешь. Верно?
— Может, и верно, может, нет.
— Сам знаешь.
— Нет, охотники против меня не встанут, я им помогаю.
— Поймут, нельзя человека все время в обмане держать.
— Ты теперь чо, против меня своих станешь науськивать?
— Советских людей грабить будешь, они сами против пойдут.
Ванька зло сплюнул, вытащил нож и начал бесцельно строгать сухой тальник.
— Как Митроша? — неожиданно спросил он.
— Иди спроси.
— Нет, в Малмыж мне хода нет. Да и Митрошка на меня зуб имеет.
Утки сварились. Пиапон снял с костра котел. Ванька тяжело поднялся, сходил на берег, принес бутылку водки, буханку хлеба, ложку. Разлил водку по кружкам. Молча выпили, молча начали хлебать навар из котла. Куски утятины вытаскивали заостренными палочками. Выпили по второй.
— Всюду говорят, ты умный, — наконец сказал Ванька. — И впрямь ты умный, Пиапон. Хитрый еще. Не боюсь я твоих братьев, охотников-друзей, убил бы тебя, да почему-то жалко. Почему? Сам не знаю. А ты меня убил бы?
— Я врагов убивал.
— Значит, убил бы. А мне тебя жалко.
«Врешь, — подумал Пиапон. — Ты боишься за себя, знаешь, что тебя завтра же разыщут охотники».
— Где твои люди?
— Зачем они тебе, выдать хочешь?
— Не хочешь, не говори. Совсем можешь ничего не говорить.
— Ладно, Пиапон, без ссоры разъедемся. Как-никак мы с тобой знакомы двадцать с хвостиком лет. Ты не видел меня, я не видел тебя.
Доели утятину, запили чаем и молча засобирались. Сели в оморочки, взялись за весла.
— Не бойся, сказал, не убью, — промолвил Ванька.
— Я не боюсь, ты меня бойся, — ответил Пиапон. — Ты один, а за мной Советы, охотники.
«А вдруг выстрелит, — мелькнула трусливая мысль, — у него маузер, винтовка, издалека может стрелять».
Пиапон, стараясь не глядеть на Зайцева, оттолкнул оморочку и демонстративно повернулся к нему затылком. Но холодный страх все же пробирался в сердце, так и хотелось прижаться всем телом ко дну оморочки.
— Покедова, Пиапон, — раздался голос Ваньки.
Пиапон невольно вздрогнул и выругался.
— Увидишь Митрошу, поклон скажешь. Я покидаю Амур.
«Бежишь, пока голова цела, — подумал Пиапон. — Врешь, никуда ты не уедешь. Разве вонючий хорек бросит падаль, пока не съест всю, не обглодает последние кости. Мне - твои слова. Усыпляешь. Боишься ты меня».
— Больше не встретимся, Пиапон!
— Хорошо, — громко ответил Пиапон, а тише добавил: — Кто знает, может, еще встретимся.
Пиапон заехал в Нярги, торопливо похлебал горячей ухи и выехал в Малмыж на ночь глядя. Было совсем темно, когда он пришел к Митрофану.
— Пойдем на телеграф, — сказал он, позабыв поздороваться. — Сейчас он может работать?
— Что, что случилось? — встревожился Митрофан.
Из-за перегородки выбежала Надежда.
— На телеграф надо, пошли быстрее. Ванька тут рядом.
Митрофан накинул ватник, и они пошли. По дороге Пиапон рассказал о своей встрече с Зайцевым, передал поклон.
— Ишь, гад, поклоны шлет, — со злостью сказал Митрофан.
Телеграфист отстукал в Иннокентьевку, что Зайцев находится на пути между Малмыжем и ими, что едет на оморочке, вооружен винтовкой и маузером. Один, без банды. Где банда — неизвестно.
Выкурив по цигарке у телеграфиста, друзья вернулись в дом Митрофана. Надежда к этому времени уже нажарила картошки, сварила кету, достала маринованных грибочков, соленых огурцов. Сели за стол.
— Пиапон, какой Ванька теперича? — спросила Надежда.
— Плохой, злой, — ответил Пиапон.
— Будешь злым, когда тебя, как волка, обкладывают, — сказал Митрофан. — Был человеком, стал волком.
— Ничего не понимаю, — задумчиво проговорил Пиапон. — Охотились вместе. Он золото копал, доски пилил, партизаном был, мастер хороший. Чего ему надо? Все есть, хорошо жил. Так я говорю? Зачем пошел людей убивать? Зачем грабит чужое?
— Почему хунхузы грабят?
— От бедности, так говорили русские в Хабаровске.
— Может, от бедности кто и грабит, только другие этим богатства добывают, вот так, Пиапон. А Ванька особая статья. Этому все было мало. Грабежом стал заниматься, так легче и быстрее можно разбогатеть. Кому, конечно, боязно, но он, черт, храбрый.
— Куда девает он награбленное?
— Торговцам же, наверно, продает. Куда ему девать?
— Митроша, ты хоть потолмачь, о чем говорите, — попросила Надежда.
— О Ваньке. Грабитель он, — ответил Митрофан жене и тут же заговорил по-нанайски. — Ты, Пиапон, доволен своим житьем-бытьем. Я тоже доволен. А ему хочется нас переплюнуть, он видел, как бары живут, думает — разбогатеет и будет так же жить. А ну его! Не будем о нем говорить. Лучше я расскажу наши новости. Про Воротина хочешь послушать?
— Хороший человек, честный.
— Для вас он старается, вот какое дело. А сам чуть не погорел.
— Как так?
— Много принял юколы. Я ему говорю, зачем принимаешь, тебе же негде хранить. Он говорит, не могу не принять. Что подумают охотники? У одних принял, у других нет? Почему не принимаешь, значит, советская власть обманывает? Нет, говорит, не могу отказаться от юколы, пусть сгниет она, пусть сяду я за нее в тюрьму, но принимать буду. Тут такое дело, нельзя, чтобы охотники с первого дня плохо думали о советской власти. Вот какой он.
— Славный человек.
— Он говорит, что его послали сюда не только торговать, он должен и советским законам обучать нанай. Да. С юколой так решили. Я собрал плотников, и мы ему склад сколотили. Ничего, неплохой получился. Главное, мы спасли его. Теперь другой склад рубим, вроде ледника будет, чтобы мясо хранить.
— Все хорошо получается, Митрофан, верно? Правильно мы делали, что послушались Глотова, душой поняли Ленина, пошли воевать за советскую власть. Очень правильно сделали. Теперь надо этих бандитов, как Ванька Зайцев, уничтожить. Тогда еще лучше станет. А Ваньку все равно убьют. Я охотникам расскажу, раскрою им глаза, они перестанут ему верить.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Заголубели молодым ледком, стекольным звоном зазвенели ключи, кругом бело по утрам от обильного инея, узкие тихие протоки затягивает тонким льдом, и лодка продвигается вперед с противным скрежетом.
Лед скребет дно лодки, и Пиапон думает, что весной ему вновь придется огнем сжигать неровности на днище, иначе лодка теряет легкость хода. Раньше, когда лодки изготовляли из цельного дерева, ее берегли как самую большую драгоценность — куда же нанай без нее? Оставить нанай без лодки летом, зимой без нарт — это все равно, что отнять у него руки и ноги. Кто бы тогда решился выехать по такому льду? Никто бы не решился. Четыре-пять раз выровняешь огнем дно лодки — дыру прожжешь. Теперь досок где угодно можно достать, хоть по три лодки имей на семью. Только зачем три лодки на семью? Это же не нарты, которых на хозяйство требуется три штуки: охотничья, ездовая и женская — чтобы дрова, лед подвозить к дому. А лодки одной хватит, потому что охотники редко ездят на ней, они предпочитают оморочки. Лодки опять-таки больше требуются женщинам — дрова привезти, по ягоды, черемшу съездить.
— Стреляй, чего задумался! — завопил зять Пиапона.
Впереди поднимался большой табун крякв, стоявший на носу Митрофан схватил ружье, пальнул.
— Чего кричишь под руку! — рассердился он, промазав.
— Правда, чего кричишь, — засмеялся Богдан. — Ты виноват, если бы не ты, мы из утки сварили бы на обед суп. Ты виноват, становись впереди, сам стреляй.
Митрофан поменялся местом с зятем Пиапона, подмигнул Пиапону и улыбнулся. Лодка двинулась дальше.
Солнце выглянуло из-за горбатой сопки, и при первых его лучах серебром засверкали шесты охотников, которыми они подталкивали лодку.
Не сплоховал зять Пиапона, первый же табун, поднявшийся за кривуном, потерял трех жирных крякв.
— Вот видишь, никто под руку не крикнул, и есть добыча, — сказал Богдан. — Только почему три, нас четверо.
Митрофан опять подмигнул Пиапону, вот, мол, как подначивает Богдан.
Два дня охотники поднимались по горной реке, потом перегрузили вещи на единственную нарту и поволокли по малому снегу. Пиапон шел на отцовское охотничье угодье, где он впервые встретился с Митрофаном и подружился. На второй день они дошли до места, построили добротный еловый зимник на четверых.
Достаточно было Пиапону пройти по ключу с километр, как он убедился в правильности своего выбора — белки было вдоволь, гулял соболь, сколько — не подсчитаешь, для этого надо обойти свой и соседние ключи.
Наступили будничные охотничьи дни. Вставали до рассвета, завтракали и уходили в синюю тайгу. Возвращались в сумерках и при жирнике снимали шкурки, сушили, обезжиривали и вели неторопливую беседу. Охота была удачная, Пиапон приносил в день по пятнадцать — двадцать белок. Опередить его пока никому не удалось.
— Мне в этом зимнике вольготнее других живется, — говорил Митрофан, — сиди возле камелька да старые кости грей.
— Пэучи си, — ворчал зять Пиапона. Неудачник, мол, ты!
— Ты так думаешь? А хочешь, я завтра больше тебя добуду? Побьемся, а?
Но молчаливого зятя Пиапона трудно было чем-либо пронять, как бы его ни разыгрывали. Богдан пытался расшевелить, но он только улыбался младенческой безвинной улыбкой и умолкал, промолвив два-три слова.
— Боишься? Так договоримся, если я завтра добуду больше тебя, ты будешь кашеварить десять дней подряд. Если ты принесешь больше, то я буду десять дней кашеварить.
Зять Пиапона улыбнулся в ответ и с полным равнодушием продолжал скоблить беличью шкурку.
— Трус! — Митрофан в сердцах плюнул. — Пиапон, я на твоем месте выгнал бы такого зятя. С ним в тайгу лучше не ходи. Ты зятя себе в напарники выбрал?
— Дочь выбрала, — смеялся Пиапон.
— Ладно, помиримся, хотя и не ссорились. Ты говоришь, я пэучи, а я не пэучи, я бью в день по пять — десять белок потому, что не хочу по вечерам с ними возиться. Понял? Рассказать тебе русскую сказку?
— Только по-нанайски.
— Давай я тебя по-русски начну обучать.
— Трудно.
— Лентяй ты, думать даже ленишься. Ладно. Слушай сказку. Жил-был русский старик с мальчишкой. Жил он на этом ключе, только много выше, там, где два ключа соединяются в один.
— Это сказка?
— Старик с сыном ходили каждый день на охоту, били белок. Правда, не так много, как Пиапон. Но шкурки у них завелись. И вот однажды появляется возле их зимника нанай старик тоже с мальчишкой. Крикнул старик по-нанайски: «Это мое охотничье место! Уходите! Предупреждаю, если через три дня не уйдете, убью!» Ничего не понял русский старик с мальчишкой, потому не испугался.
Пиапон, с усмешкой слушавший начало сказки, вдруг насторожился. Богдан тоже.
— Проходит три дня, вновь пришел старик с мальчишкой, кричит: «Три дня прошло, вы не ушли! Теперь я вас убью!» А русский старик лежит в шалаше совсем больной, умирает. Мальчишка ему чай греет, сухари дает, а больше что им есть? Белку бьют, но не едят беличье мясо. Непривычно им, никогда раньше не ели.
— Дураки, самое вкусное мясо не ели, — сказал зять Пиапона.
— Правду говоришь, хоть ты и молчальник. Совсем собрался умереть старик. Тут приходит нанай — отец мальчонки, поглядел на старика русского и давай его ругать. Только теперь он его ругал не за то, что охотничье место занял, а за то, что не умеет жить в тайге. Долго ругался старик нанай, а мальчишка тем временем принялся варить беличьи тушки, которые нашел возле зимника. Заставили они русского старика есть это мясо, сына его накормили. Больше они не оставляли русских, кормили больного старика мясом, сырой печенкой, заставляли пить хвойный отвар, где-то из-под снега доставали разные ягоды. Вскоре русский старик стал садиться, потом вставать, потом побежал, да так, как бывает только в сказках. Обрадовался старик, что выздоровел, еще пуще обрадовался мальчишка русский, что отец жив-здоров.
Митрофан замолк, откашлялся, пошуровал в камельке палкой и закончил сказку такими словами:
— Подружились с того времени старик русский со стариком нанай. А еще крепче стала дружба мальчишки русского с мальчишкой нанай. Дружат они и сейчас, крепко дружат. Дружат их дети, внуки. И будут в этой крепкой дружбе жить, пока солнце на небе светится. Вот откуда пошла дружба русских и нанай. Понял? Ну как, хорошая сказка?
Пиапон слушал, отложив в сторону белку с недоснятой шкуркой и не выпуская трубки. Он сидел не шелохнувшись. Богдана с самого начала удивила необычность сказки, потом он насторожился — голос Митрофана почему-то охрип. Он посмотрел на замершего Пиапона, потом на Митрофана — и все понял.
— Это не сказка, ты выдумал, — сказал зять Пиапона, но никто не обратил на него внимания.
Пиапон курил, Митрофан шуровал в камельке.
— В сказку обратил, — наконец сказал Пиапон.
— Встреча наша теперь и мне сказкой кажется, — ответил Митрофан.
«Вот как! Это он рассказал о своей первой встрече с дедом!» — встрепенулся Богдан.
Утром Богдан вышел в верховье ключа, разыскал место слияния двух ключей. Ему очень хотелось посмотреть место, где зародилась дружба Колычевых с Заксорами.
— Отсюда пошла дружба русских с нанай, — сказал он вслух, вспоминая быль Митрофана. — С этого ключа.
Потом он подумал, что вода этого ключа впадает в горную реку, а там живут другие народности, следовательно, дружба русских и нанай, зародившаяся здесь, как ключевая вода сливается с речной водой, сливается с дружбой других народностей. Река вытекает в Амур, из Амура — в море. А по берегам морей сколько народов! Это дружба всех народов. Но так ли? Как хотелось Богдану, чтобы было именно так, чтобы светлыми, как ключевая вода, оставались всегда отношения между людьми, между народами. Это была бы дружба!
Весь день Богдан ходил по тайге в приподнятом настроении, а когда вернулся в зимник, оказалось, что добыл он меньше всех. Да не в добыче вовсе дело, хотелось ему сказать: я сегодня другой, чем был вчера, — вот в чем дело!
— Встретил я человека, всем бы надо к нему сходить, — сказал Пиапон, и все поняли, что он нашел свежие медвежьи следы. Медвежатины нынче охотники еще не пробовали, обходились кабаниной, лосятиной.
— А нельзя тебе просто сказать: встретил, мол, медведя? — спросил Митрофан, когда залезли в спальные мешки.
— Тайга, Митропан. Тут свои законы, нельзя нарушать.
Утром охотники пошли на медведя. В полдень встретили его и двумя выстрелами свалили. Молодые охотники наломали елового лапника. Медведя перетащили на эту постель.
— Лежи, друг, мы тебе новую постель постелили, мягкая постель, — говорил Пиапон, переворачивая тушу кверху брюхом. — Задери вверх ноги, когда они сильно устают, так хорошо лежать.
Потом он сделал ножом надрез в переносице, привязал ремень и, протянув на восток, прикрепил к воткнутой в снег палочке-тороану. Зять его тем временем разложил девять палочек одну за другой на груди и животе медведя. Пиапон порол шкуру от горла к животу и каждый раз, когда нож его добирался до палочки, приговаривал:
— Не беспокойся, друг, ничего плохого я тебе не делаю, я снимаю с тебя халат. Вот расстегиваю одну пуговицу, вот другую.
Зять его брал очередную палочку, ломал пополам и бросал одну половину на запад, другую на восток. Сняв шкуру, начали разделывать тушу. Пиапон собрался перерезать горло, и зять Пиапона сделал из ветвей крюк и двупалую рогатину.
— Далеко пойдет — зацепи! — сказал он, и зять крюком подцепил горло медведю.
— Вплотную подошел — рогатиной его и упрись крепче!
Зять Пиапона прижал рогатиной горло, и Пиапон одним движением перерезал горло между рогатиной и крюком. Нож наткнулся на шейный позвонок, но тут же легко и быстро отделил голову зверя от туловища.
Митрофан помогал Пиапону, он без подсказки знал, что и когда следует отделять, только в первый раз ему показался диковинным ритуал разделывания хозяина тайги. Он знал русских таежников, которые тоже выполняли этот обряд, так как искренне верили, что если этого не исполнить, то другие медведи узнают и отомстят, как за глумление над своим собратом. Митрофан понимал этих промысловиков, они учились у нанайцев таежному бытию, перенимали их обычаи. Для них законы тайги так же священны, как и для нанайцев. Митрофан по себе знал, как тайга воздействует на психику человека, оказавшегося с ней наедине.
Разделав медведя, охотники выпили кровь. Пиапон вытащил глаз зверя, предложил зятю.
— Проглоти, храбрость для человека никогда не бывает лишней. Усыпил ты нашего друга, еще не одного усыпишь.
Зять послушался и с трудом проглотил глаз. Охотники взвалили на себя мясо, сколько кто мог, и направились в зимник.
«Все по закону, — думал Митрофан. — Неужели сегодня не отведаем медвежатины, по закону вроде бы не позволяется вечером варить ее».
Но Пиапон из каких-то соображений отступил от этого запрета и велел сварить мясо. Ели медвежатину ножом и остроконечной палочкой — к мясу запрещалось притрагиваться рукой. Кости, даже самую махонькую, складывали в одну кучу.
«Так, теперь что не следует делать? — вспоминал Митрофан. — Не дуть на огонь. Это мы выполним».
На следующий день зять Пиапона не вышел на свою тропу, он варил медвежью голову. Он хозяин головы, медведь его. Когда вернулись охотники и приготовились есть, он подал голову Пиапону, челюсть — Митрофану.
— Вернусь домой, одарю охотничьим щенком, — пообещал Пиапон, принимая голову.
«За голову щенка, — вспомнил Митрофан, — за челюсть, кажется, положены патроны». Он вытащил из сумки пять берданочных патронов и отдал зятю Пиапона.
— Спасибо тебе, — сказал он, — возьми, ими сможешь усыпить еще не одного нашего приятеля.
Богдан с зятем Пиапона обгладывали кости и складывали в одну кучу. Через несколько дней, когда все косточки зверя будут собраны, их прокоптят и отнесут под священное дерево, а череп повесят на суку.
— А Богдан еще не усыплял друзей? — спросил Митрофан.
— Нет еще, — ответил Пиапон.
— Чего же ты так, Богдан? Охотничьей собаки не хочешь? Да, ты ведь собрался в город, учиться.
— Да, собрался, — усмехнулся Богдан. — Подначиваешь?
— Зачем? Я к слову, над такими мыслями грех насмехаться. В первое время, наверно, скучать будешь, вспоминать будешь рыбалку, охоту; может, вспомнишь этот вечер в зимнике.
— Когда вдали, то вспоминаешь свою семью, дом, стойбище — все дорого. Я по оморочке даже скучал, — сказал Пиапон.
— Это так, — вздохнул Митрофан.
После жирной медвежатины приятно потягивать густой ароматный чай и неторопливо разговаривать. За чаем следует трубка, а там пора и на боковую.
Два месяца промышляли охотники, добыли немало дымчатых белок — сезон выдался удачный. Пиапону не хотелось возвращаться в Нярги и заниматься непривычной ямщицкой работой: по распадкам еще бегали три-четыре соболя, на речке прятались выдры, колонки, да и белки еще можно было взять не один десяток. Митрофан не смог уговорить его и один отправился домой в Малмыж в начале января.
— Теперь нас трое, — смеялся Пиапон. — Один проглотил язык, другой наполовину перекусил, только третий с целым языком. Не помрем со скуки, как говорил Митропан.
Зима Пиапону выпала удачная, да и молодые не очень отстали от него. Возвратились они в Нярги в начале марта. Далеко от стойбища их встретили внуки Пиапона — Поро и Ванятка. Пиапон прижал их к груди и долго целовал в холодные щеки — он сильно соскучился по этим неугомонным мальчишкам. Наконец старший — Поро от деда попал к отцу, потом к Богдану.
— Дед, у нас дома все здоровы, — сообщил Ванятка Пиапону. — Все живы, только русский дед умер. Приезжал Митрофан и сказал, что умер самый большой наш русский дед, который нам новую жизнь принес.
Пиапон улыбался, слушая болтовню внука, но последние слова насторожили его.
— Что? Как он сказал? — переспросил он.
— Самый большой русский дед умер, давно это уже было, Митрофан приезжал, сказал.
— Кто же это может быть? — недоумевал Богдан. — Отец Митрофана умер давно...
— Я тоже ничего не понимаю, — признался Пиапон.
— Дед, а дед! Ты чего мне привез? А? Стрелы есть? А лук тугой? — теребил Пиапона Ванятка.
— Сорока ты! — засмеялся Богдан. — Все есть, все привезли.
Пиапон посадил Ванятку на загруженную мясом нарту и зашагал к стойбищу. Из Нярги уже валил народ, впереди всех бежали мальчишки постарше на лыжах с собаками, за ними спешили женщины. Таков обычай — встречать возвращающихся из тайги охотников. Мальчишки присоединили своих собак к упряжкам охотников, сами вцепились в нарты с боков и с криком, шумом помчались в стойбище.
Дярикта и Хэсиктэкэ — жена и старшая дочь Пиапона — хозяйки дома и амбара, стоят у дверей амбара, принимают куски мяса и складывают в кучу. В дальнем углу, отдельно от всех других вещей, уложено таежное снаряжение охотников. Пиапон, зять его, Богдан, раздетые, в одних легких халатах, утомленные, сидят в кругу родственников, друзей и курят трубки.
Пришли братья: Полокто, Дяпа, Калпе; дети их: Ойта, Гара, Хорхой, Кирка — приплелся Холгитон. А женщины уже варят в самом большом котле мясо, оттаивают осетров на талу. Готовится праздник возвращения охотников.
— Дед, дед, где лук, стрелы, ты обещал, — егозит Ванятка на коленях Пиапона.
Ванятка — любимый внук, внебрачный сын Миры. Пиапон не отдал его матери, когда та потом выходила замуж за другого. Ванятке все прощается. Пиапон просит подать ему сумку, вытаскивает лук, стрелы и дарит всем присутствующим мальчишкам по стреле. То же делают его зять и Богдан.
Охотникам преподносят водку, и праздник начинается, хотя мясо еще не сварилось, осетры не разделаны. На стол подают наспех поджаренную на огне юколу. Братья Пиапона раньше вернулись из тайги с хорошей добычей и уже успели съездить к торговцам, купили продовольствия и водки.
На правах старших рядом с Пиапоном сидят Полокто и Холгитон. Полокто, выпивший и потому радушный, рассказывает, сколько с сыновьями добыл зверей, хвастается заработком. Холгитон не отстает от него, он тоже ходил в тайгу.
Пиапон очень устал, у него ныли ноги, но, выпив первые чашечки подогретой водки, почувствовал себя легко и свободно, будто с него сняли веревки, опутавшие тело. Он был рад встрече с братьями, друзьями, семьей, он соскучился по ним, потому говорил много, шутил.
Женщины подали дымящиеся горячие куски мяса, соломкой нарезанную мороженую осетрину, охотники выставили припасенные бутылки водки. Праздник разгорелся вовсю. В доме зажгли жирники, они коптили и плевались жиром. Но никто не обращал ни на что внимания. Все пили и ели.
Пиапон заметил, как свалились Богдан и зять, они вообще мало выпивали, а тут еще усталость взяла свое. Хэсиктэкэ укладывала мужа, Дярикта стелила постель Богдану. И тут Пиапон вдруг вспомнил слова Ванятки о смерти большого русского деда. Когда он спросил об этом Полокто, тот подумал и закричал:
— Какой дед! Нашел себе деда! Об этом весь Амур знает, Ваньку Зайцева наши болонские охотники убили. Твой друг Гири Ходжер убил его.
— Это охотник! Молодец! — обрадовался Пиапон.
— Ванька хотел обоз с мукой ограбить, под Славянкой хотел напасть. Про это узнали красноармейцы да на него самого напали, разгромили его банду. А он бежал за Анюй. Спрятался в охотничьем зимнике. Когда бежал, потерял рукавицы, обморозил руки. Гири с отцом, друзьями шел в тайгу, встретился с ним. Ванька вышел с наганом, потребовал еды, сказал, если не дадут, убьет всех и все отберет. Гири говорит, зачем так, Ванька, мы тебе помогали, зачем сердишься. На, бери юколу, муку. Ванька говорит: «Слышал я, что Пиапон няргинский вас уговаривал убить меня, но я тебе верю». Он взял, что подали, а наган не отпускает, в руке обмороженной держит. Отошел он, а Гири вытащил винтовку и крикнул: «Ты враг советской власти, ты наш враг!» и выстрелил.
— Запомнил! Хорошо запомнил! — воскликнул Пиапон. — Так я ему объяснял. Теперь мы спокойнее заживем.
Холгитон хотя и хвастался, но не кричал, как кричал раньше при выпивке, больше отмалчивался и был какой-то пришибленный. Возбужденный водкой и известием о гибели бандита Ваньки Зайцева, Пиапон не сразу расслышал слова старика.
— Пиапон, послушай, — повторил Холгитон, дергая его за плечо. — Послушай...
— Отец Нипо! Чего тебе, разве этого тебе мало для радости? Ваньку убили, теперь будет спокойно и хорошо, жить будем...
— Чего ты радуешься? Я два месяца грущу и думаю, как будем жить...
— Хорошо будем жить!
— Как ты хорошо будешь жить, когда Ленин умер? Как могут травы подниматься вверх, цветы цвести, когда солнце потухло?
Пиапон замолк на полуслове, он будто оглох, не слышал ни крика Полокто, ни шума опьяневших охотников. Он смотрел застывшими глазами, как скатывается слеза по изборожденному морщинами лицу Холгитона.
«Умер Ленин? Как мог умереть Ленин? Ты, старик, что-то путаешь, ты путаником стал к старости...»
— Советская власть только пришла к нам, а он умер... — продолжал Холгитон. — Только начали верить советской власти, и он умер. Что дальше будет? Какая жизнь наступит? Разве ты об этом знаешь? Никто не знает, один Ленин знал. Помнишь? Кунгас говорил, Ленин сказал царя уничтожить, послушались все, уничтожили царя. Приехал Воротин, привез нам, совсем голодным, муку и крупу, сказал, это так велел Ленин. Пришла советская власть, сразу стала нам помогать, потому что так велел Ленин. Теперь кто что скажет? Умер Ленин. Теперь опять белые с японцами вернутся, опять нас с тобой перед народом голых по заду шомполами бить станут...
Светлая слеза скатилась с губы на белую редкую бородку Холгитона и засверкала при тусклом свете жирника. Пиапон видел только эту слезу.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Нарта, подпрыгивая на торосистом льду, подходила к малмыжскому берегу. Токто не подгонял уставших собак, он смотрел на вздыбленный льдами Амур и пел песню без слов. Токто утром рано выехал с Харпи, не дал собакам передохнуть в Болони, проехал мимо, потому что надеялся возвратиться сюда вечером на ночевку. В Малмыже он быстро справится с делами, а ночевать будет в Болони у своего друга Лэтэ Самара, отца Гэнгиэ. Вспомнил Токто про вторую жену сына, и потеплело у него в груди — любил он ее как родную дочь. Она и на самом деле дочь, кем же может быть жена сына для родителей? Красавица она, работящая, послушная, скромная. Только вот не приносит она Токто внука или внучку, не обрадует старика. И непонятно почему. Сколько раз шаман камлал, поили ее отваром высушенного пупка, сырыми яйцами, выполняли разные обряды — ничего не помогает. Теперь старушки поговаривают, будто она бесплодная. Токто не верит им, не может быть, чтобы такая красавица была бесплодной, тут что-то не так. А почему не так, Токто сам не понимает.
Гида любит Гэнгиэ, он спит только с ней, и из-за этого вторая жена, Онага, ненавидит Гэнгиэ. Это известно Токто.
Онага тоже хорошая, она принесла радость Токто, родила двух мальчиков, а Токто хочет иметь еще не одного и не двух внуков и внучек, поэтому ему приходится часто вести с сыном мужской разговор. Только после такого крепкого разговора Гида ложится с Онагой. И как счастлива бывает Онага после этого, наутро она сразу мирится с Гэнгиэ, дома все делает сама, и работа просто горит в ее руках. Хорошая Онага. Хорошие жены у сына.
— Tax! Tax! — прикрикнул Токто на собак, и те убыстрили бег, без труда поднялись на взгорок.
Когда нарта проезжала мимо лавки Саньки Салова, выбежал приказчик, крикнул:
— Заверни сюда, новости скажу!
Токто помотал головой и подъехал к лавке советского торговца. Крепко привязал упряжку к плетню, иначе сорвутся собаки и загрызут свинью или корову, потом беды не оберешься.
— Дорастуй, — поздоровался Токто, входя в лавку.
— Здравствуй, здравствуй, охотник, — ответил молодой человек за прилавком. — Меня зовут Максим Прокопенко. Ты откуда приехал, охотник?
Токто недоверчиво оглядел молодого торговца. Совсем молодой, безусый, краснощекий. Токто знает, что здесь торгует тот самый усатый русский, который привозил прошлым летом на пароходе муку и крупу голодающим охотникам. Об этом все говорили во время осенней рыбалки.
— Где купеза? — спросил Токто.
— Какой тебе купеза! — засмеялся Максим. — Это при царизме купезы были, а мы советские торговцы. Интеграл, понимаешь? Это советские торговцы из Интегралсоюза.
— Тебе Максун, рыба? — спросил Токто, вспомнив имя молодого торговца, и засмеялся. — Люди, а имя Максун.
— Максун, Максун, я помощник Воротина.
Токто не понял, что такое помощник.
— Купеза надо.
— Воротина, что ли? Борис Павлович выехал в Мэнгэн, к вечеру вернется.
«Нет усатого, — подумал Токто. — Что же делать? Я по-русски не понимаю, этот Максун меня не понимает, как ему объяснишь, что я привез долг?»
Максим следил за выражением лица Токто, пытался понять, что мучает охотника.
— Ты откудз приехал? Болонь? Джуен? Хурэчэн?
— Джуен. Джуен.
Максим недоверчиво оглядел охотника, но все же поверил, что тот приехал из Джуена, миновав в Болони хитрого торговца У. Старый лис У загородил озерским и своим болонским охотникам путь в Малмыж.
— Ты проехал Болонь? Тебя не задержал У?
— У — тьфу! — для верности Токто сплюнул на пол.
— Ты ему не должен?
— Долга нету У, тебя есть.
— Как? Мне должен? Я тебя не помню, ты к нам впервые приходишь. Как тебя звать?
— Токто, моя Токто.
Нет, Максим не помнил этого охотника. Он заглянул для верности в книгу записей. Токто в книге не числился.
Тем временем Токто на нанайском и русском языке пытался разъяснить, что он нанай, честный охотник, он принес долг советской власти. Усатый ему объяснял, что муку и крупу советская власть дает голодающим охотникам безвозмездно, но он, Токто, все понимает, нельзя такую ценность давать безвозмездно, просто советская власть знала, что прошлым летом охотники не могли ничем заплатить за муку и крупу. Теперь Токто может возвратить долг, он хорошо поохотился нынче зимой. Вот он принес двух самых лучших соболей, отдает советской власти и говорит спасибо этой власти
Увидев перед собой двух черных соболей, Максим залюбовался ими, взял, рассмотрел профессионально, оценил. Это были первосортные соболя.
— Это долга, советская власть долга, — твердил Токто.
— Долг советской власти? — растерялся Максим. — Какой долг? Что тебе советская власть дала в долг?
— Если ты пришел торговать с нами, — сказал Токто по-нанайски, — должен был прежде наш язык выучить. Вон китайские торговцы все говорят, Санька Салов говорил лучше нанай. Усатый тоже немного говорит.
— Санька Салов, — машинально повторил Максим единственное слово, которое было ему понятно. — Что мне делать? Переводчика надо. Где его найдешь? Колычев Митрофан погнал почту.
Токто уже порядком надоел этот бестолковый разговор, он вытащил еще двух соболей, несколько колонков, связку белок и потребовал за них муки, крупы, сахару, водки и сукна.
Когда Максим подсчитал цену шкуркам и хотел добавить к ним первых двух соболей, Токто резко отодвинул их и выкрикнул:
— Долга! Советская власть долга!
— Черт знает что, — растерянно пробормотал Максим. — Пусть сам Борис Павлович разбирается.
Он начал взвешивать муку и крупу, это была его привычная работа. Вскоре он успокоился, вспомнил напутствие начальства, что он должен заниматься не только торговлей, но и пропагандой советской власти среди охотников. Торговать Максим давно научился, к этому он привык, а вот пропагандировать он не умел. Да и трудно было заниматься этим, не зная языка охотников. Хорошо, когда попадались знающие русский язык, а что делать с такими вот, как этот Токто из Джуена? Но побеседовать с ним надо.
Максим вспомнил свою недолгую службу приказчиком на Уссури: хорошо ему было там, сколько хочешь зубоскалишь с охотниками, и с русскими, и с нанайцами, и никто не требовал беседовать с ними о советской власти.
Токто закурил трубку и искоса поглядывал на молодого торговца. Максим ему понравился, да вот беда, не может Токто с ним поговорить по душам. Сколько ему лет? Откуда приехал? Давно работает торговцем? Может, сам охотился, потому что хорошо разбирается в шкурках. Все это хотел спросить Токто, но не мог.
— Хоросо, Максун, — улыбнулся он.
Надо было что-то сказать, слишком долге они молчат. Когда в доме находятся двое и молчат, каждый из них может подумать про другого, что тот сердится на него. В селе нельзя, чтобы двое не разговаривали, в тайге — другое дело, там много приходится думать, мысленно прокладывать новые охотничьи тропы, распутывать хитрость зверей, да мало ли еще о чем можно думать в тайге.
Токто не сердится на торговца, за что ему сердиться? Хороший человек, сразу видно.
— Хорошо, — улыбнулся в ответ Максим. — Токто, ты знаешь, что такое советская власть?
— Аха, хоросо.
— Она народная власть. Наша.
— Да. Моя воевал.
— Как воевал? За советскую власть, что ли?
— Партизана ходил.
— Да! Это здорово. Тогда ты должен знать, кто Ленин.
Как же не знать Ленина! Токто знает, кто такой Ленин, ему уши прожужжал про него партизанский командир Кунгас. Много рассказывал о нем, о советской власти. Когда первый раз Кунгас сказал, что Ленин советскую власть образовал, что он самый главный человек теперь, Токто сразу все понял, и не надо было об этом повторять. А Кунгас все повторял и повторял, правда, по разному поводу.
— Ленин, это главный, — ответил Токто. — Он новый чари.
— Царь! Ты что, охотник, опупел? Ленин — вождь всего пролетариата, вот кто он был! А ты... царь. Нет царей, нет купцов — запомни.
«Этот безбородый торговец тоже поучает», — недовольно подумал Токто.
— Советская власть смела всех буржуев, царей всяких, купцов, одним словом, всех богатеев. — Максим победно посмотрел на Токто и закончил: — Наша власть!
На этом красноречие его иссякло. Если бы сейчас Токто что-нибудь спросил, то он стал бы повторять все сначала, потому что это был весь запас его знаний. Максим знал свою беспомощность, старался подучиться у Воротина, но что поделаешь, когда в голове не задерживается эта премудрость о советской власти и слова улетают из головы.
— А теперь нам вовсе трудно, — продолжал уверенно Максим, потому что молчание Токто воодушевляло его. — Вдвое, втрое трудно, потому что наш вождь товарищ Ленин умер. Ты слышал это?
— Нет, не зинай.
— Если кто не слышал в тайге, всем передай: Ленин умер, нам вдвое тяжелее, потому надо сомкнуться теснее и строить советскую власть.
«Каждый человек рождается, каждый умирает. Под солнцем живем, — подумал Токто. — Умер Ленин, но власть, которую он принес народу, живет. За эту власть крови много пролито, так говорил Кунгас. Разве теперь эту власть народную можно кому отдать? Нет, нельзя».
Максим отвесил, отмерил все, что потребовал Токто.
— Все, — сказал он и, взглянув на два лишних соболя, добавил: — Это я передам Борису Павловичу, пусть он решает, что делать.
— Это долга, понимай надо. Долга советская власть, долга Ленин, — ответил Токто.
«Ишь ты! Задолжал даже Ленину», — поразился Максим.
После отъезда Токто он долго разглядывал соболей. Первосортные шкурки, мех серебром струится. Редкостные соболи, больших денег стоят. И, чудак-человек, отдает их торговцу за какие-то непонятные долги. Даже не просит в книгу записать. О расписках, конечно, он понятия не имеет. Уссурийские охотники этого не сделали бы, нх здорово научили китайские торговцы. Да и русские тоже. Максим вспомнил отца-приказчика, ловок был, кое-чему научил сына. Да, пришли другие времена, не успел Максим попользоваться этими знаниями.
Соболя жгли руки. Они ведь ничьи! Ни в каких документах не числятся. Охотник неграмотный.
Максим бросил шкурки на прилавок. Закурил. Надо все обдумать. Велик соблазн. Если раскроется? Когда? Весна, скоро через Амур не проехать будет. Да Токто далеко живет, раньше осени он не появится. Может даже совсем не появиться, торговец У никого не пропускает в Малмыж. Токто первый прошел, другой раз может не пройти. Сеть У с мелкой ячеей, всю мелочь подбирает. А если Воротин сам поедет на Харпи, заедет в Джуен, встретится с Токто? Тогда все! Крышка.
Максим нервно затянулся, взглянул на соболей.
«Нет, отец не выпустил бы из рук такую добычу! Что он придумал бы?! Обменять на захудалые? Как?»
Ладони Максима вспотели, он вытер их о куртку и взял шкурки. Подул. Встряхнул. Ах! Какой мех! Максим прижал к лицу соболей.
— Будь ты проклят, Токто, — прошептал он. — Зачем ты принес их, ведь кровь во мне отцовская стучит. Они теперь мои, мои...
Соболя щекотали лицо, ноздри, губы, какие они были мягкие! Женщины так не ласкали Максима, как эти соболя.
На улице заржала лошадь. Максим отнял от лица соболей и, увидев в окне Воротина, швырнул шкурки в ящик. Он еще не знал, что предпримет, но возвращение Бориса Павловича его обрадовало. Он выбежал помогать ему распрягать лошадь
— Ты что это какой-то встрепанный? — спросил Воротин.
— Ничего не встрепанный, какой есть, — бодро ответил Максим. — Как поездка? Встретились с Американом?
— Не видел его, но узнал любопытные вещи, хотя все охотники в Мэнгэне помалкивают. Боятся его. Раньше Американ ходил в тайгу, всегда привозил пушнину мешками. Где он ее брал? Торговал? Но чем? Говорят, у него никогда товара много не было. Теперь он не ходит в тайгу. Водкой торгует. Контрабандной водкой торгует. Где только он ее достает, откуда привозит? Учти, на пушнину меняет. Это уже по нашей торговле бьет.
Лошадь завели в утепленный сарай, дали корм.
Воротин с Максимом, оба холостяки, снимали угол в доме зажиточного малмыжца. За чаем Борис Павлович продолжал свой рассказ.
— Американ богат, друзей много. Поговаривают, будто он связан с хунхузами. А эти разбойники только возле границы крутятся. Тогда понятно, откуда водка у Американа. Но как он ее доставляет? На лодках, наверно. На пароходе не провезет. Санной дорогой тоже. Хитрый человек...
Максим слушал старшего, отхлебывая обжигающий чай. Он давно успокоился и теперь обдумывал свой следующий шаг.
— Мы, Максим, неудачно с тобой окопались, — продолжал Борис Павлович. — Надо было, несмотря на трудности с жильем, со складами, расположиться рядом с самыми крупными торговцами. Мэнгэн, конечно, не подходит, восемь — десять семей там живут. В Вознесенске — другое дело. Там и китаец торговец, и русские — Берсеневы, и другие. В Болони можно было поставить лавку дверь в дверь с У. Тогда, из-за любопытства хотя бы, заходили бы к нам. Торговать нам надо учиться. Слышал ведь, что говорили в Дальревкоме...
— Слышал, — сказал Максим. — Товара у нас маловато.
— Да, маловато. А пушнинку надо, на нее большая надежда. Потому торговать надо умеючи. А мы с ходу начали драться между собой. Интегралсоюз, Союзпушнина, Центросоюз. Черт знает что. Как мелкие купчишки, рвем друг у друга добычу, заманиваем охотников. Не годится так. Надо одну крепкую торговлю организовать, тогда и с частниками легче будет бороться. С Дальревкомом посоветоваться надо.
Борис Павлович отпил чаю, задумался.
— Как у тебя, чего не рассказываешь? — сказал он.
— Приезжал один, — ответил Максим, — озерский охотник.
— Такая новость, а ты молчишь! Прорвался-таки. Молодец! Наверно, не заезжал в Болонь, иначе его У на крючок зацепил бы. Кто он?
— Токто назвался.
— Токто! Как же, помню, его избрали председателем Совета. Неверующий такой. Привезли мы муки и крупы, раздаем, твердим, что даром, безвозмездно, мол, даем. Советская власть помогает. Не верит. Про долг говорил?
— Да. Твердил, долг верну. Вернул.
— Как? Привез за долг пушнину?
— Да, соболя.
Максим сам удивился, как это легко вырвалось у него, видно, где-то в мозгу крепко засела эта мысль забрать себе одного соболя.
— Вот чудак! Ты побеседовал с ним?
— Конечно.
— Знаю, как ты беседуешь, два слова не можешь сказать. А Токто к тому же по-русски плохо понимает.
— Беседовал, Борис Павлович, всю душу выложил. А он сердится, сует мне в руки соболя и твердит: «Долга, советская власть долга. Ленин долга».
Максим удачно изобразил Токто, но Борис Павлович не рассмеялся.
— Так и сказал? Ленину долг принес?
— Так и сказал.
— Эх, Максимка, не зря мы с тобой здесь сидим. Не зря! Если этот дальний озерский охотник несет свой долг Ленину — это хорошо!
— Чего хорошего — не должен, а несет.
— Мы ему вернем соболя, не в этом дело. Он знает, что советская власть и вождь народа Ленин крепко встали на ноги. Да, ты сообщил...
— Сказал. Когда сказал, что Ленин умер, тогда он и заявил, Ленину долг принес.
— Молодец Токто! Какой молодец! Значит, он, как и все мы, верит в бессмертие ленинских дел. Вот как! Хорошо, Максим. А соболя вернем, первым же охотником оттуда вернем.
— Может, товары какие...
— Нет, никак нельзя, соболя возвратим.
Максим облегченно вздохнул.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Пиапон знает Холгитона, кажется, всю жизнь, и только дважды видел его плачущим: когда хоронили его отца Баосу и старого Гангу. Плакал Холгитон тогда и сильно плакал.
Пиапон смотрел на слезу, сверкавшую при свете жирника в жиденькой бородке старика, а слеза та все расширялась, делалась круглее, потом внезапно разлетелась на все стороны. Пиапон понял, что он тоже плачет. Но почему плачет? Он никогда не видел Ленина, слышал о нем только от Павла Глотова. Боится возвращения старого? Да, если возвратятся белые и японцы, не избежать ему снова шомполов.
— Ты, Пиапон, скажи, как дальше будем жить? — который раз повторял Холгитон.
Как дальше жить? Откуда он может это знать, если только вернулся из тайги, только услышал о смерти Ленина. Пиапон никогда не задумывался над этим, потому что жил, как жили все охотники, добывал зверей, ловил рыбу. Добыл пушнины, заготовил впрок мяса и юколы — вот и живи дальше. Не было у охотников мечты о будущем. Если кто и мечтал, так о чем? Пожалуй, о богатстве только. Как Полокто. А думать и мечтать заставил Ленин, сказал, будете, охотники, лучше жить: не будет богатых, не будет торговцев, которые вас обманывают, получите хорошие ружья, капканы, сетки и невода, советская власть вам поможет. Тогда и направление мыслей охотников стало общим, поверили они Ленину и советской власти. А теперь Ленин умер, мечта охотников, словно подбитая птица, распласталась на земле.
— Ты скажи, Пиапон, зачем он умер? Только все на ноги начали становиться, а он умер...
Не тереби ты, старик, душу, она и так кровью обливается. Мечта Пиапона подрезана. А так ли, Пиапон? Советская власть ведь живет, ты председатель Совета тут, в Нярги. Ты жив. Рядом в Малмыже Воротин — советский торговец. Дальше есть исполком, там Ултумбу. А еще дальше где-то Глотов.
— Будем жить, дака, будем, — ответил Пиапон. — Когда умирают близкие, мы говорим: плачь, сильнее плачь, но думай, как дальше жить! Будем вместе думать, как дальше жить.
Ты верно говоришь, Пиапон, но больше себя успокаиваешь, чем старика. Ленин наверняка завещал людям, как жить дальше, а ты не знаешь. Почему не знаешь? Советскую власть надо укреплять, новую жизнь строить... Но как строить? Ты председатель Совета в Нярги, а ничего не делаешь. Чем ты лучше старшинки царского? Он ведь тоже был главным лицом в стойбище, тоже ничего не делал. Был бы жив Ленин, ты бы посоветовался с ним, а теперь с кем посоветуешься? Говоришь, он не умер, потому что оставил свои дела, мысли? Может, ты прав...
— Пиапон, белые не вернутся?
— У нас берданки есть, дака, воевать научились.
— Это верно, вы воевали. Я ведь тоже могу еще стрелять, если будут возвращаться, выйду встречать.
— Сыновья будут с тобой, мы все рядом будем, так ведь призывал Ленин.
— Всех бедных призывал, чтобы разом поднялись на богатых.
Верно, старик, он всех бедных призывал: русских, нанай, ульчей, корейцев — всех. Если бедные разных народов встанут на лыжи в одном отряде, тут без дружбы не обойтись. Без дружбы — нет силы. Выходит, Ленин призывал к дружбе всех народов. Да, в дружбе — сила!
— Чего это я, — сказал Холгитон, — плачу, что ли?
— Пьяный ты, — сказал Полокто, сидевший рядом.
— Ты молчи. Один я знаю, почему плачу. А ты молчи, ты думай о своем богатстве.
— А ты не считай мое богатство!
— Тьфу, твое богатство! Пиапон, я пойду домой.
Было уже поздно, когда разошлись гости. Пиапон лег на постель не раздеваясь. Голова была свежая, будто не выпивал весь вечер.
— Ты чего, отец Миры? — удивилась жена. — О чем так думаешь? Ваньку Зайцева жалеешь?
Пиапон отвернулся от нее. Молодой была Дярикта и не отличалась умом, теперь совсем поглупела. Надо же выдумать такое — жалеть Ваньку Зайцева!
Прежние мысли не возвращались. Пиапон лежал с открытыми глазами и не заметил, как провалился в сон. Проснулся утром после женщин, те уже хлопотали возле печи, готовили новое угощение. Пиапон сел на постели и закурил. Через стол стояла кровать Богдана. Пиапон взглянул туда — Богдан лежал с открытыми глазами, закинув за голову руки. Рядом с ним приткнулся Иванка.
— Богдан, ты слышал? — спросил Пиапон.
— Слышал, дед, — ответил Богдан. — Я не спал, все слышал. Наверно, все люди на земле плакали в тот день, а мы не знали. Как так...
Богдан замолчал. Дярикта вполголоса переговаривалась с дочерью, стучала ножом.
— Сколько так будет продолжаться, что мы все новости узнаем последними? — продолжал Богдан. — А старик не прав. Новая власть уже крепко встала на ноги там, в Москве. Ты ведь знаешь, что такое Москва?
— Там Ленин жил.
— Да, там Ленин жил, это главный город советской власти. Отец Нипо не прав, у Ленина много было помощников, друзей, они продолжат его дело. Представь себе, живет человек с большой семьей. Начал он строить большой дом, заложил основание и вдруг умер. Неужели ты думаешь, этот начатый дом бросят? А человек оставил на бумаге изображение дома. Хорошее изображение, все это видят. Будут достраивать дом! Так я думаю. Весь вечер думал.
Пиапон не проронил ни слова, его мысли совпадали с мыслями племянника. У Богдана голова умная, сначала хорошо подумает, потом выскажет, все ясно и понятно. Не зря старики уговаривают его стать родовым судьей.
Не выкурил Пиапон трубку, как ввалились первые гости. Разговор оборвался. Вошла Агоака, сестра Пиапона. Шаркнула ногой об ногу, будто снег стряхивала с олочей. Подсела к печи.
— Ты, Агоака, как ночная птица, — сказала Дярикта. — Всю ночь, видно, на ногах, у тебя уже все сварено, только гостей дожидается еда.
— Гости, — фыркнула Агоака. — Когда они были? Теперь люди живут в деревянных домах, у них очаги большие, полы деревянные, чонко нет...
— Тетя, ты свое чонко травой давно заткнула, — засмеялась Хэсиктэкэ.
— Заткнула, что из этого? Холодно, потому заткнула. Что, из-за этого к нам нельзя приходить в гости? Проходишь мимо и нельзя заглянуть? Что, наша грязь пристанет к вам?
— Это к кому пристанет грязь? — вступилась Дярикта.
— Началось! — расхохоталась Хэсиктэкэ. — Папа, слушай, ты ведь давно не слышал, как тетя с мамой состязаются. Вот языки! Как листья тальника на ветру. Ха-ха!
Чонко — отверстие на крыше фанэы (дымоход).
Пиапон, Богдан и гости рассмеялись. Кто не знал в Нярги Дярикту и Агоаку! А они уже не слышали ничего, словно токующие тетерева.
— Я говорю, наша грязь к вам пристанет, — тараторила Агоака, — мы в фанзе живем, пол глиняный...
— Настели досок, кто за руки держит...
— Потому не заходит никто...
— Заходить не будут, если ты трубку не подаешь...
Пиапон рассмеялся и спросил:
— Мать Гудюкэн ты в гости зовешь?
— Как я посмею звать в гости, когда мимо проходят...
— Что у тебя? Талу нарезала?
— Талу из осетрины нарезала, пельмени на морозе...
— С этого и начала бы!
Агоака удовлетворенно сплюнула на золу перед дверцей печи.
— Ты всех зовешь?
— Сказала, да не знаю, придут ли.
— Будешь звать, как сейчас, кто придет? Надо ласково.
— Она хитростью берет, — сказала Дярикта.
— У тебя научилась, а то у кого же!
Дярикта зло сверкнула глазами, прикусила язык.
Агоака опять сплюнула. Теперь уже с негодованием. Она не могла простить Дярикте позора, который та навлекла на Пиапона, когда зайчонка Миры пыталась выдать за сына ее замужней старшей сестры Хэсиктэкэ. Прошло больше восьми лет, вон Иванка какой уже, по грудь почти Богдану, а обида за любимого брата не проходит. А вместе с обидой и злость.
— Ради талы из осетрины в какой грязный дом не пойдешь, — сказал Пиапон, натягивая на ноги торбаса. — Богдан, ты разве не хочешь немного грязи из большого дома вынести?
— Дед, пить не хочу, — поморщился Богдан.
— Боится, — сказала Агоака, — думает, оженю его. Нет невесты, не бойся.
— Ты чего такая злая, тетя? — спросил Богдан.
— Рада, что не идешь в гости.
Зайчонок — так нанайцы называют внебрачного ребенка.
— Печенку осетровую оставила?
— Оставишь, когда рядом эти коршуны — Кирка да Хорхой.
— Не злись, иду.
Когда Богдан пришел в большой дом, там в сборе были все дети Баосы, зятья, внуки — полный дом.
Хорхой с Киркой посадили его за свой столик.
— В тайге ты совсем оброс, — сказал Хорхой, оглядев Богдана, — скоро косички вновь заплетешь.
В Нярги Богдан один был без косичек; когда он возвратился из Николаевска без кос, няргинцы подняли его на смех: «Что за голова у тебя, Богдан, точно обгорелая кочка. Ха-ха!» — «Богдан, за тебя ни одна девушка не выйдет замуж. Где твоя мужская красота!»
Только Пиапон да несколько юношей сочувствовали Богдану. Они хотели быть похожими на него, но боялись насмешек. Богдан предлагал им отрезать косы, обещал подстричь по-русски, по-городскому. Велик был соблазн, но юноши все же устояли. Сидят перед Богданом, красуются косичками. Хорхой завидовал расческе Богдана, все тетки пытались выманить у него ножницы и чего только не предлагали взамен.
— Нет, Хорхой, косичек у меня не будет. Поеду в Малмыж, там есть мастер, умеет стричь.
— Тебе хорошо, ты из города вернулся без кос.
— Какая разница, в городе отрезать или в Нярги?
— Совсем другое дело из города вернуться...
Гудюкэн, дочь Агоаки, подала чашку мелко нарезанной осетрины. Агоака поднесла Богдану водки в фарфоровой чашечке с ноготок.
— Пей. Что за нанай ты? Какой ты охотник? Косу отрезал, от водки морщишься, от женщин отворачиваешься. Пей.
Богдан усмехнулся, обмочил верхнюю губу в водке, вернул Агоаке. Та тоже помочила губы и вернула Богдану. Тот выпил.
— Если бы ты не выпил, я тебе подала бы, как подают русские, в кружке, и заставила бы выпить.
За соседним столиком засмеялись.
— Такая наша сестра, — сказал Дяпа. — Вредная.
— Большой дом на ней держится, — поддержал его Холгитон.
— Какой большой дом? Нет давно большого дома, мы с отцом Миры ушли отсюда, и не стало большого дома, — сказал Полокто.
Богдан расправлялся с талой, когда услышал рядом спор братьев. Говорил сперва Полокто.
— Удачная зима. Разве не так?
— Для нас удачная, — ответил Калпе. — Весной голодали, осенью хорошо зажили. Другие с охоты пустые вернулись.
— Я тоже мало добыл.
— Зато ты раньше всех вернулся и сено продаешь русским. Хорошо заработал.
— Мое сено лишнее, а у малмыжских нет сена, потому хорошие деньги дают.
— Ты всегда путаешь мое и наше. Сено косили все вместе.
— Я позвал вас, если бы не позвал, не заготовили бы.
— Все равно, сено косили, теперь деньги поровну!
— Отец Ойты, у русских совсем нет сена? — спросил Пиапон.
— Мало, коровы, лошади голодают, луга-то...
— Много продал? Есть еще сено?
— Зачем тебе? Продавать хочешь?
— Это мое дело! Есть сено?
— Есть! Есть! — закричал Калпе.
— Немного есть, а что? Ты скажи, зачем? Твоей лошади хватит, моим тоже.
— Дай одну лошадь с санями, за сеном поеду.
— Не даст он лошадь, — сказал Холгитон.
— Дам, вот возьму и дам! — закричал Полокто. — Возьми лошадь и сено возьми.
Пиапон поднялся, стал одеваться.
— Куда, ага? Погости еще.
— Вернусь, куда денусь. Богдан, Хорхой, Кирка, поехали со мной, — сказал Пиапон и вышел из дому.
Вскоре четыре подводы выехали из Нярги. Поздно вечером Пиапон с молодыми возчиками вернулся домой с пустыми санями.
— Где сено? — спросил поджидавший его Полокто.
— В Малмыже, — распрягая лошадь, ответил Пиапон. — У русских сена нет, коровы молока не дают, а русские дети без молока не могут жить.
— Сам знаю. Даром, что ли, отдал? Митрофану?
— Ему и другим, кто нуждался больше.
— Ты ограбил меня! Так тебе советская власть советует? Родного брата грабить советует?
— Советует...
— Тогда это не моя власть! Не хочу такой власти!
— Советует помогать нуждающимся, советует жить в братстве, — продолжал спокойно Пиапон.
— Тебе русские братья роднее, чем я, родной брат!
— Ленин так говорил, понял? В дружбе всем жить, помогать друг другу.
Полокто плакал пьяными слезами, проклинал Пиапона, злых духов просил наслать на него неизлечимые болезни. Старики слушали и качали головами, нельзя так, соромбори — грех!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Кто вспомнит о морозах, когда ласково греет солнце? Кто вспомнит о голоде, когда живот распирает от обильной пищи? Нет, никто не вспомнит — это знает Пиапон. Когда в амбаре навалом лежит пища, все домашние одеты и обуты, жизнь всем кажется счастливой и беззаботной. Спросишь любого, как он прожил жизнь, не задумываясь, ответит: «Хорошо». Лишь тот, кто всю жизнь хворал и из-за этого не видел солнца, не слышал песни воды и ветра, ответит, что плохо! Что про такого скажешь? Вздохнешь сочувственно, подумаешь: «Бедный человек. Судьба». Но стоит этому хворому встать на ноги, походить по тайге, поплавать по Амуру, и как бы бедно он ни прожил другую половину жизни, в последний свой день он скажет: «Хорошо жил», потому что он начисто забыл первую — плохую половину жизни.
«Живем сегодняшним днем, — думал всегда Пиапон. — Хорошо сегодня, значит, и жизнь хороша. Прошлое не хотим вспоминать, о будущем не хотим думать. Теперь другие времена, надо по-другому жить».
Но жизнь протекала, как и прежде, то убыстряясь, то замедляясь: убыстрялась она, когда одно событие за другим катилось, словно снежный ком с горы, и охватывало не то что одно стойбище, а несколько сел или даже весь Амур; за этим вновь наступал спад, и жизнь опять замирала. Старики тихо умирали, дети с криком рождались — все нормально, все правильно. Обыкновенная жизнь. Так и должно быть.
Но Пиапон не соглашался с такой размеренностью жизни. Что делать, как подталкивать ее? Какие придумывать новшества?
«Новая жизнь», — говорил он, и редко кто, кроме Богдана, понимал его. «Живем, и хорошо», — отвечали ему.
Верно, в Нярги теперь жили терпимо, не очень сытно, но и не голодно. Зима, последовавшая за той, в которую умер Ленин, была малоурожайна на зверье, охотники мало добыли пушнины, но голодать не голодали.
Приезжали из исполкома начальники, расспрашивали о жизни, о рыбной ловле, охоте, говорили много о новой власти, но никаких перемен их приезд не вносил в жизнь охотников. Раза два приезжал Ултумбу, сообщил, что в Хабаровске организован Комитет народов Севера, который будет решать все житейские вопросы северных народностей.
— Где-то далеко организовываете всякие комитеты, — сказал Пиапон, — а что толку? Ничего не делается тут, на месте.
— Как ничего? — удивился Ултумбу.
— Новая жизнь, а что нового?
— Эх, Пиапон, давай я тебе объясню. Сначала у нас была организована Дальневосточная республика. Эта республика в 1922 году приняла программу помощи северным народам. Там сказано: помогать продуктами, одеждой, защищать от торговцев. Это что, разве не новое? Это в двадцать втором-то году, когда война только закончилась! В следующем году Дальревком принял решение, где тоже сказано — помогать, помогать охотникам. А ты? Эх, Пиапон, советская власть с самого начала, как только родилась, начала нам помогать. Только все делается не так быстро, как нам хотелось бы. Кроме заботы о нас у советской власти по горло других дел. Ох, как много, Пиапон, если бы ты знал! Жизнь налаживается. Потерпи, Пиапон, работы тебе скоро будет вдоволь, об охоте забудешь — вот как будешь занят.
— Без охоты нанай не проживет, Ултумбу. Какие бы ни были дела — охотиться буду.
— Некогда будет.
— Найду время.
Пиапон охотился всю зиму. Как же ему без охоты, на что жить? Председательская зарплата слишком мала. Когда возвратился из тайги, в стойбище его встретили советские торговцы. Много их было, один у другого отнимали пушнину. Все они были советскими торговцами, один из Дальторга, другой из Центросоюза, третий из Союзпушнины. Поехал Пиапон в Малмыж, сдал пушнину Воротину, спросил:
— Почему столько торговцев? Одна советская власть, а торговцы разные?
— Путаница есть, но думаю, что скоро разберемся, — ответил Воротин.
Орава новых торговцев оживила жизнь стойбища, некоторым старикам напомнила прошлое, когда так же спорили, отбирали друг у друга пушнину китайские и маньчжурские торговцы. Но в отличие от тех новые торговцы не продавали водки, они только словами, обещаниями, товарами и ценами заманивали охотников. Разъехались говорливые торговцы, и опять замерло стойбище, но ненадолго.
В большую семью Заксоров пришла беда — погиб Дяпа. Ставил он капканы на колонков, уходил из дому рано утром, возвращался после полудня. В конце марта однажды он не пришел в свое время. Домашние решили, что он поджидает ночи, чтобы возвратиться по насту. Но и ночью не пришел. Калпе, Хорхой, Богдан пошли на поиски и привезли истерзанное тело Дяпы. Его задавил медведь.
Братья Дяпы, племянники вытащили из амбаров берданки, охотничью одежду и в ту же ночь пошли на поиски медведя. В полдень они расправились со своим врагом, располосовали ножами на куски мясо, разбросали в разные стороны, кости дробили топорами. Собаки впервые в жизни объелись медвежатины так, что еле доползли до дому.
Похоронили Дяпу возле отца и матери. Жена Дяпы, Исоака, ходила на могилу, жгла костер. Хорхой с сестренкой Дяйбой иногда ходили ей помогать.
После похорон брата Пиапон задумался над судьбой Исоаки. Как ей быть? Исоака, по закону, могла вернуться к родителям, но они давно умерли. Могла Исоака, конечно, жить с сыном Хорхоем, нянчить внучат. Но захочет ли она? По старым законам, она должна перейти к Калпе, стать его женой. Это называется сирагори — продолжить.
Если не захочет Калпе продолжить Дяпу, ее могут взять Полокто или Пиапон. Старшим братьям закон не запрещает забрать ее в жены. Если же братья по каким-то причинам не могут продолжить Дяпу, Исоака может стать женой любого племянника мужа. На это имеют право сыновья Полокто: Ойта и Гара и сын Калпе — Кирка. Правда, Кирка моложе даже сына Исоаки Хорхоя, но разве раньше не бывали шестидесятилетние старухи женами восемнадцатилетних? Бывали, и сколько угодно.
Разобрал Пиапон все эти варианты, но решать положено не ему, Исоака сама должна сделать выбор, а дело братьев и племянников Дяпы — принять или отвергнуть. Пиапон размышлял над судьбой Исоаки потому, что был председателем Совета стойбища, он чувствовал свою ответственность за ее судьбу.
Исоака продолжала жить в большом доме, вела свое хозяйство с невесткой и с дочерью. Прошел апрель, наступил май. Женщины готовили на зиму черемшу. Однажды, вернувшись из тайги, Исоака зашла к Пиапону.
— Аха, уже терпеть не можешь, замуж, наверно? — встретила ее Дярикта.
Исоака смутилась и сказала:
— Зачем так, мать Миры?
Пиапон, выслушав Исоаку, вечером собрал в большом доме всех братьев и племянников. Давно не собирались они на такой совет!
Братья сели в кружок на том месте, где сидели они, когда был жив отец. Рядом с ними новая охотничья поросль: Ойта, Гара, Кирка. Богдана не было в стойбище, он уехал на Харпи погостить у родителей. На этом совете он мог присутствовать только наблюдателем, жениться на Исоаке он не имел права, так как был племянником Дяпы с женской стороны.
Братья курили трубки и молчали. Притихли молодые охотники. Возле очага замерли женщины большого дома. Среди них Исоака. Далда нервно курила свою длинную трубку. Волновались и жены Полокто — Майда и Гэйе — вдруг их сумасбродный муж приведет в дом Исоаку! Еще больше тревожились жены Ойты и Гары, они были молоды и не хотели ни с кем делить своих мужей. Одна Дярикта была спокойна.
— Исоака, иди к нам, — сказала она. — Ты хорошая, я ведь знаю, будешь мне сестрой. Хочешь, я сейчас отцу Миры скажу?
— Тебя послушается, жди, — усмехнулась Агоака.
— Не надо, они сами решают, — сказала Исоака. Молчание мужчин прервал Полокто.
— В старое время такое дело решал бы я, — сказал он. — Но теперь другие законы. Ты, отец Миры, председатель Совета, начинай разговор.
— Начать можно, — ответил Пиапон. — Может, отца Нипо позовем, легче будет нам говорить?
— Когда на совет большого дома посторонних звали? — спросил Полокто.
— Это советский совет, — возразил Калпе. Позвали Холгитона. Старик сел в кругу братьев.
— Собрались, чтобы поговорить об Исоаке, — сказал Пиапон. — Она остается с нами, с Заксорами.
— Куда ей деваться? Она ваш человек, — сказал Холгитон. — Кто ее продолжит?
Полокто усмехнулся.
— Мне третью жену? Кормить надо...
— Кто тебя насилует? — сказал Холгитон. — Твоя воля.
Калпе опустил голову, он обо всем переговорил с Далдой, и жена наотрез отказалась от Исоаки и даже пригрозила, что уйдет к родителям, если он возьмет вторую жену. Но Калпе беспокоило сейчас не это, он больше думал о неустроенности сына, о том, что все еще не может собрать денег на тори. Кирке пора жениться. А тут еще придет Исоака с дочерью...
— Не могу, — сказал Калпе и откашлялся.
— Ты обязан был, — нахмурился Холгитон. — Ты младше отца Хорхоя. Кто же теперь ее возьмет? Отцу Миры, я думаю, нельзя, он председатель Совета. А, может, можно? — Холгитон взглянул на Пиапона.
— Кто его знает, — ответил Пиапон. — Ултумбу надо спросить или в Хабаровске.
— Это долго, надо сейчас решать. Молодая женщина давно без мужа живет. Молодые, головы поднимите.
Холгитон взял в руки совет большого дома и упивался этой маленькой властью.
— Ойта!
— Жена у меня...
— Какой мужчина думает о жене, когда другую предлагают? Под женой живешь. Гара, ты что скажешь? Берешь женщину?
— Жена у меня...
— Твой отец с двумя женами живет и ничего! Он уже пожилой, а ты молодой. От женщины, которую тебе даром дают, без тори дают, отказываешься! А-я-я, какие молодые охотники пошли! Повтори, берешь?
— Не могу...
— Как не могу? Спать с женщиной уже не можешь? Бессердечный человек ты! Все вы, Заксоры, бессердечные люди оказались! — Холгитон совсем разошелся. — Ваша женщина осталась одна, без мужа, без кормильца, а вы ее из дома, как собаку, выгоняете.
Исоака тихо всхлипнула. Дярикта погладила ее по спине, что-то прошептала.
— Молодая она еще, и вам ее не жалко? Я всегда думал про вас хорошо, всем говорил, смотрите, какие Заксоры, берите с них пример. Теперь вижу — зря говорил. В старое время так не поступали. Закон сирагори — самый хороший закон, человеколюбивый закон. Он говорит, не бросайте, люди, женщину с детьми, кормите ее, выращивайте детей. Хороший закон, и такой закон советская власть обязательно поддержит. Кирка, ты что думаешь?
Холгитон так внезапно выкрикнул имя юноши, что все вздрогнули. Кирка, сидевший с опущенной головой, ожидавший каждую минуту этого вопроса, даже подскочил. Он покраснел, уши зардели спелой рябиной.
— Ты остался в этом доме один мужчина. Так будь настоящим мужчиной, будь храбрым охотником, поддержи честь Заксоров.
Кирка молчал.
— Твой дед сейчас смотрит на тебя, он где-то тут. Он теперь только на тебя надеется. Тебе даром дают женщину, без тори дают. Возьми, не отпускай ее из дома Заксоров.
Юноша молчал. Калпе смотрел на сына и тоже молчал. Далда замерла возле очага.
— Она ваш человек, нельзя отпускать. За нее деньги уплачены...
Пиапон помнил, что за Исоаку никто ничего не платил, отец договорился с ее отцом, они обменялись дочерями. Когда Идари сбежала с Потой, отец сильно переживал, чуть не поссорился с отцом Исоаки. Потом они помирились, отец Исоаки наотрез отказался от тори и не взял ни денег, ни соболей.
Полокто тоже помнил все, он слушал Холгитона, и его нисколько не возмущало поведение старика, он был, наоборот, доволен, что старик обошел его — зачем ему пожилая Исоака, когда он собирается купить себе молодую жену?
Калпе с раздражением слушал Холгитона, несколько раз собирался оборвать его красноречие, сказать, что он передумал и берет в жены Исоаку. Но Исоаку уже предлагали его сыну, удобно ли отбирать жену у сына? Потому Калпе молчал, хотя ему было очень стыдно.
— Бери, Кирка, женщину, — сказал Холгитон тоном, не терпящим возражения. — Бери и живи с ней. Ты сердечный человек, ты не выгонишь из дому женщину. Дяйба скоро выйдет замуж, и ты вдвоем с женой заживешь. Ты ее полюбишь, она хорошая, добрая женщина, я ее с люльки знаю. А если захочешь жениться на другой, она не станет противиться, ты приведешь молодую жену. Чем плохо? Эх, когда я был молодой, почему мне не выпало такое счастье? А ты, Кирка, счастлив, без денег жену нашел.
Кирка молчал. Когда на нарах поставили столики, он лег на свое место и не поднимал больше головы. Подали на столик еду, водку.
— Оженили твоего сына, — сказал Холгитон Калпе. — Если собрал на тори, теперь можешь пропить.
А Пиапон добавил:
— Я думал, ты продолжишь, а ты отказался вдруг. Я бы продолжил, Исоака хорошая женщина.
— Тебе нельзя, ты председатель, может, что не так, кто знает, — возразил Холгитон.
— Сыновья мои продолжили бы, — сказал Полокто, — да жены у них хуже медведиц. Если бы привели они Исоаку, каждый день ссорились бы, дом весь перевернули бы.
— У тебя и так хватает ссор, — усмехнулся Холгитон.
— Верно. Но эго я ссорюсь с женами, а что будет, когда дети еще начнут? Плохо будет.
Возвратился Хорхой, во время совета он отсиживался в доме Полокто. Узнав решение совета, он подошел к Кирке, лег и прошептал:
— Кирка, как мне теперь тебя звать, а?
Кирка размахнулся, ударил невпопад, но угодил в ухо Хорхоя.
— Охо! Ты уже бьешь меня, — засмеялся Хорхой. Кирка вскочил и выбежал на улицу.
— Чего это он? — удивился Холгитон. — Оженили его, радоваться должен, а он что?
Старик еще ничего не знал о любви своей дочери Мимы и Кирки. Влюбленные встретились. Всю ночь они провели вдвоем на конце острова, откуда когда-то, оттолкнув лодку, сбежали такие же влюбленные Идари и Пота. Мима с Киркой тоже думали о побеге, но куда теперь им бежать, где спрятаться?
— Никуда не сбежишь, — горестно шептал Кирка. — Кругом теперь одна новая власть.
— Раньше будто власти не было, — возражала Мима.
Раньше с этого места отчалила лодка Поты, он увозил украденную Идари, а теперь Мима уговаривала Кирку сбежать...
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Пиапону казалось, что не пароход поднимается по реке, а Амур наползает на него, как какое-то живое существо, извиваясь, то сужаясь, то расширяясь. Мутная вода валилась навстречу, и тупой нос парохода едва раздвигал ее. Двигатели грохотали в железном брюхе, колесо шлепало позади, и весь этот необычный шум ласкал ухо Пиапона. Он был человек тихий, привыкший с детства к тишине, к таежному полумраку и не переносивший лишнего шума. Почему же теперь нравился ему этот железный грохот? Когда он прощался на берегу Малмыжа с Митрофаном, пароход ему казался обыкновенным, каких десятки плавают по Амуру. Но когда они сели в шлюпку, Богдан сказал, что пароход называется «Гольд». Вот тогда-то и проникся Пиапон уважением к этому пароходу, потому-то и нравился ему даже грохот его стального сердца.
— «Гольд» назвали, надо же, — повторял он который раз. — Почему так назвали?
Богдан этого не знал, но по привычке стал размышлять вслух.
— Есть пароход «Кореец», почему не быть «Гольду»? Советская власть уважает все народы, потому пароход назвали именем нашего народа. Царская власть не называла свои пароходы именем нашего народа, не созывала людей на большой разговор в губернский город.
— Да, ты прав, — вздохнул Пиапон.
Пиапон с Богданом ехали на первый туземный съезд Дальнего Востока, который созывало Дальневосточное бюро ЦК. Как только вскрылся Амур, в Нярги приехал Высокий, широкоплечий русский. Он немного говорил по-нанайски и объяснил, что в июне в Хабаровске созывается съезд туземцев, где будут решаться вопросы, как улучшить их жизнь. От нескольких стойбищ требовалось выбрать одного делегата. Собрались няргинцы, подумали и решили послать Богдана, так как он хорошо говорит по-русски, умеет читать и писать. Однако, хотя Богдан и грамотный, но молодой, и предложили ехать с ним Пиапону, потому что в серьезном деле старший советчик не помешает.
Приезжий, его звали Казимир Дубский, проехал по соседним стойбищам. В Болони, Хулусэне, Нижнем Нярги, Хунгари, Туссере охотники согласились с предложением няргинцев. Перед выездом Богдан с Пиапоном ездили в Хулусэн помолиться священному жбану счастья, беседовали с великим шаманом Богдано Заксором. Шаману не нравился Дубский.
— Глаза его недобрые, — сказал Богдано. — Расспрашивал меня, выведывал шаманские тайны, настойчиво выведывал. Зачем ему это знать? Не верьте ему, это нехороший человек. Отговорить вас не могу, люди вас посылают, но будьте осторожны, ты, Богдан, особенно.
Так напутствовал родственников великий шаман.
Пиапону Дубский, наоборот, показался забавным человеком, он поинтересовался женскими вышивками, берестяными изделиями, слушал легенды и сказки, все записывал. Глаза его были тоже забавные, зеленоватые, таких глаз Пиапону раньше не приходилось видеть. Правда, глаза Дубского не очень ласковы и походили скорее на зеленый лед или стекло.
«Гольд» резал тупым носом тугие амурские волны, равномерно шлепал колесом. Прибыли в Хабаровск вечером, а на следующий день открылся съезд.
Большое красное здание было разукрашено флагами, плакатами, зал утопал в кумаче, сверкали начищенные трубы оркестрантов. Все было необычайно торжественно и празднично. Пиапона сперва ошеломило такое обилие красной материи и портретов. Дубский собрал возле себя делегатов и гостей-нанайцев, среди которых было немало женщин. Пиапон познакомился со всеми делегатами-нанайцами: Михаилом Актанка из Сакачи-Аляна, с которым, как выяснилось при разговоре, был и раньше немного знаком; Яковом Актанка, Ганя Бельды из Сэвэки, Екатериной Удинкан из Тауди, Николаем Тумали из Пули. Повстречался и с родственником Алексеем Заксором из Толгона.
— Почему тебя Алексеем зовут? — спросил Пиапон. — Ты ведь Орока.
— По-русски назвали Алексеем, — улыбнулся Орока.
Казимир Дубский показывал пальцем на портреты и говорил:
— Это Калинин, он был в Хабаровске два года назад, он самый главный человек в советском государстве...
— Главнее Ленина?
Дубский, видно, поднаторел в агитационном деле, легко находил ответы на все вопросы, но его толкования были довольно примитивны, может быть, оттого что он подлаживался под своих слушателей.
— Это Смидович. Комитет Севера знаете? Большой Комитет находится в Москве, там Смидович возглавляет этот комитет. А это Сталин, он главный партийный...
Медные трубы отчаянно ревели, звенели тарелки, гремел барабан, весь этот необычный шум до боли давил на уши, кружил голову. Пиапон морщился и с наслаждением вспоминал железный грохот «Гольда». Там хоть и грохотали железки, но они дело делали, толкали пароход, а эти трубы для чего ревут?
Наконец замолкли трубы, делегаты, гости заняли стулья. Часы показывали восемь. В торжественной тишине открылся первый съезд туземцев Дальнего Востока. В зале сидели нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, тунгусы, не могли прибыть из-за льда и непогоды чукчи, эскимосы, коряки, ительмены.
Избрали президиум съезда, и, к великому удивлению Пиапона, его племянника Богдана посадили за почетный стол, обтянутый красной материей, рядом с большими дянгианами всего Дальневосточного края, Пиапон почувствовал, как радостно запрыгало сердце, тепло разлилось по телу.
Потом на возвышение поднялся Орока, которого теперь по-русски звали Алексеем.
— В почетный президиум, — раздался его звонкий голос, — товарищей Калинина, Смидовича, Сталина...
«Молодая голова, запомнил ведь всех, — подумал Пиапон. — А я только Ленина запомнил, но зато на всю жизнь».
После Ороки на возвышение поднялся человек в военной гимнастерке, с красивой бородой.
— Гамарник будет говорить, — сказал переводчик. — Он председатель Дальревкома.
— Товарищи! Первый дальневосточный съезд туземцев собрался в дни, когда войска англо-американских империалистов расстреливают на улицах Шанхая и других городов Китая мирные демонстрации трудящихся. Расстреливают рабочих и студентов. Это наглядно показывает, как империалисты решают у себя национальный вопрос...
Пиапон слушал бородатого Гамарника и думал: откуда ему известно, что происходит в далеком Китае, из газет он это знает или по железным ниткам переговаривается с китайцами? Очень хотелось об этом узнать, но переводчик был занят, переводил речь Гамарника.
— Советская власть на Дальнем Востоке существует не много лет, но туземцы уже убедились, что она является их другом. Царизм шел к вам с водкой и крестом, спаивал, выкачивал пушнину и рыбу, а советская власть идет на помощь со школами, больницами и кооперацией. Много уже сделано для улучшения жизни туземцев, но предстоит сделать еще больше. Мы уверены, что вы справитесь с культурными задачами. Дальревком сегодня подарит вам берданы, это вам не только для охоты, но и для защиты от империалистических хищников!..
Сперва в президиуме захлопали, потом аплодисменты охватили весь зал. Внезапно оркестр затрубил, и, к удивлению Пиапона, незнакомая мелодия захватила его, сладко защемило сердце. Новое, неизведанное чувство охватило его.
— «Интернационал» называется, песня бедных людей всей земли, — прокричал переводчик.
После Гамарника делегатов съезда приветствовали руководители края, женотдела, Дальбюро ЦК, Камчатского губкома. После каждого выступающего оркестр исполнял «Интернационал».
— Хорошо эти трубы играют, — сказал сидевший рядом с Пиапоном Михаил Актанка.
— Дянгианы говорят, потому, наверно, играют, — предположил Пиапон.
Хитрый Михаил кивнул в знак согласия, но не сказал, что будет сам приветствовать съезд. Когда он с переводчиком-женщиной вышел к столу президиума и заговорил, у Пиапона перехватило дыхание. Михаил Актанка говорил по-нанайски! На таком большом людном сборище, где собрались люди десятка национальностей, нанайский язык звучал наравне с другими! Его, Пиапона, родной язык.
А еще больше взволновало и обрадовало его, когда медные трубы грянули «Интернационал». Его родному языку трубы пели песню рабочих и бедняков всего мира! Как же тут не взволноваться было.
Делегатам вручали берданки с подсумком патронов, портреты Ленина, красивые значки и книги. Получив подарок, каждый охотник держал речь. Сказал свое слово и Орока.
— Если белые захотят вернуться, я с этой берданкой встану на их тропу. Мы защитим советскую власть.
Когда закрывали первое заседание съезда, на часах было девять часов сорок пять минут.
«Вот, оказывается, зачем часы, — подумал Пиапон. — На больших разговорах по часам время делят».
— Как за красным столом сидел? — спросил он, встретив Богдана в коридоре.
— Плохо, дед, — ответил Богдан. — Все смотрят на тебя, разглядывают. Непривычно, я совсем мокрый, вспотел.
Делегатов и гостей пригласили в зал, где были расставлены и накрыты столы.
— Водкой поить будут, — сказал Николай Тумали.
— Как пить? Стыдно, — засмеялась Екатерина Удинкан.
Пиапон сел, где ему предложили. Рядом оказались Михаил Актанка и нивх Хутэвих. На столе стояли бутылки с водкой, в тарелках разная еда. Глаза разбегались, но Пиапон сразу отыскал умело накрошенную талу из жирной осетрины.
— Смотри, талу нарезали, — подтолкнул он Михаила.
— Правда, настоящая тала, — сказал Михаил., Перед ним лежали костяные палочки для еды и вилка; он взял палочки и, подцепив талу, попробовал.
— Понимают, — улыбнулся он. — Из свежей осетрины приготовили. А я думал, из дохлой нарезали.
Привычная тала лучше водки расковала охотников, они заговорили, там и тут послышались смешки. Но громко, как бывает на всяких выпивках в стойбищах, никто не разговаривал, не кричал. Охотники между собой говорили вполголоса, женщины перешептывались. Ни речи руководителей съезда и делегатов, ни первые стопки водки не могли рассеять природной застенчивости детей тайги. Многие не притронулись ко второй стопке.
— Не могу пить, — сознался Пиапон.
— Я тоже, еда не лезет в горло, водка обратно идет, — сказал Михаил. — Хоть спать уходи.
Прошел час, охотники, к удивлению организаторов ужина, неохотно тыкали палочками в тарелки, не ели и не пили. Поняли руководители, что зря они посадили совершенно незнакомых мужчин и женщин за длинный стол. У этих детей тайги свое понятие о морали. Вежливо, с шутками, чтобы не обидеть гостей, они насовали им в карманы початые бутылки и проводили до машин. Это были обыкновенные грузовые машины, на которых возили делегатов из общежития в столовую, из столовой на заседания съезда, хотя расстояние между этими зданиями было до смешного коротким.
— Не нравятся мне эти домики на колесах, пахнут остро, неприятно, — говорил Николай Тумали. — Запах такой тягучий, в носу будто сидит, не уходит. Видно, и на одежде остается. Как в тайгу пойдешь? Зверь издалека учует.
— Мне тоже не нравится, — сознался Пиапон.
— Пешком лучше ходить.
— Обидим людей, нехорошо. Они делают все для нас, стараются, чтобы лучше было. Все интересно, необычно...
— Необычно, это верно. За душу берет.
— Всем бы это увидеть, а...
— Хорошо было бы, тогда все сказали бы: советская власть хорошая власть, делает все для нас.
— Вернемся, расскажем людям...
В общежитии охотники вытащили бутылки и тут только, рассевшись в кружок на полу, начали пить по-настоящему, без стеснения, привычно. Весело отужинав, легли на скрипучих железных кроватях под белыми, холодными, непривычными простынями. Некоторые, не выдержав, перебрались на пол.
Богдан лежал рядом с Пиапоном.
— Дед, ты не спишь? Я тоже не могу, все думаю, думаю... Дед, как все хорошо! Так хорошо, слов нет выразить. Ты знаешь, я о таком съезде еще в Николаевске мечтал. Верно. Не думай, что я шаман. Там тоже собирали делегатов, советскую власть организовывали, приглашали нивхов, ульчей. Тогда я думал, что нанай должны собрать в Хабаровске. А тут собрали не одних нанай, собрали все народы. Здорово! Я себя чувствую как на большом невиданном празднике. Город, люди, даже вонючие машины — все мне нравится. А трубы как играют! Никогда бы не подумал, что на таких трубах так слаженно и хорошо можно играть. Дед, это все советская власть. За такую власть жизнь отдать не жалко, верно говорил Алексей. Ты знаешь? Он комсомол организовал в Толгоне, да тоже не знает, чем должен заниматься комсомол. Но мы здесь все узнаем, нам здесь все будет понятно, так мне сказал Гамарник. Я с ним разговаривал. Говорят, что учиться мне надо, скоро здесь откроют для нас большую школу. Школу для взрослых.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
«Молодой, горячится, — подумал Пиапон. — Зачем жизнь отдавать? Жить надо, новую жизнь строить. Когда белые нападут — тогда другое дело».
Никто, даже организаторы съезда не предполагали, что приехавшие из разных концов края охотники так остро будут выступать, так обстоятельно обсуждать вопросы, ради которых собрался съезд.
Выступавшие жаловались на тяжелую жизнь: зверя мало стало в тайге, рыба ловится плохо, а тут еще торговцы обманывают, завышают цены на товары. Плохо поступают торговцы Дальгосторга, они заставляют охотников идти в тайгу раньше срока и берут раннюю, не созревшую пушнину. Надо установить строгие сроки охоты!
Кто поджигает тайгу? Охотники-туземцы? Нет, тайга горит по вине русских, китайских охотников, они не следят за своими кострами. Надо заставить их беречь тайгу. Пора частных торговцев выгнать, пусть одни советские торговцы имеют дело с охотниками.
Резко, Пиапону показалось, даже слишком резко выступал бывший партизан, бывший кровник Токто, Понгса Самар. Он рассказал, как его брата Кирилла Самара обманул русский крестьянин. Накосил Кирилл Рудневу сена и по уговору должен был получить за это двухгодовалого жеребенка, но не получил.
— Почему советская власть не судит Руднева? — спрашивал Понгса. — И так голодно живем, а тут еще обманывают. Даже советская власть обманывает...
Пиапон подумал, что ослышался, но увидел, как переглянулись в президиуме и недоуменно, вопрошающе посмотрели на переводчика.
— Да, обманывает! — продолжал Понгса. — Есть у нас уполномоченный, должен у нас рыбу принимать. Мы к нему — заключай с нами договор. Не хочет, всякие причины находит, соли мало, бочек нет. А кета не ждет. Мы пошли к частнику, тот, конечно, принял, но при расчете нас обманул. Потом узнали, что уполномоченный был в сговоре с частником. Почему такого уполномоченного посылаете? Это разве не обман?
Третий день работал съезд с утра до вечера, говорили столько интересного, что у Пиапона голова распухла от мыслей. Сколько разных дел совершалось повсюду! А он, Пиапон, от безделья изнывал в своем Нярги. Но ему даже и выругать себя было некогда, потому что заговорили о заготовке кеты. Гайдук из Комитета Севера стал доказывать, что неразумно изводить кету на юколу, надо ее солить. Только подумал Пиапон, как же охотнику обойтись без юколы в тайге, без корма собакам, как на возвышении появился Михаил Актанка.
— Русские охотники в тайгу не берут хлеба, берут сухари. Мы тоже соленую кету не берем, берем юколу. Нельзя нам без юколы, как русским без хлеба. Попробуй в тайге есть соленую кету, пить сильно захочешь, это гибельно...
Говорун этот Михаил! Все у него ловко получается. Заговорили о комсомоле. Выступает нивх Хутэвих:
— Какой толк комсомол, когда мы ничего не понимаем? Ты организуй сто раз комсомол — толку не будет, пока он грамотным не станет. Надо комсомол организовать, но надо его учить тут нее, для этого школа требуется - школы надо открывать. Будет комсомол грамотным — будет работать, будет толк. А что так? Тьфу!
Выступавшие один за другим заговорили о школе, все требовали школы, все хотели обучаться грамоте. Пиапон никогда раньше не слышал таких живых горячих выступлений, да и где было слышать, когда он не собирал для этого людей.
— Мы, старики, не против комсомола, — заговорил худой старик с длинной бородкой. Это был Гаврила Актанка, гость съезда, как и Пиапон. — Мы не против, правильно сказали, только их надо учить грамоте. Потом я думаю — плохо женщин покупать за тори и продавать, надо выдавать их по согласию. Только смотрите, охотники, не отдавайте их за китайцев и корейцев, потому что нашим молодым охотникам не хватает женщин. По согласию-то по согласию, но китайцам и корейцам не отдавайте...
Каждое выступление тут же находило горячий отклик: упал в воду камень, и тут же волны во все стороны бегут, все дальше, все шире. Мысли старика Гаврилы Актанки уже подхватили другие выступавшие и заговорили о положении женщин. Тут уж женщины заговорили. Тунгуска Варвара Чудинова, нанайки Екатерина Удинкан, Мария Удинкан...
— Некоторые отцы прямо богатеют на одной дочери, — говорила Мария. — Продадут, потом заберут, а тори не отдают, потом опять продают. Как так можно? Нельзя нас, женщин, продавать, надо, как у русских, чтобы замуж выходили по согласию.
— По согласию, это верно, — сразу заговорил за ней Николай Тумали. — Но вы женщины тоже хороши! Чуть что не так — сразу бежать к родителям. Неужели нельзя подождать, пока муж остынет, поговорить, потом решение принимать? А вы — сразу к отцу. Бросаете мужа, оставляете детей — и к отцу. Нехорошо! Я думаю так: надо открыть школы, открыть комсомол, учить надо женщину, когда она грамотная станет, то не будет так бездумно поступать — бросать мужа и детей...
Пиапон вполуха слушал Николая Тумали, он вспомнил, как отдал Миру замуж и не взял тори; как над ним тогда измывались недруги! А на деле он прав: советская власть требует, чтобы женщин не продавали и не покупали.
«Хорошо, что Исоаку оставили, за Кирку выдали, — подумал Пиапон. — Без тори обошлось, и разговора не будет, когда я другим не разрешу покупать и продавать женщин».
— Чего там говорить? Обманщики они! — выкрикивала тунгуска Варвара Чудинова. Это уже говорили о шаманах. — Не надо верить им, не надо им платить пушниной и деньгами, зачем привозить им свиней и кур? Долой шаманов! Я не верю шаманам, вы тоже не верьте.
— Не все такие умные, как ты! — выкрикнул с места Николай Тумали.
А возле стола президиума уже стоял Михаил Актанка, размахивал руками, совсем осмелел. Да и что удивительного, за три дня ко многому можно привыкнуть.
— Шаманы не уйдут сами, — кричал Михаил, путая нанайские и русские слова. — Но шаман — к черту! Но к черта его гоняй будет только школа, грамота...
«Будто бы все сговорились, — подумал Пиапон, — о чем бы ни шла речь, все сворачивают к школе, к грамоте. Торговец обманывает — открывай школу. Женщин продают — обучай грамоте. Шаман плохой — школа требуется».
— По этому делу я буду говорить с двух сторон, — заговорил очередной выступающий, Канчу Бельды. — Все говорят, шаман не нужен. Пусть — не нужен так не нужен. Говорят, доктор нужен. Пусть — нужен так нужен. Доктор хорошо, шаман плохо. А я думаю так. Оба они нужны. Когда больной рядом с доктором, он лечит и может вылечить. Но он не ходит с нами на охоту. Как быть, когда охотник в тайге заболеет? Разве доктор может вылечить на расстоянии? Ему надо трубкой своей слушать. Ему надо горькие порошки давать. Ну? Может он на расстоянии вылечить? Не может! Доктор не может, а шаман лечит и вылечивает. Поэтому шаман тоже нужен!..
Один Канчу высказался за шаманов, сказал то, что думал. Правильно сделал, здесь люди собрались, чтобы всеми своими мыслями поделиться, все высказать, что на душе лежит. А без откровенного разговора какой толк? Никакого толка, все равно что летящую утку на оморочке догонять.
— Дед, после ужина какой-то кинематограф будут показывать, — сообщил Богдан во время перерыва; он в президиуме узнавал все, новости.
— Богдан, ты с дянгианами рядом сидишь, — подошел Канчу Бельды. — Ты все знаешь. Если шаманы не нужны, их надо куда-то деть. Куда их денешь?
— Пусть живут, Они такие же охотники и рыбаки, как мы, пусть охотятся и рыбачат, — ответил Богдан.
— А шаманить нельзя?
— Зачем шаманить, когда доктор будет?
— Если доктора не будет, можно шаманить?
— Его дело, если пригласят, разве он откажет?
— Наверно, плохо объясняешь, Богдан, — сказал стоявший рядом Казимир Дубский. — Ты не понял сам, лучше не толкуй. Шаманам запрещается шаманить. Поняли? Все председатели Советов за этим будут следить, чтобы они не обманывали людей. Пиапон, ты председатель, запомни это крепко. Будешь отвечать перед советскими законами. Если шаманы не послушаются, их будут судить.
— За что судить? За то, что людям помогают? — сердито спросил Канчу.
— Сказано тебе, они обманщики. Преследовать их кадо.
— Они тебе не звери. Ты русский и ничего в наших делах не понимаешь. Выучился по-нанайски говорить, думаешь, все понимаешь? Сказки записываешь и думаешь — все знаешь? Ничего ты не знаешь и помалкивай. Здесь наш съезд, понял? Ты тут только переводчик. Мы твоего совета не просим.
Дубский с высоты своего роста спокойно глядел вниз на Канчу, но, приглядевшись повнимательнее, любой бы заметил полыхавшую злость в его зеленых глазах и напряженное мускулистое тело, готовое обрушиться на тщедушного Канчу.
— Хор-рошо, Канчу, — сказал Дубский и отошел.
— Чего ты так, зачем? — вступился за Дубского Богдан.
— Это плохой человек, он не любит нас. Если ему дадут власть над нами, погибли мы.
— Откуда ты знаешь его?
— Нанайскому языку его учил, знаю давно. Всем он говорит, будто с белыми храбро дрался, а я не верю. Разве человек с его душой может быть храбрым? Мстительный он, припомнит он мне когда-нибудь этот разговор. Увидите, припомнит. Но я его не боюсь. Это наш съезд, мы говорим все, что думаем.
— А с шаманами он, видимо, прав, — сказал Богдан.
— Не прав! Тебя от охоты и рыбалки отстранили? Нет. Шаманов тоже нельзя отстранять от их дела.
«Кто его разберет, кто прав, — думал Пиапон. — Если взять нашего дядю, великого шамана Богдано, как ему воспретишь шаманить? Он один остался великий, один может провожать души умерших на тот свет. Люди за ним приезжают отовсюду, даже с Уссури. Что ему делать? Как быть? Отказаться? Такого греха он не примет...»
— Чего хмуришься, дед ? — спросил Богдан за ужином.
— О хулусэнском шамане думаю, — ответил Пиапон.
— Он совсем старик, не думай.
Пиапон понял, что хотел сказать Богдан: мол, он глубокий старик, скоро умрет, что о нем думать. Не знает Богдан, что великие шаманы до смерти остаются молодыми, только обличием стареют, а тело и душа их всегда молоды.
— Перестань думать, дед, кинематограф посмотрим.
Делегаты и гости съезда сели в зале и изумленно уставились на большое белое полотно.
— Товарищи делегаты! — сказал человек, появившись на сцене перед белым полотном. — На съезде мы решаем множество вопросов. И какой бы вопрос ни решали, разговор сворачивается к школе, к грамоте. Вы все хорошо понимаете, как вам требуются знания. Сейчас мы покажем кинематограф, где рассказывается, что делается с женщиной, когда она беременна. И почему не разрешается делать аборт. Это когда насильственно освобождаются от плода...
— У нас не делают этого! Нам дети нужны!
Потух свет, где-то сзади зажурчал аппарат, и перед изумленными делегатами и гостями съезда на белом полотне появились изображения. Все верно, показывали беременных женщин. В зале тишина, только аппарат тарахтит да переводчик громко переводит.
— Это женщинам надо знать, а зачем нам? — возмутился Михаил Актанка.
— Грамотным хочешь быть, все должен знать, — ответил ему Николай Тумали. — Сказали тебе — это знания. Смотри, слушай, запоминай, жена-то бывает брюхатая, пригодится...
Охотники засмеялись. Разговор отвлек Пиапона, да ему и не интересно стало смотреть. У жены его даже выкидышей не случалось, а тут «насильственным путем»... Чепуха!
— Теперь мы с мужьями спать не будем, чтобы этот аборт не делать, — смеялась после сеанса Екатерина Удинкан.
— Зачем это показали? — возмущалась Мария Удинкан. — Я каждый раз беременная так берегусь, как бы выкидыш не получился случайно, так берегусь...
— Тебе показали вначале, как беречься...
— Но зачем аборт показали? Никто никогда не делает этого...
Пиапон старался все запомнить, ведь столько вопросов решили, столько постановлений приняли! Все понятно ему, но вот как привлекать охотников к «сельскохозяйственной деятельности и животноводству» — не ясно. Заниматься земледелием? Содержать лошадей, коров? Лошади — это нужные животные, никто теперь не спорит. Но зачем коровы? Никто из нанай не пьет молока. Разве только на мясо. Но мясо можно добыть иначе: сесть на оморочку, выехать на горную реку или встать на лыжи, догнать лося — вот тебе и мясо. Не надо этому мясу рубленый дом строить, не требует оно и корма.
Другие пункты постановления о кооперации всем нравятся: пороху и свинца охотникам выдавать, сколько необходимо, лесорубочные билеты выдавать бесплатно; из туземных мест выселить людей, занимающихся спекуляцией, если даже это ремесленники или огородники; запретить частную торговлю, разрешить лесозаготовки, привлекать туземцев к этому труду, освободить их от всех налогов, желающим заниматься животноводством отпускать кредиты...
— Вот это постановление, — говорили охотники во время перекура. — Жизнь наша совсем изменится...
— Теперь председателю Совета дело найдется, — сказал Пиапон, думая о своем.
Богдан в каждом перерыве искал Пиапона, чтобы поделиться мыслями, высказать восхищение или возмущение выступлением какого-нибудь делегата. Он пробирался среди гостей, когда кто-то взял его под локоть. Рядом стоял русский с рыжеватой аккуратненькой бородкой, с усиками и с такими до боли знакомыми глазами.
— Павел! Командир! — закричал Богдан и обнял Глотова.
Глотов сжал его железными руками. Богдан разволновался, смотрел на бывшего командира и улыбался.
— Павел Григорьевич, ты? Откуда? — подошел Казимир Дубский.
— Так я и думал, что ты здесь, — ответил Глотов, пожимая руку Дубского. — Переводишь?
— Учусь переводить. А где теперь ты, кем?
— Работаю, где партия прикажет.
— Обожди, Павел, — спохватился Богдан. — Дед здесь.
Он взял Глотова за руку и потащил в коридор. Пиапон тоже не сразу узнал Глотова, замаскировавшегося интеллигентной бородкой, но, узнав, закричал на весь коридор:
— Глотов! Кунгас! Ты?
— Я, Пиапон, я. Живой, видишь,..
— Живой, верно, живой. А говорили, что тебя в Николаевске Тряпицын расстрелял.
— Обошлось, как видишь.
— Откуда ты? Здесь живешь?
— Нет, Пиапон, в Чите работаю, в ревкоме. Еду во Владивосток, по пути зашел, чтобы встретиться.
— Поговорить надо, посидеть...
— Сейчас не сможем, у вас заседание съезда, а меня поезд ждет, скоро отходит. Мы еще встретимся, может, даже к вам, в Нярги, приеду.
— Ты, Павел, все же не уехал на родину, туда, куда солнце запаздывает?
— Не пришлось. При встрече расскажу все. А ты, Богдан, чего молчишь? Мечта об учебе живет? Крепко?
— Живет, Павел!
— Ну и хорошо. Откроем здесь в Хабаровске техникум, будем готовить наши советские кадры.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю, Богдан. Чита — главный город Дальневосточного края, оттуда все указания идут. Вот так, Богдан. — Глотов посмотрел на часы и заторопился. — Обязательно увидимся, друзья! — сказал он, пожимая руки Пиапону и Богдану. — Теперь мне с Дальнего Востока никуда не уехать.
— Ты женись, — посоветовал Пиапон.
— Женился уже, ты опоздал с советом, — засмеялся Глотов и вышел на улицу.
Богдану живо припомнилась его последняя встреча с Глотовым. Это было в Николаевске. Он тогда ликовал: белые разгромлены, в городе остались одни японцы, но и те вели себя мирно. 4 марта 1920 года в Николаевске открывался окружной съезд Советов. Нанайцев, нивхов, орочей распускали по домам, но Богдан ради этого съезда остался в городе, потому что съезд — это установление советской власти. А ему очень хотелось на это посмотреть.
— На съезд допускаются только делегаты, — говорили ему.
— Я попрошу, мне разрешат, — отвечал Богдан.
Он обратился за разъяснением к своему крестному — доктору Храпаю, и тот обнадежил, что его, как гостя, могут пропустить на съезд.
Проводив своего приятеля Акунку, Богдан немного взгрустнул. Утром он пошел в штаб и там нос к носу вдруг столкнулся с Павлом Глотовым, только что приехавшим из Де-Кастри после разгрома отряда полковника Вица.
— Учитель! — Богдан бросился к Глотову и обнял.
— Богдан! Как я рад, что ты жив, — тискал его Павел Григорьевич. — Молодец! Дай-ка я погляжу на тебя получше. Настоящий партизан. Докладываю, товарищ командир, полковник разгромлен, твои дяди — Пиапон, Калпе, Дяпа, а также Токто — все отбыли домой. Велели тебя обнять. Вот так...
Вечером Богдан, отстояв на карауле возле комендатуры свое время, зашел отогреться в здание.
— Что это сегодня в штабе огни во всех окнах? Работают, что ли? — спросил он заместителя коменданта.
— Ха, работают! — усмехнулся тот. — Банкет там, Богдан. — Увидев, что Богдан его не понял, пояснил: — Гулянка, выпивают, значит.
Богдан засмеялся, он любил, когда командиры шутили.
— Не смейся, это не совсем гулянка. Тут политика. Командующий дает банкет в честь майора Исикавы, начальника японского гарнизона. За столом договорятся, как дальше быть. Это серьезно, а ты смеяться...
Богдан с караула вернулся в дом лыжников и, засыпая, думал о банкете. Японцы, по всему видно, мирный народ, скоро они уедут в свою страну, и на Амуре наступит тишина.
Он проснулся от треска выстрелов, по-охотничьи быстро оделся, пристегнул ремень с наганом и выбежал с другими партизанами из дома. В комендатуре уже собралось довольно много партизан и командиров. Среди них был и комендант Комаров, бледный, не выспавшийся, он присутствовал на банкете.
— Гады! Ну, погодите! — бормотал он. — Товарищи, штаб окружен, надо выручать наших.
Возле штаба рвались гранаты, там разгоралось пламя. Комаров по-быстрому сколачивал отряды. Богдан схватил винтовку, напихал карманы патронами и тоже побежал на помощь осажденным в штабе. Пробежав квартал, партизаны открыли огонь.
Стало светать, и Богдан увидел японцев, их отороченные мехом шапки, воротники. Он спокойно нажал на курок, как это делал на охоте, привычная отдача в плечо — и японец выронил винтовку. Второй выстрел — второй солдат распластался на русском снегу...
Выходит, не зря он тогда сражался, советская власть теперь пошлет его учиться, выведет на большую дорогу.
— Дед! Учиться буду! — воскликнул Богдан и обнял Пиапона.
Обрадованный, взволнованный Пиапон плохо слышал выступавших, встреча с Глотовым оттеснила все. Боевое прошлое своей необыкновенностью заслонило на какое-то время будущее. Но прошлое пережито, перечувствовано, а будущее пока что только в голове.
Когда закончилось вечернее заседание, объявили, что состоится общегородской митинг в городском саду. Пиапон шел туда; делегатов, как почетных гостей, пропустили вплотную к трибуне.
— Дед, ты о Глотове думаешь? — спросил Богдан. — Теперь об этом митинге думай. Этот митинг в защиту китайцев.
— Все-то ты знаешь, Богдан, — усмехнулся Пиапон.
На трибуну вышел Гамарник, он говорил страстно, бросал в народ огненные слова, клеймил империалистов. Неожиданно для всех после Гамарника на трибуне появился гиляк Вевун Хутэвих. От имени первого съезда туземцев он заявил:
— Мы туземцы, нас совсем мало. А китайский народ очень большой народ. Но если большой народ каждый день убивать, он будет маленьким народом. Нельзя так! Нельзя людей стрелять, люди — не звери! Нельзя людей убивать! Мы, туземцы, от нашего съезда говорим: «Кончайте убивать китайцев! Кончайте!»
— Дед! Дед! Ты слышишь? Это наш голос, — горячо шептал Богдан на ухо Пиапону. — Это мы, нанай, удэгейцы, нивхи, тунгусы, орочи, встали на защиту китайцев. Понимаешь, что это такое? Дед! Ты понимаешь?! Мы — сила! Силу имеем!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В большой фанзе отгородили угол, прорубили дверь, окно, и получилась небольшая отдельная комнатка. Пиапон поставил стол, табурет для себя и два табурета для посетителей. Так у него появилась своя контора. Вывески она не имела; кто напишет ее, если в стойбище нет грамотных, и вообще зачем она. А так все в Нярги знают, что закуток, в котором стоит высокий русский стол и три сиденья, — и есть сельский Совет. Контора Пиапона.
Если кто приедет, а приезжают теперь в Нярги чуть ли не ежедневно, то любой мальчишка укажет, где найти Пиапона.
В сельском Совете всегда людно, взрослые няргинцы готовы все свободное время проводить здесь. На двух табуретках всегда сидят самые уважаемые старики, остальные посетители — на полу на корточках, подперев стены. В первое время кто-то посоветовал Пиапону сделать нары, где можно было бы сидеть привычно и удобно, поджав под себя ноги. Послушался Пиапон и сколотил нары, но первый же приезжий дянгиан из района потребовал убрать их. Убрали нары. Потом застелили пол циновками, стало светло и уютно. Заходили охотники и садились на циновки. Хорошо. Приезжий дянгиан похвалил Пиапона, сказал, что так и надо бороться за чистоту и гигиену. Пиапон и присутствовавшие при разговоре охотники не поняли последнего слова, но если дянгиан доволен, то зачем еше переспрашивать? Но и циновки убрали вскоре сами охотники, потому что с ними было много неудобств; когда пол глиняный, можно плюнуть на пол, и сам не заметишь, и никто ни слова не скажет. А тут циновки. Очень уж хлопотно с ними, поэтому однажды их свернули и выбросили.
— Пиапон, хорошо ты придумал эту контору, — говорил Холгитон. — Раньше, бывало, только в гости к кому пойдешь, а в гостях, известно, долго не усидишь, если нет водки. А тут без водки можно сидеть хоть целый день. И люди идут охотно. Верно, говорю?
— Верно, верно, — кивали охотники.
— Пиапон, голова твоя все светлее и светлее становится, с тех пор как тебя сделали дянгианом.
— Не я придумал эту контору, зачем она мне? — горько усмехался в ответ Пиапон. — В районе сказали, ты председатель сельсовета, контору тебе надо. Сказали, чтобы все дела я делал тут. Спрашиваю, а дома нельзя? Говорят — нельзя. Спрашиваю, что делать, если охотнику надо ответить двумя словами: идти в контору с ним, ответить и домой возвращаться? Смеются, говорят, не надо этого делать, ты должен в конторе находиться.
— С утра до ночи, что ли?
— Вот, вот, и я так спросил. Засмеялись, говорят, у тебя должны быть часы работы.
— Опять эти часы, — махнул рукой Холгитон.
— Ответили мне так, — продолжал Пиапон. — Часов у тебя нет, потому сиди в конторе сколько сам захочешь.
— Правильно, Пиапон, сиди, — сказал Холгитон. — Если тебя здесь не будет, куда мы пойдем? Некуда нам идти, потому сиди.
Когда Пиапону впервые привезли его зарплату, весть эта молнией облетела стойбище. Все были удивлены, никто не хотел верить; охотники под всяким предлогом приходили к Пиапону, чтобы взглянуть на тощую стопку денег, которую ему дали.
— Верно, Пиапон деньги получил, — сообщали они. — Сам видел, на столе лежат. Много денег, на охоте за зиму столько не заработаешь.
— Врешь, напраслину городишь!
— Может, конечно, заработаю, а все же много денег.
— Он что, каждый месяц будет получать деньги? За что?
— Председатель, дянгиан...
— Он ничего не делает, собак только гоняет по стойбищу.
Раза два, проходя по стойбищу, Пиапон разогнал дравшихся собак, и его начали звать: председатель, гоняющий собак.
Пиапон не обижался, народ верно говорит. Сам он давно отказался бы от этой должности, но в районе нажимали на его партизанскую совесть, требовали исполнения обязанностей. Вот и исполнял Пиапон эти обязанности, разбирал жалобы, принимал меры, какие считал нужными. Больше ему нечего было делать.
Как ни странно, но зарплата сразу возвысила его в глазах односельчан. Его перестали звать председателем, гоняющим собак. У Пиапона появилась круглая печать, бумаги и карандаши на столе. Бумаги и карандаши не привлекали внимания взрослых: никто из них не собирался изображать зверей, птиц, рыб — это детская забава. Их интересовала печать, они знали, что круглая печать — это символ власти. С этого дня охотники стали называть Пиапона председателем сэлэм Совета, что значит председатель железного Совета. Никто теперь не помнит, кому взбрело в голову, может, в насмешку, переиначить «сельский» на «сэлэм», звучание-то слов почти одинаковое.
Прошло много времени, как у Пиапона появилась печать, но он ею ни разу не воспользовался. Ради забавы он иногда вытаскивал железную баночку и при всех охотниках шлепал на чистой бумаге печать за печатью. Лист бумаги, испещренный печатями, выглядел красиво, и охотники забирали его своим детям.
За несколько лет ни один няргинец не обратился к Пиапону за каким-нибудь документом; если бы даже кто и обратился, он все равно не сумел бы его составить, потому что он не умел ни писать, ни читать.
Когда в 1927 году организовали на Амуре три самостоятельных национальных района — Толгонский, Болонский и Самагиро-Горинский — председателям сельсоветов сразу потребовались грамотные секретари, составители бумаг. Неграмотному Пиапону секретарь был необходим, как воздух, как вода, но никто не мог подсказать, где и кого ему взять. Охотники по пальцам пересчитали всех, кто учился в школе Глотова-Кунгаса. Тогдашние мальчишки теперь заимели жен и детей. Пересчитали и вызвали в контору кое-кого, но напрасно, все позабыли бывшие ученики. Последним вызвали Хорхоя. Спросили:
— Читать не забыл?
— А чего забывать? Помню, — похвастался Хорхой. — У меня даже книжка есть, Богдан оставил.
Пиапон обрадовался, подал ему бумагу, карандаш. Хорхой взял карандаш, повертел в руке, неумело зажал и начал выводить никому не понятные загогулины. В конторе все затихли и, не спуская глаз, следили за карандашом; охотникам казалось, что полный таинства след, оставляемый им, имеет магический смысл. Хорхой старался до дрожи в руках, наконец карандаш его закончил свой долгий путь, и он устало разогнулся.
— Все, — выдохнул он.
— Что написал? — спросил Пиапон. — Прочитай.
— Ма-ма, — прочитал Хорхой.
Охотники переглянулись, они были явно разочарованы. Пиапон вытащил трубку изо рта, выбил ее о край стола. Хорхой опять наклонился над бумагой, засопел. На этот раз грамотей справился с заданием быстрее.
— Читай, — сказал Пиапон.
— Па-па, — прочитал Хорхой.
— Ты что, вздумал смеяться? Мама да папа, другого ничего не вспомнил? — вскипел Пиапон. — Пиши — председатель сэлэм Совета.
— Этого я не смогу. Кунгас никогда не заставлял нас писать такие длинные слова.
— Не умею я читать, но знаю, что каждое слово составляется из букв. Ты что, не помнишь их?
— Немного помню, но связать их в слова не могу.
Охотники сокрушенно молчали. Задумался и Пиапон.
Как же ему теперь быть, где найти помощника? В районе сказали, что сельсовет должен выдавать бумаги на новорожденного, на умершего, что сельсовет обязан женить молодых и на это тоже выдавать бумагу. Сказали, что эти бумаги на всю жизнь выдаются. Тогда Пиапон еще усмехнулся: покойникам-то зачем бумаги, тоже на всю жизнь? Знают, что все председатели сельсоветов неграмотные, а придумывают им лишнюю работу.
— Богдана нет, был бы он... — вздохнул Холгитон.
«Что о нем теперь говорить? — с горечью подумал Пиапон. — Был бы он, стал бы председателем, мне не пришлось бы теперь мучиться. Но Богдан далеко, так далеко, что и умом нам его не достать, во сне не увидеть».
— Помощника в Нярги тебе не найти, — продолжал Холгитон. — Может, в Малмыже кого найдешь?
— В Малмыже им самим нужны грамотные люди.
— Может, Хорхой маленько подучится, вспомнит. Он ведь умеет, вон как он нацарапал, будто ворона прошла по снегу, а читается. Надо же так, слово оставляет на бумаге след. Удивительно. Хоть бы книжку когда прочитать.
— Верно, дака, выучись, станешь помощником председателя сэлэм Совета, — сказал кто-то насмешливо.
— Не смейся, когда человек о далеком будущем думает. Почему бы мне не научиться читать и писать? Что, голова моя хуже, чем у других? Жаль, что нет человека, который научил бы меня.
«Верно, кто бы научил, — подумал Пиапон. — Богдан умел и читать и писать. На охоте, когда в пуржливые дни отсиживались в зимнике, сколько было свободного времени, и я мог бы научиться читать и писать. Почему я тогда не пытался научиться? Теперь стыдно, имя свое на бумагах не знаю как написать. Сказали, можно любой знак поставить. Любой знак каждый дурак поставит!»
— Хорхой, собери свой ум в тугой комок и напиши мое имя, — сказал вдруг Пиапон.
Хорхой послушно взял карандаш, придвинул бумагу и надолго задумался. Потом погрыз кончик карандаша, опять подумал. Наконец карандаш уткнулся в бумагу и отправился в длинную и неведомую дорогу.
— По буквам, медленно прочти, — потребовал председатель, когда грамотей разогнул спину.
— Пи-а-пон, — прочитал Хорхой, хотя написал «Пеяпом».
— Хорошо! Какой он молодец! — обрадовался Холгитон. — Надо его отправить в район, в Болонь, пусть немного подучат. Будет он твоим помощником, сумеет.
Хорхой полтора месяца прожил в Болони, подучился на краткосрочных курсах и стал секретарем Пиапона. За три года, с 1927 по 1929, он выдал только два свидетельства о рождении и четырнадцать о смерти, потому что умирали новорожденные прямо в шалашах для рожениц — чоро — и он не успевал выдавать свидетельства о рождении. Пиапон в таких случаях вытаскивал из кармана лист бумаги, разглаживал и на свидетельствах в точности повторял буквы, которые вывел когда-то Хорхой, и у него тоже, конечно, выходило «Пеяпом».
Каждый раз, когда Пиапон выдавал свидетельство, в конторе собиралось почти все стойбище. Опоздавшие толпились у дверей и на улице.
— Кончил писать, — передавали счастливцы, находившиеся в закутке, тем, которые толпились на улице.
— На печать дышит! Дует! Хлопнул!
Потом документ, с таким трудом и старанием подписанный Пиапоном, переходил из рук в руки. Охотники разглядывали свидетельство, подписи.
— Бумага хорошая, толстая и ласковая.
— Эта бумага, как деньги, хрустливая.
— Эй, Пиапон, ты правильно написал имя сына?
— Ты спроси Хорхоя, он писал.
— Правильно, правильно. «Бочка» я написал.
— Верно, я так и говорил.
«Кто его знает, так или не так, — думал Пиапон. — Хоть бы кто грамотный приехал в Нярги».
Эндури, видно, услышал эту мольбу Пиапона и в начале лета 1930 года прислал в Нярги черноглазую миловидную девушку.
— Меня к вам направили, — сказала она. — Школу у вас открывать буду.
Пиапон так обрадовался, что голова у него кругом пошла. Он не стал больше ни о чем ее расспрашивать, привел домой, накормил и только потом спросил:
— Хорошо по-нашему говоришь. Ты нанайка?
— Я ульчанка. Приехала к вам детей учить.
— Понятно, понятно. Раз приехала школу открывать, то, выходит, приехала детей учить. А помогать мне будешь? Я председатель, а совсем неграмотный.
— Так всюду, во всех стойбищах. И у нас так же.
— Помогай мне, работы немного, бумаги будешь писать. Без тебя мне никак не обойтись.
— Хорошо, я согласна.
— Ну вот и хорошо, нэку.
— Я сейчас еду домой, а заехала к вам, чтобы обговорить, когда и как открыть школу.
— Что говорить? Раз школа требуется — откроем. Но ты лучше не уезжай...
— Я всю зиму не видела родителей, соскучилась.
— Родителей... Тогда надо съездить. Ты где училась?
— В Хабаровске, окончила техникум народов Севера.
— А почему к своим не направили? К ульчам?
— Сказали, я здесь нужна.
— А нанай много там, где ты училась?
— Много. Со мной вместе закончили техникум несколько человек.
— Хорошо! Как хорошо! Ты сама не знаешь, не понимаешь этого. — Пиапон хлопнул по коленям и быстро поднялся с табурета. — Грамотные люди появляются, первые грамотные нанай. Ты меня выучишь, нэку, я буду стараться. Мне никак нельзя без грамоты, я это только сейчас, к старости, понял.
— Жизнь изменяется.
— Правильно, нэку. А дальше еще больше будет меняться. Слышала, колхозы будут организовывать. Мы нынче организуем, в это лето. Может, ты останешься, поможешь, грамотный человек нам понадобится. А кто у нас будет писать? Некому. Останься, а?
— Не могу, отца с матерью хочу повидать.
— Может, повидаешься и обратно к нам?
Девушка опустила голову. Что же ей думать, надо помочь, так и сказали на выпускном вечере, что надо помогать председателям сельских Советов. Но как хочется лето пожить с родителями!
— Хорошо, я вернусь, — сказала она.
— Вот и ладно! Как тебя зовут?
— Лена Дяксул.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Возле фанзы Холгитона развернулось строительство. От берега к фундаменту будущего дома строители подкатывали лес. Юноши и мальчишки повзрослев разбирали в воде плот, подводили бревна к колее и катили к стройке. Им было это новой игрой. Охотники, кто умел держать в руке топор, кантовали эти бревна. Стук топоров перемежался с шутками и смехом.
— Отберите топор у Ойты, бревно испортил!
— Кто испортил?
— Отметку видишь? Черную полосу видишь? По этой полосе кантовать нужно, а у тебя...
— Он сильный, пусть бревна подтаскивает.
— Нипо, старайся, твой ведь дом...
Нипо, старший сын Холгитона, старался и без подстегивания. Он с братом Почо и Годо, который до сих пор считался их работником, зимой заготовляли лес на Черном мысу. С помощью мужа Мимы они к весне заготовили бревна. После ледохода сделали плот и трое суток гребли попеременно, а когда дул попутный ветер, ставили парус и все же приволокли плот.
— Не мой дом, наш дом, — улыбался в ответ Нипо.
Дом рассчитан на всю семью, а семья Холгитона теперь большая. Все молодые годы мечтал он о детях, но они не появлялись. Взял он в работники Годо — маньчжура — и пошли дети, в него как вылитые. Знает Холгитон, как смеются над ним; пусть смеются, будто их жены честны, спят только с ними. Пусть смеются, Холгитон все перетерпит, потому что у него дети есть, мечта его сердечная! Вон они какие красавцы. Нипо женат, наделал ему внуков. Почо тоже не отстает от брата; Мима удачно вышла замуж, внучку принесла. Всю жизнь мечтал разбогатеть, а теперь прикидывает и так и эдак — богаче его нет человека, а все его богатство — это дети и внуки. Неважно, что дети от Годо пошли, а родила-то их его жена Супчуки.
Давно задумал Холгитон построить большой деревянный дом, чтобы в нем разместились все: и Нипо с семьей, и Почо, и Мима, если захочет войти в его дом ее муж. Обязательно в доме место будет и для Годо.
«Большой дом, — думал Холгитон, — совсем как у Баосы».
От этой мысли теплело в груди у Холгитона: к старости у него появилось столько детей и внуков, что получился настоящий большой дом. А как в свое время он завидовал Баосе, его большому дому! Кто об этом теперь знает... Да и тогда знал только один Ганга, его лучший друг.
— Эй, давай соревноваться, кто больше накантует! — кричит Хорхой, стараясь пересилить смех, шутки и стук топоров.
— Ногу отхватишь, чего расхвастался, — отвечает ему Гара, брат Ойты.
— Ну что, ага, соревнуемся?
— Давай! Только, чтобы чисто работать, от черты не отступать, чтобы после твоего топора оставалось гладенько-прегладенько, как зад твоей жены.
— А зад-то выпуклый! — расхохотался Кирка.
— У его жены зад гладкий, — засмеялся Гара. — Отец Нипо, ты будешь смотреть, кто по прямой линии идет, кто глаже обтешет бревно.
Холгитон кивнул головой, и Хорхой с Гарой приступили к кантовке. Старик смотрел на них и опять вспомнил Баосу.
«Половина стойбища его потомство, — думал он. — Гара сын Полокто, Хорхой сын Дяпы, Кирка сын Калпе, и у всех уже есть дети, кроме Кирки. Скоро в Нярги одни Заксоры будут жить. Из большого дома Баосы получилось целое стойбище».
Гара сильными ударами сделал несколько зарубок, потом удар за ударом откалывал от бревна крупные куски и тут же обтесывал.
«Умеет работать, — подумал Холгитон. — В семье Полокто все умеют топором махать, пилу свою продольную имеют- Даст Полокто мне досок или нет?»
— Ага, сдаюсь! — объявил Хорхой, когда Гара обтесал второе бревно, а он закончил только первое.
— Шероховато, — взглянув на работу Хорхоя, сказал Гара. — Неужто у твоей жены такой зад?
Смущенный Хорхой отмалчивался.
— Ничего-то ты не умеешь делать, даже помощником отца Миры не смог быть.
— Хоть ты помолчал бы, — огрызнулся Хорхой. — Сам ни одной буквы не знаешь.
— Без буквы твоей проживу. Ружье, топор умею в руках держать, рыбу умею ловить — проживу.
— Ты победил, — сказал Холгитон, чтобы прекратить спор, который угрожал перейти в перепалку. — Не говори так, Гара, новая жизнь пришла, может, она потребует, чтобы и я, старик, грамоту знал. Кто знает. А ты молодой, потому не зарекайся.
Подошел Пиапон, сел рядом с Холгитоном и закурил.
— Вот твой дядя, он разве думал о грамоте, — продолжал Холгитон. — Отец Миры, ты думал когда научиться читать, писать?
Пиапон помотал головой.
— Не думал. А теперь тебе надо читать и писать. Вот и выходит, надо учиться. А ты говоришь — проживу. Новая жизнь пришла, как это вы не понимаете? Молодые — и не понимаете. Я старик и то все понимаю...
— А при новой жизни можно молиться? — насмешливо спросил Кирка.
Холгитон взглянул на него подслеповатыми глазами, поплямкал губами.
— Молиться всегда надо. Думаешь, будет счастье лишнее?
— Да не думаю, только пришла новая счастливая жизнь, а мы еще счастья вымаливаем...
— От жадности, — рассмеялся Ойта.
— Счастье никогда лишнее не бывает, — рассердился Холгитон. — А молиться надо, лишнего соболя добудешь, это что, плохо?
Старик засопел и замолк. Пиапон тоже молчал, смотрел, как ловко машет топором Гара, как силач Ойта с напарником тащат заготовленное бревно к срубу. На строительстве дома Холгитона собралось почти все мужское население Нярги. И ничего в этом не было удивительного, издревле так велось: начал строить сосед фанзу — иди помогай. Всем стойбищем строили фанзы. Теперь деревянные дома строят. Здесь работа посложнее, не каждый сумеет помочь, потому что не всякий владеет топором. Но охотники все равно приходили и чем-нибудь да помогали.
— Если в тайге не помолишься, не попросишь хозяина тайги, не угостишь его — какая придет удача? — обидчиво заговорил Холгитон. — Разве нельзя счастья попросить новорожденному? Молиться надо, так я думаю. Ты как думаешь?
— Кто хочет, пусть молится, — ответил Пиапон.
— Верно, — Холгитон помолчал и добавил восторженно, как мальчишка, которому обещали новый лук со стрелами: — Дом какой будет у меня! Большой, деревянный, в окнах — стекла, светло будет, как у тебя. А может, еще светлее даже, если окна сделать побольше.
— Не делай этого. Зимой в окно сильно продувает. Холгитон промолчал, подумал и сказал:
— Верно, продувать будет. В фанзах весь холод из окна да из двери. Это ты правильно говоришь.
— Доски где достанешь?
— У Полокто попрошу, а нет, может, в Малмыже куплю. В старое время Санька доски готовил на Шарго. Тогда надо было мне строить дом.
— Что ты говоришь? В старое время ты не смог бы построить дом, дети-то были маленькие.
— Состарился я, Пиапсн, ум за разум... Хорошо, я попрошу пилу у Полокто, как-нибудь напилим досок. Люди помогут.
— Помогут, конечно, — согласился Пиапон.
— А дом у меня будет большой. Понял? Большой дом получается, какой у вас был.
— Ты хочешь жить законами большого дома?
— А что, разве плохие законы большого дома?
— Не захотят по ним дети жить, разбегутся.
— Нет, они у меня послушные, не разбегутся. А законы хорошие, хозяйство будет крепкое.
— Не пойму я тебя, отец Нипо, все твердишь и твердишь, что пришла новая жизнь, а сам за большой дом и по его законам собираешься жить. Как так?
— Новая жизнь не мешает жить по законам большого дома.
— Кто тебе сказал?
— Нутром чувствую. Помнишь, когда ты пошел с белыми воевать, нутро мое чувствовало, что ты победишь белых и вернешься. Все так и получилось.
— Не я победил, а все вместе, народ.
— Я о всех тогда думал и о тебе отдельно тоже думал. Ты со мной лучше не спорь, я буду жить большим домом.
— И хозяйство будет крепкое?
— Вы хорошо жили, крепкое хозяйство было. И у меня так будет.
— Мы собираемся колхозом жить, а он о своем хозяйстве говорит. Вот-вот приедут люди из района, колхоз будем создавать, все хозяйства будем объединять, а ты...
— Колхоз, колхоз, никто не знает, что это такое, а мой дом вот он — все его видят, все знают, что это мой дом. Скажи, при колхозе все будет общее, да?
— Все будет общее.
— Жены тоже?
— Этого, думаю, не будет.
— Вот и я тоже так думаю. Потому и говорю, будет у меня большой дом. Жена моя, Годо со мной, все дети, внуки со мной — это и есть большой дом.
— Старое ты тащишь в новую жизнь.
— Хорошее старое, всегда хорошее. А колхоз — это новое, неизвестное дело. Как все обернется — никто не знает. Приедут люди из района, объяснят. Если собак тоже будут объединять, то я хоть сейчас их отдам, голодные они.
— А когда ты захочешь на них куда поехать, ты придешь и возьмешь?
— Возьму, почему не взять, если они общие?
— Кормить-то не хочешь.
— Колхоз будет кормить.
— Колхоз — это я, ты и все вместе, вот что такое колхоз.
— Люди знающие приедут — все узнаем, — отмахнулся Холгитон.
О колхозе в стойбище говорили давно. Все теперь ждали уполномоченных, которые и должны были разъяснить, как организовать колхоз. Охотники уже знали, что колхозы будут только в крупных стойбищах, таких, как Нярги, Джонка, Болонь, Джуен, Туссер, Хунгари, знали, что русские тоже будут объединяться в колхозы. Оставались еще корейцы-земледельцы, но их было мало, чтобы объединить в колхоз, да и продукты земледелия негде было сбывать, потому что нанайцы не употребляли их, а у русских было своего вдоволь.
— Ты, отец Миры, не сердись на меня, — миролюбиво заговорил Холгитон. — Мы не должны ссориться...
— С чего ты взял? Когда ссорились? — удивился Пиапон.
— Мы с тобой больше чем братья, как-никак своими задами муку нярпшцам заработали.
«Тьфу ты, о чем вспомнил, — раздраженно подумал Пнапон. — Сам столько стыдился, что его при женщинах и детях оголили да зад шомполами искровенили, умирать даже собрался, а тут вспомнил ни с того ни с сего».
— Вот я и говорю, мы больше чем братья, — продолжал Холгитон. — Потому должны помогать друг другу. Эти молодые сруб поставят, потолок, пол настелют, а с окнами и дверями им не справиться, умения у них еще нет, мало у русских учились. Тебе придется Митропана просить, чтобы помог.
— Ты для этого припомнил, как нас белые шомполами полосовали?
— Прошлое вспоминать никогда не вредно.
— А я такое не хочу вспоминать, у меня всяких других много случаев было в жизни.
— Не сердись. Ты в прошлом году что говорил? Сам ведь вспомнил, горячо говорил. Помнишь? Тогда, когда белые китайцы на нас напали, какую-то дорогу железную пытались отнять. Ты тогда горячился, собрался воевать идти.
Было такое дело. Когда Пиапон услышал о нападении белокитайцев, о событиях на КВЖД, он собрал охотников и горячо говорил, как настоящий оратор: «Они напали на нас. Хотят, как мне в районе сказали, отобрать у нас какую-то железную дорогу. Не знаю я, что это за дорога, видеть не видел. Но я знаю другое: они хотят захватить наши земли, наш Амур, нашу тайгу. Опять вернутся в тайгу злодеи-хунхузы, будут убивать охотников, отбирать у них добычу. Советская власть изгнала подлых тварей — маньчжурских и китайских торговцев. А теперь белокитайцы хотят вновь их возвратить на Амур, хотят опять посадить на нашу шею. Нет, этому не быть! Я заряжаю свою винтовку, и как только позовут — пойду на войну. Я не хочу, чтобы вернулись хитрые торговцы!» — «Мы тоже не хотим!» — ответили охотники и стали расходиться.
Удивленный Пиапон спросил их, куда уходят. «Как куда? — в свою очередь удивились охотники. — За берданками пошли, заряжать будем, ждать будем, когда позовут на войну». Конфликт на КВЖД быстро ликвидировали, и охотникам вскоре пришлось разрядить берданы.
Да, горячился Пиапон, но никак не может вспомнить, говорил он тогда или нет о том, как белогвардейцы пороли его и Холгитона.
— Ты не вспоминай об этом, стыдно, — сказал он. — Митропана я сам попрошу, он тебе поможет.
— Хорошо, так я и думал. А брата своего не попросишь, чтобы доски дал?
— Нет, не попрошу. Вон он идет, сам поговори.
Располневший, седоголовый Полокто важно подошел, поздоровался и опустился рядом с Холгитоном.
— За лето построишь? — спросил он старика.
— Досок нет, а то бы построил.
— Столько людей, долго ли их напилить.
— Пила только у тебя, а ты такой...
— Ты прямо говори.
— Хитрый.
— Иди, возьми пилу и пили доски. И не обзывай.
— Сам просил прямо говорить, чего обижаешься?
Пиапон усмехнулся, но не проронил ни слова, он давно уже не разговаривает со старшим братом. Очередная ссора произошла из-за третьей жены Полокто. Если бы Пиапон не был председателем сельского Совета, он сквозь пальцы смотрел бы на женитьбу старшего брата: какое ему дело, которую жену приведет Полокто домой? Но он — советская власть в стойбище, а она говорит, что нельзя одному охотнику иметь двух жен, А Полокто притащил в дом молоденькую третью жену. Как же Пиапон мог остаться в стороне? Он вызвал брата в контору и при всем народе крепко поговорил с ним. Рассказал о первом туземном съезде, который прошел в Хабаровске, какие решения там приняты: нельзя две жены — и все. Полокто, конечно, отбивался, сердился, но не очень: в конторе было много охотников, при них не очень-то раскричишься. Но вечером он сам явился к Пиапону на дом и тут уж не стал сдерживаться. Чего только не наговорил Полокто в тот вечер! На следующий день Пиапон сел в оморочку и поехал в Мэнгэн, откуда родом была молодая жена брата. Заехал он к ее родителям и побеседовал с ними.
— Зачем вы отдали дочь? — спросил он.
— Что, нельзя? — в свою очередь спросил отец.
— Он ведь старик, вы погубили свою дочь.
— Всегда так женились, мало разве молоденьких живут со стариками?
— Раньше так было, теперь нельзя, советская власть не разрешает это.
— Что это за власть, которая женщинам не разрешает замуж выходить?
— Пойми ты, молоденькую дочь отдал за старика, который имеет уже двух жен, двух сыновей и много внуков...
— Это ничего. Полокто еще мужчина сильный, еще может детей иметь. А дочь наша нисколько не хуже его старых жен, может, даже лучше.
Пиапон со злости плюнул и хотел уже уходить. Хозяин фанзы продолжал:
— Он много денег заплатил, щедро...
— Тори, выходит...
— А как же! Это ты, Пиапон, один такой на весь Амур умный, дочь без тори отдал.
— Ты знаешь, советская власть не разрешает продавать дочерей!
— Опять советская власть! Всюду теперь только и слышишь, то нельзя, это нельзя, все не позволяет советская власть. А я думаю так: советская власть разрешает, а такие люди, как ты, которые стали дянгианами, сами выдумываете всякие запреты.
— Тебя и Полокто могут судить. Вы нарушили чакон.
— Выдумываешь ты, Пиапон, советская власть сама все продает за деньги, почему она не разрешает нам, родителям, продавать собственных дочерей? Мы вырастили, кормили, поили, это наша дочь, захотели мы ее отдать замуж за хорошего человека — и отдали. И деньги взяли. Что тут плохого?
— Муку, крупу, сахар, наконец, собак, свиней можно продавать, но как дочь родную можно продавать?! Понимаешь ты — дочь родную? Она ведь не собака, не свинья, она человек!
— Она дочь, женщина. Она родилась, чтобы уйти в другой дом, она будет рожать людей для другого рода, вот потому и продается. Ты всегда был умником, Пиапон, все выдумываешь...
— Ну, посмотришь, выдумываю я или нет.
— Пугаешь?
— Нет. Поумнеешь и посмотришь. Мы все скоро поумнеем...
— Куда нам. Это тебе еще умнеть.
— Так сколько стоила твоя дочь?
— Ах, какой ты надоедливый человек, а еще слывешь на весь Амур умным.
Охотник взобрался на нары, отбросил свернутую у стены постель, вытащил кожаный мешок и сердито высыпал все содержимое на циновку. Сперва со звоном выкатились серебряные монеты с царскими профилями, за ними — новенькие, сверкавшие серебром китайские кругляши. Последними выпали большие связки дырчатых древних маньчжурских монет.
— Советские деньги где? — спросил Пиапон.
— Опять советские! Ты так часто повторяешь это слово, что надоело слышать его!
— Ничего плохого тебе не сделала новая власть, она принесла тебе новую жизнь, изгнала хитрых торговцев, за пушнину она платит тебе вдвое больше, чем прежде. Теперь ты не голодаешь. Чем же ты недоволен? А про советскую власть, пока жив я, буду твердить без устали, и ты мне рот не заткнешь. А теперь слушай, умник, внимательно слушай. Сохрани эти деньги, и когда дочь принесет тебе внука, отдашь ему. Хорошая будет ему забава, слышишь, как они звенят? Хорошо, радостно звенят.
Пиапон поднялся с нар и пошел к выходу.
— Обожди, Пиапон, что ты хотел этим сказать? — крикнул вслед хозяин.
— Я все сказал, и ты все слышал.
— Обожди, что советская власть говорит про эти деньги?
— Что им цена такая — могут быть только игрушкой младенцам. Из серебряных монет можешь кольца, браслеты заказать мастерам.
— Ты яснее скажи, цену они имеют?
— Считай, что ты дочь свою отдал без тори, за детские игрушки.
Пораженный охотник не находил что ответить, он то открывал, то закрывал рот и очень походил на выброшенного на лед сазана. Наконец он обрел голос и закричал:
— Обманщики вы! Отец ваш вредный был старик, а вы, обманщики, пошли от него!
Пиапон обернулся, взял охотника за грудь и тряхнул так, что тот присел.
— Ты отца не трогай, понял? — сказал он спокойно. — Если кто обманщик, ему в лицо скажи. Зятю своему скажи.
Но охотник никому ничего больше не сказал, он даже не жаловался друзьям и соседям, не разоблачал Полокто, видно, ему самому было стыдно, что так бессовестно провели его.
С этого времени Полокто не разговаривал с Пиапоном.
— Все хорошо получается, — обрадовался Холгитон, — дом мы к кетовой путине построим.
— Доски сырые, высушить надо, — сказал Полокто.
— Высушим, высушим, долго ли, вон солнце какое. Только надо сейчас же начать пилить доски. Эй, Нипо, иди сюда. Сходи к отцу Ойты, принеси пилу, доски начнем готовить. Эй, Почо, иди сюда! Возьми умельцев и сейчас делай козлы, чтобы доски пилить. Эй, Годо, иди сюда! Ты, Годо, разожги угли в своей кузнице, готовь скобы, много скоб требуется.
Старый Холгитон сам не притрагивался ни к топору, ни к бревнам, он руководил строительством.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В Малмыже причаливали катера, буксиры с баржами, пассажирские пароходы. Привозили они разные грузы, в том числе и на имя Воротина, заготовителя пушнины.
Борис Павлович крепко обосновался в Малмыже. После изгнания приказчика Салова он занял дом купца, в добротный склад перенес из своего сарая продовольствие и товары. Никогда у Бориса Павловича не было вдоволь товаров, всегда ему чего-нибудь не хватало. Он кое-как сводил концы с концами, кое-как удовлетворял не очень-то прихотливые запросы охотников. Если чего не находилось в складе, он объяснял охотникам, какие трудности переживает советская власть. Страна восстанавливает разрушенные войной заводы, фабрики, города, строит новые; продовольствия еще не хватает, люди живут впроголодь. Но советская власть отдает охотникам все, что есть, отдает самое лучшее. Охотники кивали головами, они понимали все и потому ничего, кроме привычных продуктов питания и материи для одежды, не просили.
Воротин теперь в округе был единственным торговцем, как по привычке продолжали звать его охотники. После первого туземного съезда в Хабаровске частные русские, китайские и маньчжурские торговцы были изгнаны за пределы Амура. Были ликвидированы и конкурирующие всякие союзы и центросоюзы.
— Ты сильный торговец, — говорили охотники Воротину, — всех победил, китайцев изгнал, русских тоже, и своих, советских торговцев, не пожалел. Один теперь остался. Это хорошо.
Борис Павлович вместе с милицией принимал участие в ликвидации частной торговли. Приказчик Александра Салова в Малмыже жил, как говорили, на последнем дыхании, он не получал товаров от своего хозяина, склады пустовали, и приказчик только ждал указа, чтобы сдать торговый дом, склад властям и уехать из села. С ним было просто. Чуть посложнее было с Берсеневым в Вознесенском. Берсенев не считал себя торговцем, хотя имел склад-амбар с запасом продовольствия и товаров, которые доставал где-то в Хабаровске.
— Не торгую я, — заявил Берсенев, когда пришли х нему. — Я охотник и рыбак. Любого спросите, не торгую я.
— Откуда у тебя пушнина? — спросил Борис Павлович.
— Сам добываю. Спроси...
— Охотники-гольды столько не добывают.
— Что мне гольды? Я лучше их стреляю, умею...
— Ничего-то ты не умеешь! Ты не здесь в Вознесенске торгуешь, ты торгуешь в тайге. Думаешь, мы не знаем это? Знаем, все знаем.
После Берсенева выехали в Мэнгэн к Американу. Нанайского богача застали в стойбище.
— Никогда я не торговал и торговать не умею, —заявил Американ. — Раньше, правда, маленько-маленько менял всякие товары на пушнину, теперь кончил, не хожу к орочам.
— Но пушнина у тебя есть.
— Нет пушнины, что зимой добыл, все сдал.
— А откуда водки привез целую лодку? — спросил милиционер.
— Что? Какую водку? — вдруг побледнел Американ.
— Ты контрабандист, мы знаем. Водкой торгуешь, на пушнину меняешь.
— Ищи водку! Ищи пушнину! Найдешь — тогда говори!
Милиционер произвел обыск, но ничего не нашел, расспрашивал соседей, но те все отрицали: они не отдавали Американу пушнины, не видели у него водки. Не удалось разоблачить Американа.
Труднее всего пришлось с китайскими и маньчжурскими торговцами. Болонский торговец У и хунгаринский Чжуань Мусань жили на Амуре десятилетиями, они пустили здесь глубокие корни. Женаты они были на нанайках, дети их женились, и они теперь были кругом опутаны родственными связями. Правда, многочисленные родственники не получали никаких выгод от этого родства, они были такими же должниками, как и все остальные. Этих торговцев заранее предупредили, что торговать им на советской земле запрещается, что они должны покинуть Амур.
Когда Воротин приехал в Болонь, одряхлевший У уже был готов к отъезду. Провожать его собрались все родственники. Много пили и слез много пролили: хитрый У роздал остатки продовольствия и товаров, собрал долги с тех, у кого была пушнина, припасенная для закупки зимнего запаса.
— Собрался, — сказал У и заплакал.
Торговец теперь плакал настоящими слезами, он привык к амурской земле, здесь прошла его молодость, здесь он собирался встретить смерть. Тяжело ему было еще и потому, что отказались уезжать с ним старшая жена Супиэ и тридцатилетний сын Чифу. Оставалась и замужняя дочь. Старый У оставлял на амурской земле мечту своей жизни — торговый дом и детей. Уезжали с ним лишь младшая жена Майла и сын Муйсэ от старшей жены.
— Ты покидаешь родину, почему? — спросил Воротин Муйсу.
— Отец старый, жалко.
— Врешь, ты торговцем там станешь, — сказал Лэтэ Самар.
Случайно оказавшийся на проводах Токто заметил:
— Китаец, он и есть китаец, тянет его на свою родину. Ему что Амур — тьфу! Амур ему не дорог, так же, как и мать. А Чифу настоящий наш человек, нанай. Отец и мать уезжают, а он остается.
— Правильно делает. Как без Амура можно жить? Зачахнешь. День и ночь только о нем будешь вспоминать.
— Старик впервые по-правдашнему плачет. Жалко его...
— Пожалел кого, — жестко проговорил Токто, — всегда мы такие жалостливые, все забываем, все прощаем. Плохо это!
Воротин знал, что хитрый У увозит с собой много пушнины. Но конфискацией занималась милиция. Когда милиционер сказал, что советская власть не разрешает вывозить за пределы страны пушнину, у старика подогнулись ноги, и он сел на пол. Охотники переглянулись, женщины прикусили губы.
— Пушнина советская, она добыта на советской земле, — сказал милиционер, — потому мне приказано забрать ее у вас.
— Разорили... — прошептал У. — Как буду жить?
— Как так? — спросил Лэтэ Воротина. — А мука, крупа, материи были его, он ведь менял.
— Это неправильно, — заявил Токто, — выгонять — выгоняй, но зачем отбирать последнее?
— Токто, я тебе все объясню, — сказал Воротин. — За границу советская власть никому не разрешает вывозить пушнину.
— Пушнина его, он за нее нам заплатил мукой, крупой, материями. Нельзя отбирать.
— Если мы не возьмем сейчас, отберут, когда он границу будет переходить. Такой закон. Если запрячет и тайно захочет перевезти, его арестуют как контрабандиста.
— Жить становится сложнее, всякие законы, — вздохнул Лэтэ.
— Раньше и слышать не слышали про такое.
— Верно, раньше и слышать не слышали, — сказал Токто, — жизнь меняется. Раньше следы наши оставались возле зимников да стойбищ. Теперь тропы пролегли в Николаевск, в Хабаровск, а Богдан даже живет на краю земли, в Ленинграде. Нанай добрались до края земли.
— Пушнина — богатство наше, — продолжал объяснять Борис Павлович. — Это мягкое золото, на нее мы можем купить всякие машины, пароходы, целые заводы. А если у нас больше заводов будет, то больше всяких товаров мы получим.
— Скажи, ты можешь у меня ружье отобрать? — спросил Токто.
— Нет, не могу.
— Не можешь, потому что ружье мое.
— Да, твое. Ты им добываешь пушнину, и никто у тебя не может его отобрать.
— Верно, потому что оно мое собственное. Вот и пушнина у торговца — его собственность.
— Я тебе все объяснил. Добавлю еще. Пушнина эта собрана за долги, давние долги. Сын заплатил за отца. А были ли долги у отца? Может, не было, а? Об этом много говорили, хватит. Торговцы вас обманывали, долги приписывали. Это-то ты знаешь? Говорят, из-за этого ты много ругался с У, рассказывают, чуть не убил однажды. Чего же ты теперь за него заступаешься?
Токто нечего было отвечать, верно говорил Воротин, он всегда недолюбливал хитрого У.
Так были изгнаны с Амура кровопийцы-торговцы. Теперь Воротин собирался открыть магазины в крупных стойбищах, в Болони, Джуене, Нярги. Там будут организованы колхозы, там станут жить охотники с других малых стойбищ. Со дня на день он ждал баржу с товарами и наконец дождался.
— Борис Павлович, богачи мы! — восторженно сообщил Максим Прокопенко.
Борис Павлович сам побежал на берег, залез на баржу, осмотрел бегло мешки, ящики и удовлетворенно вздохнул. Вместе с традиционными товарами впервые прибыли консервированные фрукты, сухофрукты, несколько сортов конфет, печенья, брезентовые плащи, сапоги, новые ружья.
— Хорошо! — воскликнул Борис Павлович. — Максим, подводы организуй! Я начинаю приемку!
Дня три спустя после прибытия груза к Воротину приехал Токто.
— Бачигоапу, советский купец! — поздоровался он.
— Давно ты не был у нас, — сказал Борис Павлович, ответив на приветствие. — Пота с Гидой за тебя сдают пушнину, а ты, как китайский мандарин, только приказываешь им. Так, что ли?
— Так, так, — засмеялся Токто. Он был в хорошем настроении и был готов шуткой отвечать на шутку. — Работы много, я ведь председатель сельсовета. Даже на рыбалку некогда сходить.
Токто засмеялся, хлопнул себя по коленям.
— С внуками вожусь, обучаю их. Хорошие будут охотники- Ловкие, сильные, выносливые. А про председателя я так сказал в Болони: ничего не делаю, не знаю, что делать. Пота умнее меня, пусть называется председателем, я ему печать отдаю. Не хочу зря деньги получать. Я в жизни никого не обманул и не хочу обманывать.
— С колхозом как?
— Разговоры только. Скажи, зачем этот колхоз? Жили без колхоза, можно было дальше без него жить.
— Все это мы слышали, Токто: жили мы раньше, проживем, — передразнил Борис Павлович. — Нет, не можешь ты жить так, как жил раньше. Не можешь!
— Артель была, хватит одной артели.
— В артель вы могли объединиться и в маленьком стойбище, а теперь надо укрупнять хозяйство, тогда вы станете жить лучше, богаче.
— Я не против колхоза, если советская власть так говорит, то пусть будет колхоз. Я советскую власть люблю.
Из жилого помещения вышел Максим. Токто поздоровался с ним и продолжал:
— Долг я сразу вернул, так что я советской власти подчиняюсь. Ты не думай что-нибудь плохое.
— Какой долг вернул? Ты советской власти не должен.
— Память у тебя, купец, короткая, что воробьиный клюв. Ты в голодный год привозил муку, крупу в Хурэчэн, где мы, как зайцы в наводнение, на острове отсиживались?
— Привозил.
— Ты сказал, что это советская власть послала. Мы тебе сказали спасибо, съели все, что привез. А раз съели, надо платить. Я и заплатил, два соболя заплатил, да ты одного мне вернул с охотником. Я тебе ничего не сказал, забрал соболя и молчу. Думал, одного ты взял и долг мой снял. Правильно я решил?
— Ты одного соболя оставлял, я его и возвратил тебе.
— Нет, я двух соболей оставлял, вот ему оставлял.
Токто пальцем указал на Максима. Прокопенко, не понимавший по-нанайски ни слова, даже не догадался, о чем говорили Воротин и Токто.
— Чего ты тычешь в меня? — улыбнулся он.
— Максим, сколько соболей он тогда оставил? — спросил Воротин. Максим побледнел, но внешне остался спокоен.
— Одного, кажись. Столько времени прошло, однако, годиков шесть будет...
— Вспомни, Максим!
— Да что вы кричите, Борис Павлович? Времени много прошло, разве упомнишь? Столько пушнины я принимал. Он что говорит?
— Говорит, двух соболей оставлял.
— Доба, доба, соболь, — сказал Токто, поднимая два пальца.
— Два, значит, — проговорил Максим. — Два. Честно — не помню.
— Максим, ты сам понимаешь, чем это пахнет. Вспомни, Максим.
— Я два соболя оставлял, — сказал Токто, — один был черный, пушистый, такого я сам редко встречал. Красивый был соболь. Этого ты за долг забрал, а другого, похуже, возвратил. Охотникам нашим возвратил. Что, не помнишь?
Борис Павлович растерянно молчал. Ничего подобного еще не случалось за всю его работу кооператором. Он был требователен к себе, требовал и от подчиненных честности, справедливости в оценке пушнины, в расчете с охотниками. Да и как могло быть иначе, ведь они представляли советскую власть, самую справедливую власть. На них, как в зеркале, отражалась вся деятельность советской власти, проверялась справедливость новых законов. Нельзя было допустить ни малейшей оплошности, чтоб не погубить у людей веру в справедливость советской власти. Что же произошло с Токто? Ему вернули соболя, одного соболя, а он утверждает, что приносил двух. Он честный человек, ему незачем лгать. Но куда делся второй соболь?
Борис Павлович взглянул на Максима. Неужели Максим присвоил? Зачем ему соболь? Давно уже работает он с Максимом, привык к нему, опекает его, как сына. Никогда не замечал за ним жадности, пристрастия к деньгам. Нет, Максим не мог присвоить соболя. Но тогда куда исчез соболь, будь он проклят!
— Черный был соболь, что мой охотничий котелок, — продолжал Токто. — Очень редко такой встречается. Я его и отдал советской власти.
Максим вытащил бухгалтерскую книгу и начал ее листать. Он ничего не видел перед собой, записи слились в сплошную фиолетовую мешанину. Пришел ему конец, он обречен, и ему никак не отвертеться. Отвечать придется и за соболя Токто, а там доберутся и до других, присвоенных им шкурок. Доверял ему слепо Борис Павлович, и Максим воспользовался его доверием. Но все его махинации следователь запросто разоблачит в первый же час.
— Максим, он твердит, что отдавал тебе два соболя, — сказал Борис Павлович и потер пальцами висок.
— Не помню, Борис Павлович, честное слово, не помню. Да какая беда? Если даже два соболя было, что теперь делать, времени-то сколько прошло.
— Время здесь ни при чем, память людская цепкая, Максимка. Мы советскую власть скомпрометировали.
— Слово-то какое, не выговоришь.
— Запятнали мы свою родную власть. Куда же подевался этот проклятый соболь?
— Может, его и не было? Может, он сам забыл? Токто, прислушивавшийся к разговору кооператоров, вздрогнул, ноздри его расширились.
— Чего твоя говори? — спросил он. — Моя тебя обмани, да? Доба соболя тебе давал. Обманул, да? Моя тебе давал!
Токто побагровел, он рассердился не на шутку.
— Твоя брал соболь! Моя давал!
Борис Павлович смотрел на разошедшегося Токто. Он уверился, что тот оставил Максиму два соболя и что исчезнувший соболь был необыкновенной и высокой сортности. Он взглянул на Максима и только теперь заметил, как побледнел его помощник, как задрожали его губы.
Максим! Максим виноват!
Борис Павлович соскочил со сгула, подошел к помощнику.
— Сознайся! Сознайся лучше, паршивец! — выкрикнул он сорвавшимся голосом. — Куда девал соболя?
Молодой кооператор неопределенно махнул рукой. Откуда ему знать, где теперь находится этот соболь, может, какая русская женщина уже сделала из него воротничок, а скорее всего соболь давным-давно уплыл за границу.
— Давно загнал, — прошептал Максим.
Борис Павлович отошел от него, устало опустился на стул.
— Твоя себе брал соболя ? — удивился Токто. — Как так? Моя отдавал советская власть, а твоя брал себе? Ое-е-е, как плоха. Совсем плоха.
— Под суд отдам, — устало и спокойно проговорил Борис Павлович.
— Ты что, Бориса? — спросил Токто. — Ты хочешь его судить? В тюрьму посадить?
— Да, его будут судить.
— Из-за одного соболя?
Токто не совсем поверил Воротину, думал, погорячился кооператор, опомнится еще. Не может быть, чтобы из-за одного соболя судили человека и на долгие годы посадили в тюрьму. Максим может купить соболя на свои деньги и вернуть советской власти. Зачем же его судить, такого молодого? Нет, конечно, Борис погорячился, вернется Токто через день, за это время кооператор успокоится, и все останется по-прежнему.
Так думал Токто, выезжая из Малмыжа. Он возвратился в Болонь, отказался от должности председателя сельсовета, хотя его долго уговаривали повременить, разъясняли, что по закону он не может просто так передать свои полномочия Поте, что дело не в печати и бланках свидетельств, а в существе новой власти. В райисполкоме не сумели уговорить Токто, махнули на него рукой и отпустили.
Токто вновь выехал в Малмыж. На приемном пункте пушнины находился,один Ворртин.
— Где Максим? — спросил Токто.
— В Вознесенске, — хмуро ответил Борис Павлович. — Его арестовали, следствие будет, потом суд.
— Судить будут? За одного соболя?
— А ты думал как?
— Неправильно! Разве можно из-за одного соболя человека в тюрьму сажать? Это что, человек совсем не дорог новой власти? Соболь дороже человека, да?
— Нет, человек дорог нам. Хороший человек. А плохих людей зачем жалеть? Их надо перевоспитывать.
Токто не ожидал, что советская власть, самая человечная власть, станет судить молодого человека. Непонятная власть! Надо как-то спасти молодого кооператора.
— Бориса, ты скажи властям, что я приносил Максиму одного соболя, — сказал Токто.
— Не обманывай, Токто, ты приносил двух соболей, — ответил Борис Павлович. — Почему идешь на такой обман?
— Жалко Максима.
— Думаешь, мне не жалко? Он же как сын был мне.
— Тогда зачем отдаешь его под суд?
— Отдаю, Токто. Если бы родной был сын — тоже отдал бы под суд. Да за такое знаешь...
— Родного сына судил бы? Горячишься, Бориса.
— Пойми меня, Токто, выслушай. Я и Максим здесь работаем по указу советской власти, все, что делаем, делаем от ее имени. По дешевой цене продаем товар — от ее имени. По дорогой цене принимаем пушнину — по ее воле. Так что выходит? Максим обманул тебя, выходит, он обманул по наущению советской власти? Так ведь ты подумаешь?
— Нет, Бориса, я так не подумаю! Я думаю, Максима надо спасать.
— Нельзя его спасать, он обманул тебя, он обманул свою родную власть и запятнал ее. Его следует крепко наказать.
— Ты так думаешь или советская власть так думает?
— Вместе мы так думаем, потому что я и советская власть — это одно и то же, я исполняю ее волю.
Токто надолго примолк; человечная власть, по его мнению, должна делать иногда снисхождение людям, особенно таким молодым, как Максим, должна прощать. Нельзя же в тюрьму сажать молодого человека из-за одного соболя! Нельзя, в этом он был уверен. И он решил спасти Максима.
— Бориса, я отдам тебе соболя, — сказал он. — Отпусти Максима. Аих, и зачем я вспомнил про этого соболя?!
— Хорошо, что вспомнил, потому что за эти годы он еще не раз, видно, мошенничал.
— Знаешь что, Бориса, а я Максиму подарил того соболя. Верно, вспомнил, подарил ему соболя.
— Все, Токто, теперь ничего не сделаешь. Мошенников и воров нельзя прощать.
Воров? Токто удивленно взглянул на Бориса Павловича. Верно ведь, Максим вор, он украл у советской власти соболя. Как об этом не подумал Токто раньше? Воровство — это самое грязное, самое большое преступление у нанай. Воров изгоняли из стойбища, им в лицо плевали, на костре жгли ворону, и у птицы разгибались и сжимались когти на огне, чтобы так же у вора пальцы судорогой сводило. Нет, нанай не прощают воров, им нет места среди людей. Выходит, правильно поступает советская власть, вор Максим пусть сидит в тюрьме, подальше от людей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Пятый год живет Богдан в Ленинграде. Большой срок — пять лет. За такое время неразумный щенок превращается в умную охотничью собаку — помощницу таежника. А человек? Разве маленький человечек в пять лет неразумен? Для него это время открытия мира, его познания, время бесконечных «что» да «почему».
Пятый год, а Богдан до сих пор, как пятилетни» «почемучка», делает каждый день все новые и новые открытия. И не стыдится спрашивать: «А что это? Почему?» Он пристает со своими вопросами после лекции к преподавателям, к друзьям-аспирантам и студентам, а когда бродит по городу один — к встречным ленинградцам. Удивительный народ — ленинградцы! Ни один не прошел мимо, не ответив на его вопросы. Бывали случаи, когда горожанин не знал существа дела, истории памятника, тогда он тут же начинал искать знатока, находил и приводил к Богдану.
Богдан прилежно учился, в последние годы охотно посещал музеи, театры и незаметно обогащался знаниями, менялся нравственно. Он этого сам не замечал, как та раковина, в которой зреет жемчуг, не знает о своем богатстве. Но кто был знаком с ним с первого дня его появления в Ленинграде, те со стороны все подмечали. А как он внешне изменился! Появись он в костюме, в котором идет на занятия по Невскому проспекту, в своем стойбище — никто бы его не узнал. Даже Пиапон, даже тети Дярикта, Агоака, Майда. Студент Богдан Заксор выходил в город при галстучке, в хорошо отутюженном костюме, всегда побритый. А самое главное его приобретение — большие очки. Не из щегольства надел он очки: у сына тайги начало портиться зрение; учение — неведомое предкам занятие — притупляло глаза. Очки Богдан носил с удовольствием, потому что они помогали ему лучше видеть, да и друзья-студенты завидовали им. Чудаки! Нашли чему завидовать! Сашка Оненка, который стал Сашкой только здесь, в Ленинграде, — на Амуре его звали Сапси — при каждой встрече примеряет их, вертится перед зеркалом, как девушка, которая надела новое платье.
— Закажи себе в мастерской очки с простыми стеклами, — как-то посоветовал ему Богдан.
Сашка удивился, что сам не мог догадаться, и пошел в мастерскую и заказал очки с простыми стеклами. Ничего. Щеголяет.
«Несерьезный человек», — думал Богдан о Сашке-Сапси. И вдруг узнал, что этот несерьезный человек пишет какой-то рассказ об Амуре, о рыбной ловле. Вот как.
Богдан с Сашкой познакомились в Хабаровске. После окончания первого туземного съезда Богдана оставили в городе. Вызвал его Карл Лукс, председатель Комитета Севера. Это был высокий, широкоплечий человек, с острым взглядом. Богдан тогда не знал о нем, что это старый большевик, сидел в Шлиссельбургской крепости, прошел царскую каторгу, а после революции был командиром партизанского отряда, затем командующим Восточно-Забайкальского фронта. С интересом рассматривал Богдан своего собеседника, хотя и встречался с ним во время работы съезда.
— Вы гольд? Амурский человек? — спросил Лукс. — Говорят, были партизаном, храбрый человек.
— Кто говорит?
— Павел Глотов сказал. Он еще сказал, что вы очень хотите учиться. Так, да?
— Хочу, да.
— В Ленинград поедете учиться?
Богдан удивленно взглянул на него — не шутит ли? Куда еще ехать, когда и так он находится в таком большом городе? Здесь, в Хабаровске, и желал бы Богдан учиться.
— Куда? — на всякий случай переспросил Богдан.
Лукс заметил растерянность молодого делегата съезда, усмехнулся мягко.
— В Ленинград.
— Это далеко отсюда?
— Очень далеко, ехать по железной дороге дней тринадцать — пятнадцать...
Никогда не видел Богдан железной дороги, в его представлении это была обыкновенная дорога, мощенная железом. Пока Богдан раздумывал о дороге, о неизвестной колеснице, в кабинете появился новый посетитель. Это и был Сапси Оненка. Разговор, который вели только что Лукс с Богданом, повторился почти дословно, без упоминания о партизанщине. Сапси тоже испугался, услышав о Ленинграде, тоже спросил, далеко ли находится этот город, и, услышав ответ, категорически отказался.
— Это очень большой, культурный город, — мягко сказал Карл Янович.
— Больса Хабаровска? — насмешливо спросил Сапси.
— В десять раз больше. Это город Ленина. Ленинград. Там произошла Октябрьская революция, там Ленин провозгласил советскую власть. Там каждая улица, каждый дом знают и помнят Ленина. Вот как, ребята.
«Город Ленина, — мысленно повторил Богдан, — город Ленина».
— Я еду, — сказал он, Сапси взглянул на него, потупил глаза.
— Но это очень далеко, — пробормотал он.
— Эх, охотник, расстояния испугался, — усмехнулся Лукс.
— Поеду, — сказал Сапси и матюкнулся.
— Ругаться нехорошо, ты учиться едешь.
— Как ругаться? Меня русские научили, — удивился Сапси.
Богдану, когда они вышли из кабинета, долго пришлось объяснять, что такое матерщина. Сапси ничего не понял; первое русское слово, которое он запомнил, было матерное, и поэтому оно ему казалось таким же необходимым, как и другие русские слова. Но он все же дал слово, что больше не будет материться.
Богдан и Сапси подружились, иначе нельзя, им вдвоем ехать в дальний город и жить без родственников многие годы. Потом к ним присоединился Моло Гейкер, который в Ленинграде стал Михаилом. Вместе с сопровождающим они выехали в Ленинград.
В первые дни они не отходили от окна, не выходили на стоянках из вагона, боялись отстать.
Много по пути размышлял Богдан, много открытий сделал для себя. Увидел горы, степь, где не было ни деревца, увидел в лицо бурятов и людей других национальностей, о существовании которых даже не подозревал. По простоте душевной он думал, что на свете только и есть три города: Хабаровск, Николаевск да Сан-Син на Сунгари. А тут оказалось, что ни остановка — город, да еще какие большие города, конца и края не увидишь из вагонного окна. И вдруг однажды он вспомнил тайгу, ручеек, у которого он долго простоял, мысленно прослеживая его путь до другой реки, потом до Амура и до моря. Ручеек тогда связал его со всем миром, со всеми народами. Тут он вдруг понял, что кроме воды есть еще дороги, связывающие между собой села, города, народы. Вспомнил он еще, как в прошлые годы лыжня связывала его зимник с зимником соседей. Лыжня эта петляла по тайге, не выходя на простор к другим незнакомым людям. Теперь эта его лыжня где-то оборвалась, вышла из замкнутого круга и пошла, пошла на запад, через тысячи сел, сотни городов к сердцу Советской страны — Москве, а там и к городу Ленина.
Вышел из тайги охотник! Выбрался в город Ленина! От этой мысли начинало учащенно биться сердце Богдана.
В Москве нашлось немного времени до отхода ленинградского поезда, и сопровождающий повел ребят по столице. Ездили они на грохочущих трамваях. В этом городе для молодых охотников все было необычно, все незнакомо.
Богдан смотрел на дома, на улицы, слышал вполуха рассказ сопровождающего и все время чувствовал неудобство. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такого множества людей, никогда он не был в таком тесном людском сборище. Ему хотелось стать маленьким-премаленьким, чтобы уйти из этой толкотни. Только возвратившись на вокзал, он свободно вздохнул.
— Ну как, ребята, Москва понравилась? — поинтересовался сопровождающий.
— Большой город, но я плохо видел, — сознался Богдан. — Людей много, столько муравьев, наверно, в тайге нет.
В Ленинграде тоже много было народу, но Богдан не обращал теперь внимания на толкотню. Освещенный августовским солнцем, город сиял, как праздничный. Прямые проспекты, нарядные здания, не повторяющие одно другое, золотые, горящие огнем купола и шпили. Пока ехали по Невскому проспекту, Богдан приглядывался к каждому зданию, к мостам, а когда встали над ним вздыбленные кони на Аничковом мосту, он даже вскрикнул от удивления и восхищения.
«Неужели это человек своими руками сделал? — думал он. — Неужели все это можно построить?!»
Паосаж, Гостиный двор, Казанский собор, Дворцовая площадь с Эрмитажем и Адмиралтейством. Глаза разбегались — куда смотреть, что краше? А впереди Нева, Стрелка, Петропавловская крепость.
«В этом городе я буду жить? Не сон ли это? Какая красота, и все это создано человеческими руками!»
Вот и университет. Здесь, на Северном отделении рабфака, будет учиться охотник-нанай Богдан Заксор. Когда он давал слово деду Баосе, что будет учиться, он думал об учебе в своем родном стойбище. А его куда забросила новая жизнь? В город Ленина забросила!
Поднимись, старый Баоса, со дна Амура, взгляни на своего внука Богдана! Видишь, он открывает тяжелую университетскую дверь и входит. Вошел! Вошел уверенно, будто бы он каждый день бывал в обиталище знаний, мудрости и красоты. Первый человек — нанай — твой внук, переступил порог храма науки.
...Молодых рабфаковцев отвели в общежитие, и здесь они встретились с пятью будущими сокурсниками. Смущаясь, поздоровались, робко познакомились, назвали имена. Богдан не разглядывал новых знакомых, разглядывать при знакомстве не принято у нанай. Но он заметил, что из пятерых только двое черноволосых, скуластых, черноглазых, а трое русоголовы, с почти русским обликом, и глаза светлые. Назвали они и свои национальности: самоед, коми-зырянин, селькуп, вогул, остяк. Богдан никогда не слышал о таких народностях и не знал, где они проживают.
— На севере, далеко, далеко, где тундра, — ответили самоед с селькупом.
— А мы и лесные и тундровые, — сказал коми-зырянин.
— Обь знаешь? Совсем не знаешь? Совсем-совсем? Как так? Обь самая большая река, широкая-широкая, такой реки нигде нет. Эта Нева что? Тьфу, и переплюнул, — так похвастались вогул с остяком.
На Северном отделении рабфака собралось двадцать пять слушателей. Когда начались занятия, тогда только выяснилось, что Сапси с Моло хотя и знают буквы, но не могут сложить из них слова, а самоед, вогул и чукча не знают даже букв. Но они были люди настойчивые, северной закалки, и приехали они, чтобы преодолеть эту пропасть, которая называется грамотой. Через полгода они догнали своих товарищей и учились с ними наравне.
В следующем году северян перевели в Институт восточных языков, организовали рабфак для народов Севера в Детском Селе, под Ленинградом. Приехали новые рабфаковцы, и теперь их стало сто тридцать слушателей. Богдан познакомился с энцами, эскимосами, нганасанами.
Как-то в столовой он обедал с только что приехавшим новичком. Новичок отодвинул тарелку великолепного борща, к которому привыкли и Богдан и его товарищи. Съел новичок только второе, отказался и от винограда. Он даже не притронулся к нему.
— Обожди, куда ты, — остановил его Богдан. — Вот это твой виноград. Ешь.
Новичок не понимал русской речи. Богдан усадил его на место, позвал товарищей, и один из них все же растолковал, что гроздья круглых зеленоватых ягод съедобны. Новичок недоверчиво отправил в рот виноградинку поменьше, стал медленно жевать. Потом расплылся в улыбке и стал есть виноград.
Богдан позже несколько раз сидел с ним рядом, уговаривал съесть то огурец, то помидор, то яблоко. Ничего не хотел пробовать этот нганасанин, даже от арбуза сперва отказывался. Богдан не удивлялся, потому что видел, как его родственники в Малмыже отказывались от свежих помидоров, соленых огурцов, а этот нганасанин приехал из таких мест, где даже деревья не растут. Но человек ко всему привыкает. А нганасанин приехал учиться, набираться знаний, и как-то само по себе получилось, что однажды, придя на обед в столовую, сам не заметив этого, он съел и огурец и помидор.
Все новички смотрели на Богдана и его друзей как на старших, опытных ленинградцев. Земляки просили показать город, рассказать о достопримечательностях.
— Что интересного? Это все построено на костях, на крови людей, — ответил он им однажды.
Не покривил душой Богдан. В первый год он не переставал восхищаться Эрмитажем и другими музеями, пока ему не сказали, что болото, на котором стоит город, замощено костями простого люда, что весь город окроплен человеческой кровью. С того времени охладел Богдан к дворцам, паркам, это был его протест против бесчеловечности царей, дворян и всяких богачей, истязавших простых людей. Богачей уничтожила советская власть, и нечего любоваться дворцами, которые они понастроили в свою утеху на человеческих костях.
В Детском Селе стояли два великолепных дворца — Екатерининский и Александровский, прекрасный парк раскинулся на километры. Все рабфаковцы побывали во дворцах, посетили Лицей, где учился Пушкин, и, потрясенные увиденным, долго делились впечатлениями. Богдан слушал и иронически посмеивался.
Однажды к нему приехал знакомый студент Саша Севзвездин. Они познакомились еще в университете, где Саша учился на Восточном факультете, изучал маньчжурский язык и уже довольно хорошо говорил. Так как маньчжурский и нанайский языки родственны, то приятели могли побеседовать на этих языках. Для Саши Богдан стал неотъемлемой частью учебы.
— Богдан, я узнал интересную новость, — сообщил Саша, поздоровавшись. — Говорят, в Хабаровске живет женщина, которая очень хорошо знает ваш язык, она пишет букварь на нанайском языке. Вот это здорово!
— Как пишет? — удивился Богдан. — А буквы какие?
— Не знаю. Я сам только что услышал эту новость. Может, ты ее знаешь?
— Одна женщина учителем в Болони была, очень хорошо по-нанайски говорила. Потом я ее в Хабаровске на туземном съезде встречал, она писала протоколы. Но фамилии я не знаю.
— Эх, черт побери! Интересно, как она пишет букварь, когда даже грамматики нет. Да что там грамматики, письменности нет. Я давно думаю над вашей письменностью, надо ее создать, понял? Вместе всем работать и создать!
Богдан недоверчиво смотрел на молодого широколобого приятеля. Как же он хочет создать письменность, когда сам еще учится? Молодой, потому горячий.
— Знаешь что, русский алфавит не подходит для нанайской письменности, потребуются дополнительные знаки, а это затруднит чтение, — с жаром продолжал Саша, не замечая иронического взгляда Богдана. — Но латинским можно!
Этот высокий, стройный, круглоголовый студент смешил Богдана. Молодой, намного моложе Богдана, зеленый совсем, а вон куда замахнулся!
Приятели прохаживались по зимнему парку. Легкий морозец пощипывал лицо и бодрил молодую кровь.
— Хорошо у вас, — сказал Саша, — просто сказочно, все по Пушкину. Будет у вас письменность, и мы с тобой переведем стихи Пушкина. Ты читал его стихи?
— Нет. Не читал и читать не хочу.
Севзвездин остановился, из-под широкого лба на Богдана уставились удивленные, зеленоватые, какие-то беспомощные детские глаза.
— Почему так?
— Он буржуй был, капиталист.
— Что ты говоришь? Какой он буржуй? Он был дворянин.
— Об этом я тебе и сказал. Крестьян целыми селами имел, они его кормили и поили. Нет никакой разницы, все они богачи. Мы их уничтожили, я, когда был партизаном, стрелял их, убивал. Они убили моего самого хорошего друга. А ты говоришь...
— Пушкин — это гордость русского народа, он великий поэт. Какие стихи он написал, слезы прошибают. Его крестьяне наизусть знали его стихи. Он был добрый, храбрый человек, он издевался над попами, дворянами, над самим царем. Он учился здесь, в этом селе, в Лицее. Теперь это место — священное для всего русского народа. И для советского народа тоже. Уважая Пушкина, народ переименовал это село в Детское, а раньше оно называлось Царским Селом. Вот как. Послушай, как красиво писал Пушкин...
Саша, не задумываясь, продекламировал:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...
Прочитав все стихотворение, Саша выжидательно примолк, а пораженный Богдан смотрел на него и тоже молчал. Богдан впервые слышал, как читают стихи, его поразила звучность и та непонятная складность, с какой были сложены обыкновенные слова. Смысла стихотворения он не уловил. Ему хотелось еще раз послушать напевность стиха, и он попросил вновь их прочитать.
Когда Саша вновь, одухотворенный удачей, прочитал, Богдан вдруг уловил смысл стихотворения и пришел в восторг. Он опять попросил прочитать, и Саша это с удовольствием сделал.
— Что, он на охоту ходил? — спросил Богдан.
— Не знаю, — сознался Севзвездин.
— Ходил, в пургу попадал! Если бы не попадал, не мог бы так написать. Только, я думаю, надо было ему сказать, что зверь в стены царапается, сильно царапается, вот тогда сильнее получилось бы. Да и так хорошо. Прочитай еще, а?
Саше ничего не оставалось делать, он с удовольствием прочитал бы другие стихи, но, увы, в запасе других не нашлось. Он помнил еще «К Чаадаеву» и потому начал рассказывать о декабристах, сделал особенно нажим на то, что они все были дворяне, но все же подняли руки против царя, и к месту прочитал пушкинское послание:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья...
Понял? На обломках самовластья, значит, на обломках царской власти напишут их имена. Вот как писал Пушкин! Вот почему народ его любит.
В этот воскресный день Саша с Богданом не занимались нанайским языком, позабыли о письменности для нанайцев, они говорили о памятниках Ленинграда, Детского Села, побывали в Екатерининском и Александровском дворцах. Саша оказался неважнецким гидом, многого он сам не знал, многое сам впервые видел, но его собеседник знал еще меньше.
С этого дня Саша Севзвездин сам тщательно готовился к следующей экскурсии, которую они вдвоем с Богданом совершали. На этих экскурсиях на все вещи Богдан теперь смотрел глазами Саши.
В 1927 году Северный рабфак в Детском Селе реорганизовали и перевели в Ленинград, в Восточный институт. В тридцатом году началась подготовка к открытию Института народов Севера. Богдан и его друзья уже знали, где стоит здание института, сходили на Обводный канал, обследовали. Целый корпус отводился под институт, здесь же были столовая, общежитие. Северянам понравился будущий их институт, они часто спорили, кто был его организатором.
Эти споры из-за авторитетов возникали довольно часто: каждая народность знала своего ученого, который «открыл» их. Для чукчи не было ученого и писателя авторитетней Тан-Богораза, гиляки гордились академиком Штернбергом. Если бы Богдан знал, что дед его Пиапон встречался со знаменитым этнографом в 90 году в Сакачи-Аляне, когда тот останавливался там, чтобы изучить знаменитые писаницы, то непременно поддерживал бы гиляков. Но, к сожалению, Богдан не знал об этой встрече, не читал трудов знаменитого этнографа о гольдах. Не читали и чукчи произведений Тан-Богораза, гиляки — Штернберга, они даже не знали, как высоко отозвался о труде академика Фридрих Энгельс..
— Чего вы кричите! — оборвал спор Михаил Гейкер. — Все ваши ученые, конешно, помогали, чего кричите? Конешно, они сказали. Но я думаю, конешно, тут был товарищ Смидович главным. Конешно, так...
«Ну и мудрец «Конешно», — усмехнулся Богдан; он прозвал Михаила «Конешно» за его пристрастие к этому слову. — Мудрят, мудрят, а нет, чтобы сказать — это дала нам советская власть. Живем, как богачи раньше жили, рыбу не ловим, на охоту не ходим, а все есть. Бесплатно кормят, одевают, обувают, заболел — лечат, каждое лето вывозят за город в дома отдыха. И все бесплатно. Еще и приплачивают деньгами на мелкие расходы — в кино, театры, на сладости — сладкоежкам. Буржуями мы стали. Советская власть слишком нежит нас. Я бы сделал так: зимой бы заставлял учиться, а как весна — на работу! И все. Без разговоров. То, что проел за зиму, — отработай».
Этими мыслями Богдан поделился при первой же встрече с Сашей Севзвездиным, который теперь учился в аспирантуре, писал диссертацию «Об особенностях нанайского языка».
— Нельзя этого делать, — сразу же возразил Саша. — Климат Ленинграда не подходит вам, северянам, можете заболеть туберкулезом. Поэтому и кормят вас хорошо, каждой народности стараются приготовить их любимые блюда. Но климат, Богдан, климат. Потому, после напряженного труда, вам летом требуется отдых.
— Нельзя так. Мы, как буржуи, даром все получаем.
— Нет, не даром. Приедешь на Амур, будешь эту дармовщину отрабатывать. Ясно?
— Когда это будет...
— Это тебе как в долг дают. Не возражай. У нас рабочий отработал свое на заводе, получает отпуск и едет отдыхать, набираться сил. Так же и вы. Ладно, хватит об этом спорить. Сообщу я тебе... — Саша улыбнулся своей мягкой завораживающей улыбкой. Правой ладонью осторожно, будто чего-то боясь, пригладил редкие светлые волосы. Руки его были мускулистые, ладони — в лопату. Богдан удивлялся, откуда такая сила у этого человека, никогда не занимавшегося физическим трудом, и только позже узнал, что Саша спортсмен, отменный волейболист.
— Говори, чего тянешь? — поторопил Богдан.
— С осени с вами буду работать, — усмехнулся Саша.
— Письменность?
— Конечно. Мы уже многое сделали. Очень многое, Богдан. Но как бы нас не обогнали чукчи, остяки, вогулы, нельзя от них отставать. Надо сделать так, чтобы у всех крупных народностей Севера одновременно появилась письменность. Вот мы все вместе в институте и будем над этим работать. Я думаю вместе с Сашей Оненка написать небольшую книжку об Амуре, чтобы люди после букваря могли прочитать.
— Сапси уже пишет.
— Знаю, молодец. Гейкер тоже пишет.
— Моло-Михаил?
— Да. Что удивляешься?
— О чем он может писать?
— Найдется о чем писать. Пойми, Богдан, появится у вас письменность, и все, что было в народе, выльется, и все будет отражено на бумаге. Это же здорово! Будут свои писатели. Ты знаешь Спиридонова? А Вылку? А Николая Тарабукина? Так вот все эти ребята потихоньку пишут. Вот будет письменность, и выпустят их первые книжки. Понимаешь, первые книжки у бесписьменных народностей!
Богдан понимал, он давно все понял, — не один год они, рабфаковцы-гольды, работают над этой письменностью. Сколько споров было! Гольдов на Амуре немного, тысяч шесть, и те говорят неодинаково: есть найхинский, горинский, болонский, сакачи-алянский говоры. А озерские нанай, что живут по Харпи, говорят на озерском. Есть еще уссурийский, сунгарийский говоры, но это уже за границей, в Китае.
Какой из этих говоров взять за основу? Найхинские ребята доказывают, что большинство говорят на их говоре. Болонские — обратное. Горинские, хотя их было совсем мало, стояли за свой говор. Сакачи-алянцы — их даже за нанай не принимали, называли акани, — настаивали, чтобы за основу нанайского языка приняли их говор. Долго спорили. Победили найхинцы, потому что горластых рабфаковцев из их мест оказалось большинство. Никто ни на кого не обижался, найхинский так найхинский; все понимали, какое большое дело делают. А первые книжки — это здорово! О чем же пишут, интересно, юкагир Спиридонов, самоед Вылка, тунгус Тарабукин? Наверно, вспоминают прошлое, рассказывают о сегодняшней жизни. А что сегодня происходит там, на Амуре? В Нярги, Хулусэне, Джуене, Хурэчэне? Письмо, интересно, дошло или нет? Первое письмо за пять лет написал. Плохо? Может, плохо. Но кто там мог прочитать? Хорхой? Лентяй он, все позабыл, ничего не помнит. Должны теперь школу открыть в Нярги, должен учитель появиться. А раньше не надо было писать? Оправдываюсь? Может быть.
— Тебе тоже надо писать, — продолжал Севзвездин. — Слышишь, Богдан, ты о чем задумался?
— Амур вспомнил, — ответил Богдан.
— Окончишь институт, вернешься. Я говорю, тебе тоже надо написать воспоминания, как партизанил, как воевал...
— Я никогда не писал. Не выйдет, Саша.
— Ты никогда не учился, а учишься. Я никогда не писал грамматику нанайского языка — пишу. Все мы делаем то, что никогда не делали. Советскую страну строим, какую никогда никто не строил. Мы мир обновляем, у нас все новое, ты это всегда помни. Вернешься на Амур, будешь делать все новое.
Богдан знал, что ему придется тоже заниматься обновлением жизни своего народа — не зря же он столько лет учится в городе Ленина! Придется. Только быстрее бы окончить обучение.
Попрощавшись с Севзвездиным, Богдан вышел прогуляться в парк, окружавший общежитие. Парк — это любимое место северян, место, где они вспоминают свой край, где мечтают о своем будущем. Детям просторной тундры и тайги всегда душно в стенах общежития, и они в свободное время стараются быть на воздухе. Деревья парка напоминают таежные деревья, да только стоят они редко и одно за другим, как солдаты в строю. Непривычно, но что поделаешь, прислонишься к дереву, закроешь глаза, пощупаешь шершавую кору, и нахлынут воспоминания. Тайга, охота. Даже запах тайги ощущаешь...
А вечерами соберут все листочки, щепу, сучки — все, что только может гореть на огне, и разожгут северяне костер, как бывало на охоте. Тут новые воспоминания. Но эти костры, хотя горели таким же пламенем, как в тайге, были не настоящие, как этот парк, как деревья, стоящие строем. Еще чего-то не хватало, но чего — долго не могли догадаться. И только позже поняли, что не хватает комаров, мошек.
— Без комаров скучно, — сказали северяне, но костры продолжали жечь каждый вечер.
Однажды ребята разожгли особенно большой костер. Тут прибежал милиционер, начал кричать, что пожар может случиться, и приказал потушить костер.
— Ты без ужина не ложишься спать, так и мы не можем без костра уснуть, — растолковывали ему ребята.
Но милиционер на то и милиционер, чтобы порядок был везде. А костер в парке Ленинграда — это уже не порядок.
— Потушить костер! — приказал милиционер.
Бывшие охотники даже не пошевелились, что им рык милиционера, когда им в лицо дышал медведь и ревел в полную медвежью глотку.
— Потушить! Пожар наделаете! Потушить!
Когда милиционер начал, не жалея сапог, ногами разбрасывать костер, его взяли со всех сторон крепкие руки.
— Ты что делаешь!? А? Зачем делаешь? Хочешь, чтобы наш институт сгорел, да? Пожар хочешь, да? Вот теперь пожар может быть, понял? Такие, как ты, тайга поджигают, понял? Глупый ты, зачем наган дали? Зачем власть дали?..
Все кричали. Никто не подбирал вежливых слов. Богдан тоже кричал со всеми вместе. Тут он опять услышал, как здорово матерится Сапси-Саша. Милиционер не ожидал такого, он совсем растерялся.
— Костер нельзя топтать, — объяснили ему уже успокоившиеся бывшие охотники. — Нельзя, понял? Это огонь. Понял? Огонь — жизнь. Жизнь нельзя топтать.
Богдан не знал, понял милиционер, почему нельзя топтать огонь, или нет, но блюститель порядка молча удалился и больше не появлялся в парке. Богдан-то хорошо понимал, что огонь — это жизнь, а жизнь — священна, ее не топчут. Эта истина известна каждому охотнику чуть ли не с люльки. Но это в тайге. Почему же он, рабфаковец, здесь, в центре города Ленина, вдруг исподволь встал на защиту огня? Именно исподволь, потому что когда кричал, он не думал, что защищает священность огня. Это пришло позже, при размышлении. Видно, в нем еще крепко сидят многие предрассудки, неписаные родовые и таежные законы, усвоенные в детстве на уроках дедушки Баосы.
— Богдан! Иди сюда, я тебя везде ищу.
Кричал Саша-Сапси. Богдан подошел.
— Пошли в общежитие, кто-то пришел, — сказал таинственно Сапси.
В комнате, где жил Богдан с земляками, ждал его Карл Лукс. Он крепко пожал руку Богдану, так крепко, что пальцы захрустели, будто в ладонях Лукса не пальцы были, а горсть речной гальки.
— Партизан, здравствуй!
— Здравствуйте!
Богдан посмотрел в улыбчивые глаза Карла Яновича, и ему на миг показалось, что это не глаза, это отблеск амурской воды. Совсем немного амурской воды.
— Вызван, — сказал Лукс, — буду в Институте народов Севера работать. Следовательно, с вами.
Потом он расспрашивал о житье-бытье ребят, сам рассказывал новости.
— В стойбищах организовываются колхозы, повсюду, по всему Амуру. Трудное дело. Набираются студенты в Институт народов Севера. Так что ждите земляков, может, друзья приедут.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Рубленый дом Пиапона, когда-то построенный Митрофаном Колычевым, становился тесным для семьи. Внуки Пиапона повзрослели, старший — Поро, сын Хэсиктэкэ, женился, привел молоденькую пятнадцатилетнюю девчонку. Младший внук, зайчонок Иван, внебрачный сын Миры, тоже вытянулся, совсем мужчина, хотя ему только четырнадцать лет. Охотником стал, убил двух лосей и медведя. И ему пора жениться. Но не об этом думает Пиапон.
Когда тесно дома, всегда можно какой-то выход найти, а вот когда мыслями переполнена голова и эти мысли толкутся, не находя выхода, совсем худо. Пиапон, когда был охотником, думал только о себе, о семье, беспокоился о родственниках; когда приходила беда в стойбище, всегда помогал соседям. Теперь ему приходится беспокоиться о няргинцах, о корейцах, о рабочих кирпичного завода, сидящих без дела, потому что кирпичи пока никому не нужны.
Пиапон понимает, нельзя допускать, чтобы эти рабочие разъехались. Но что делать, когда люди уже столько лет живут без заработка, питаются тем, что вырастят на огородах, тем, что соберут в тайге.
А кирпичи понадобятся. В райисполкоме Пиапону говорили, что объединившихся в колхоз охотников придется собрать в одно стойбище, иначе трудно работать. Они захотят построить деревянные дома, а в этих домах русские печи без кирпичей не сложишь. Ох, сколько кирпичей понадобится!
Пиапон прикидывал, где удобнее поселиться будущим колхозникам — скорее всего в Нярги, в Болони, в Джуене. Три больших стойбища. Сколько домов, сколько печек потребуется. Нет, нельзя допустить, чтобы разъехались кирпичные мастера.
Пиапон съездил в Малмыж, поговорил с Митрофаном, с Воротиным, но те ничего вразумительного не смогли посоветовать. Вот и мучается Пиапон, какой же найти ему выход. Объединить всех в колхоз? Тогда вместе надо жить, мастерам надо переезжать в Нярги. А кирпичи, а завод? Кроме кирпичей мастера до войны изготовляли пиломатериалы. Доски тоже всегда нужны, скоро на них тоже будет большой спрос.
Пиапон съездил на кирпичный завод, поговорил с рабочими.
— Ишь ты, гольд теперь нашу судьбу решает, — усмехнулся один рабочий.
— А тебе че? О тебе человек думает, а там кто он будь, кореец, гольд, русский, тебе-то че, — возразил другой.
И опять закрутились вихрем мысли у Пиапона. На самом деле он, нанай, беспокоится теперь о русских, о корейцах и о своих сородичах, потому что он председатель сельсовета. Не важно, кто председатель сельсовета: нанай, русский или кореец — главное тут, чтобы он все дела решал справедливо, чтобы он беспокоился о каждом человеке, никому не отдавая предпочтения, потому что советская власть — она общая власть, ее Ленин принес, чтобы всем народам хорошо жилось.
С кирпичного завода Пиапон заехал к корейцам. Первый поселенец Ким Хен То встретил председателя как всегда радушно. Посидели, поговорили. Особых дел у корейцев не было, Пиапон заехал просто узнать о новоселах, есть ли какие жалобы, посоветоваться с ними об учебе детей. Корейцы с утра до ночи копались в огородах, выращивали все овощи, даже дыни и арбузы. Жили они доходами от своих огородов и считали себя вполне обеспеченными.
— Школа у нас открывается, — сообщил Пиапон, — вашим детям тоже надо бы учиться.
— Наши язык нанайска понимай нет, — сказал Ким Хен То, — ребенок русски понимай нет, как учитса?
Верно, как учиться, когда маленький кореец не знает ни русского, ни нанайского языка? Беда. Учительница Лена Дяксул хорошо говорит по-нанайски, хотя и ульчанка, будет обучать няргинских по-нанайски, так думает Пиапон. А что делать с корейцами? Вот и ищи выход, председатель сельсовета! Голова разбухает от дум.
Когда Пиапон вернулся домой, его ожидали какие-то незнакомые люди. Поздоровались.
— Мы строители, — отрекомендовались они. — Напротив вас, на том берегу, рыбную базу строить будем. Приехали с вами посоветоваться. Без вашей помощи не обойтись нам.
— Рыбная база будет обрабатывать всю рыбу, которую будут ловить колхозники, — объяснил второй.
— Это хорошо, — обрадовался Пиапон, — колхоза нет, а базу уже начиняют строить. Хорошо. Чем помочь?
— Лес потребуется. Много надо строить: склады, жилые дома, пекарню, баню. Лес нам подвезут, но мало, не хватит его.
— Лес зимой готовить надо, сейчас лето.
— Мы об этом и хотим поговорить.
«Хорошо, — удовлетворенно подумал Пиапон, — люди кирпичного завода будут заняты, не разъедутся. Наши няргинские привычны готовить лес, тоже подзаработают».
— Сколько лет будете строить? — спросил он.
— Пока будем строить склады, холодильню, бараки, а потом рабочие сами станут дома ставить. Мы ведь целый поселок строим.
«Еще на мою голову», — подумал Пиапон. Словно прочитав его мысли, один из строителей сказал:
— У вас маленькая рыббаза будет. Вот в Болони большая будет база. На Амуре таких баз будет три-четыре. Обновляем мы ваш Амур.
— Лес будет, доски тоже будут. Уже пилят, — сказал Пиапон.
— Это хорошо. Надо договор составить. Чтобы было в полном согласии: ваша рабочая сила, лес, а мы платим за все.
— Будет лес, доски тоже, зачем бумага?
— Надо, так вернее.
Опять проклятая бумага! Как же Пиапон будет ее составлять, когда у него нет грамотного секретаря? Хоть бы учительница быстрее вернулась. Но как-то надо выходить из этого неловкого положения.
— Колхоза еще нет, когда колхоз будет, тогда бумагу напишете.
— Нет, мы с вами, с сельским Советом. Вы даете слово, что обеспечите рабочей силой лесозаготовки, что лес дадите. Это чисто формальная бумажка...
Пиапон не понял, что означает слово «формальная», но тон говорившего прозвучал как-то мягко, и он догадался, что бумажка эта не имеет большого веса, что строители обошлись бы и без нее, но она для чего-то им все же необходима.
Строители вытащили свою бумагу, медленно прочитали текст, и Пиапону пришлось расписаться — хорошо, что он без шпаргалки Хорхоя обходился уже. Он написал «Пеяпом» и шлепнул печатью.
— Еще одну бумажку подписал, — сказал он удовлетворенно, когда ушли строители. — Сколько еще подписывать придется? Хорхой, какую букву мне надо теперь учить?
Хорхой не помнил всей азбуки, потому предлагал Пиапону выучить и запомнить первую наугад попавшуюся букву. Старательный Пиапон запомнил больше десяти букв и по-детски радовался, когда удавалось ему составить какое-нибудь слово. Учеба продвигалась медленно, потому что Пиапон не очень-то доверял своему племяннику, все ждал возвращения Лены Дяксул.
Пиапон медленно перевел на свой лист бумаги выведенную Хорхоем букву «л», долго разглядывал ее, запоминая, потом несколько раз написал для тренировки.
— Буква лэ, буква лэ, — повторял он, — какое слово может с нее начинаться? — Вдруг он выпрямился, поднял голову и удивленно-восторженными глазами посмотрел на Хорхоя. — Хорхой, это же Ленин. Слышишь, первая буква так и слышится — Ленин. Хорхой, может, я ошибаюсь, а? Ты напиши здесь, а?
— Правильно, дед, первая буква лэ.
— Ты не говори, ты напиши.
Хорхой старательно прописными буквами вывел: «Ленин». Пиапон разглядывал каждую букву, хотя уже был знаком с четырьмя остальными буквами.
— Хорошо, хорошо, Хорхой, ты меня, оказывается, научил самым главным буквам, — сказал он растроганно. — Его имя можно писать только главными, самыми важными буквами. Теперь мы быстрее будем учиться, потому что все главные буквы уже знаем.
— Дед, еще много букв, штук двадцать или больше.
— Это ничего, мы знаем главные, вот что важно.
Но по-серьезному учиться Пиапону не пришлось, на следующий день приехал Ултумбу с райисполкомовским работником организовывать колхоз. Первое учредительное собрание провели около строившегося дома Холгитона.
Ултумбу говорил, как всегда, немногословно, перечислил, что требуется отдать в общее колхозное хозяйство, а чего не надо. Потом объяснил, для чего организовывается колхоз.
— Колхоз — это единая сила, одна сильная рука, — сказал он. — Вот вы строите этот дом. Если бы строил его один Холгитон, он его за три года не закончил бы. А вы пришли к нему на помощь, вас много, вы дружно работаете, и дело быстро продвигается. Так будет и в колхозе...
— А мы без колхоза строим дом, ничего, поднимается, — крикнул кто-то.
— Ты обожди немного, выслушай до конца. Дом этот требует немало денег, надо купить то, другое, третье. Верно? Где взять деньги? Когда будет колхоз, в колхозе будут деньги отложены для таких вот нужд: кому дом построить, кому лодку, кому, может, что другое потребуется купить. Колхоз будет вам помогать. Это будет большое общее хозяйство, вы будете жить одной большой семьей.
— Как раньше жили в большом доме? — спросил Полокто.
— Если хочешь так, пусть будет так, — засмеялся Ултумбу. — Советский большой дом, и законы советские. Председателем не обязательно выбирать старейшего уважаемого человека, по уму надо выбирать, чтобы умел хорошо колхозное хозяйство вести. Грамотный человек потребуется.
— Где такого найдешь?
— Учиться надо посылать молодых, способных.
— Везде грамотные да грамотные, что нам, неграмотным, делать? Куда деваться?
— Все будем учиться, иначе мы новую жизнь не построим. Колхоз — это новая жизнь. Там потребуется много грамотных людей: бухгалтер, счетовод, бригадир. Вот я привел пример с этим домом. Вы строите все вместе, помогаете Холгитону. Сказал я об этом, чтобы напомнить вам о дружной семье, дружной работе. Но колхоз — это не только дружная семья, это сильная, богатая семья. Возьмем опять Холгитона. Построил он дом, а надо купить еще невод. Где он возьмет деньги? А будет в колхозе, будет у него колхозный невод, это одно и то же, что его невод. Еще. Большой невод потребует больших неводников, хорошие уловы потребуют больших лодок для перевозки рыбы. Надо покупать катера, моторы, чтобы их буксировать. А как один купишь? Никак. Только вместе, колхозом, купите.
— Интересно рассказываешь, — сказал Калпе. — А кто будет этими катерами править, с мотором работать?
— Всякий сможет. Ты, например, сможешь.
— Так и смогу? Сел и поеду?
— Зачем? Ты поедешь на курсы, подучишься и будешь еще как водить эти катера! Потом пересядешь на трактор и начнешь пни корчевать, землю пахать.
— Что такое трактор?
— Трактор — это машина, по земле ползает, такая сильная, что перетянет сто лошадей, впряженных в одну упряжку.
Молодые рыбаки беспокойно заерзали, незаметно потирая вспотевшие ладони. Многие из них видели катера, моторы, ездили на пароходах и со страхом и изумлением смотрели на сверкавшие сталью двигатели в брюхе парохода. Теперь им рисовались картины, как они лихо водят катера по Амуру, по кривым протокам, по голубым озерам. Дух захватывало!
Калпе тоже вспомнил свою первую поездку в Хабаровск на поиск Пиапона, которого тяжело ранили хунхузы. Как он завидовал умельцам, которые заставляют работать пароход! Слова Ултумбу его задели. Что же, если пошлют его на курсы, где можно научиться управлять машинами, то он готов поехать.
— Когда появится колхоз, — продолжал Ултумбу, — вы будете заниматься земледелием. Знаю я, сам нанай, как вы не хотите копаться в земле. Непривычное это дело, но что поделаешь, надо научиться выращивать картофель, овощи. На одной рыбной ловле, охоте вы не проживете, хозяйство не поднимете, это мы знаем, опыт других, давно организованных коммун подсказывает нам. Посмотрите на русских, на корейцев, многие не охотятся, рыбу не ловят, живут только земледелием. Сыты, одеты, все в достатке. А мы чем хуже, почему бы к доходам от рыбалки и охоты не добавить доходы от земледелия...
— Земли нет, кругом тайга.
— Русские и корейцы тайгу раскорчевали, мы тоже это сделаем.
— Не умеем мы землю копать.
— Научимся.
— Тебе легко так говорить, — сказал Холгитон, — поговоришь, поговоришь и уедешь. Землю-то рыть мы будем. Это тяжелое, неприятное дело. Это мы лик земли будем изменять, разрушать...
— Изменять будем, это верно. Будем изменять, и ничего в этом нет плохого. Кроме этого, будем держать коров, лошадей. Это все доходы, деньги для хозяйства. Вы все видели пароходы ночью, какие яркие огни горят у них. Это электрические лампочки. Человек поймал молнию и заставил ее работать. Она зажигает лампочки, двигает машины. Когда колхоз будет богатым, сильным, вы зажжете в своих домах электрические лампочки. В домах ваших из черных тарелок заговорит человек, люди запоют, музыка заиграет. Это радио придет в ваши дома.
— Такие сказки даже отец Нипо не придумывал, — сказал Полокто, — интересная сказка. Рассказывай дальше.
— Сказка, говоришь? Ты видел воплощенную в жизнь сказку? Не встречал?
— Сказка для того, чтобы людей тешить...
— Как так? А города с каменными домами? — сказал Хорхой.
— А пароходы? — поддержал его Кирка.
— Про самолеты вы слышали? — спросил Ултумбу. — Человек поднялся в воздух на самолете, летает выше орлов, дальше уток и гусей. Из самого главного города Москвы в Хабаровск летают. В прошлом году из Москвы в Америку слетали. Вот как, Полокто, а ты говоришь, сказка не может воплотиться в жизнь.
— А как летает, крыльями машет? — спросил Кирка.
— Не знаю, я сам не видел.
— Чего тогда врешь? — рассердился Полокто.
— Я не вру. Об этом писали все газеты, говорили по радио. Все грамотные люди в нашей стране следили за этим полетом. Если бы ты, Полокто, был грамотным и читал газеты, то ты тоже знал бы об этом. Мы теперь похожи на птенца, который раскрыл глаза и увидел впервые белый свет. Раньше мы видели только то, что лежит рядом, а что дальше, за той сопкой, за той речкой — не знали и не видели. Теперь мы можем через газеты и радио знать все, что делается во всем мире. Советская власть нам открыла глаза на весь мир!
— Мы тебе верим, Ултумбу, — сказал Холгитон, — ты первый грамотный нанай, все знаешь, все понимаешь. Ты верно говоришь, сказки могут былью сделаться. Все верно. Лампы от молнии я видел, ярко горят, а вот говорящих тарелок не видел, дома есть всякие тарелки, но они все молчат. Ладно, пусть молчат, не о них разговор. Разговор о колхозе. Что в общее хозяйство надо отдавать из своего? Это скажи.
— Прежде всего все то, что требуется в хозяйстве для работы. Лошади, сетки, невода, неводники.
— Собаки первые помощники, их отдавать?
Ултумбу посовещался вполголоса с русским товарищем и сказал, что собак, пожалуй, не стоит обобществлять.
— Одну-две сетки себе можно оставить, чтобы на талу, на уху ловить себе?
— Нельзя, потому что вместо одной сетки пять оставит кто-нибудь, драные, изодранные сдаст, а хорошие оставит. Лучше все отдавать.
— Если я в колхоз отдам всех собак, даже щенков, а лошадей оставлю? — спросил Полокто.
— Лучше ты лошадей отдай, а собак оставь себе, — усмехнулся Ултумбу. — Все, что надо отдать в колхоз, надо отдать. Все по-честному должно быть.
— Скажи, Ултумбу, ты знаешь, я человек верующий, — проговорил Холгитон. — Как верующий скажу тебе. На охоте, рыбной ловле нам сильно помогают некоторые наши бурханы. У одних есть сильные, у других слабые, у одних счастливые, у других несчастливые. Я думаю, неплохо бы объединить всех этих бурханов, они сильно помогут колхозу, мы много будем рыбы ловить, много пушнины добывать. Надо обязательно заксоровский жбан счастья, что находится в Хулусэне, в колхоз перенести, колхозным, общим сделать.
— Не выйдет! — выкрикнул Полокто. — Жбан счастья — священный жбан, он только наш, заксоровский!
— Когда колхоз будет, когда все общее будет, жбан тоже должен быть общим.
— Не будет!
— Тогда что, выходит, ты, Полокто, собираешься колхоз организовать из одних Заксоров и жбан священный себе оставить? А мы, люди других родов, в ваш заксоровский колхоз не можем войти?
Русский товарищ по напряженным лицам понял, что разгорается какой-то скандал, и дернул Ултумбу.
— Религиозный спор, — сказал Ултумбу. — Черт знает что! Все хорошо было, так этот жбан проклятый вмешался.
— Мы сами отказываемся вступать в ваш колхоз! — заявили несколько человек из семей Бельды, Киле и люди других родов.
— Слушайте, друзья! — крикнул Ултумбу. — Советская власть отделила церковь, она против церкви, против шаманов. Скоро придется расстаться с бубнами. Колхоз не объединяет бурханов и жбан счастья тоже. В колхоз входят все: и Заксоры, и Бельды, и Киле, и Ходжеры, и все, все, кто желает.
— А кто не желает?
— Кто не желает, тот может не войти.
Ултумбу, этот прирожденный агитатор, в горячке даже не заметил, какую допустил оплошность. Когда он начал записывать желающих вступить в колхоз, записалось только пять человек, пять семей, пять домов. Ултумбу стал спрашивать каждого, кто передумал войти в колхоз, в чем дело? И каждый ответил, что подождет, посмотрит, как пойдут дела в колхозе.
— Выходит так, кто-то должен организовать колхоз, укрепить хозяйство, а вы потом придете на готовенькое? — жестко спросил Ултумбу.
Никто ничего не ответил. На этом закончилось первое организационное собрание.
— Погорячились, Ултумбу, так я понял, — сказал русский товарищ, — по лицам было заметно.
— Да, надо было не так сказать, — ответил Ултумбу. — Это же сказать, но не так. Совсем не так. Пиапон, почему вдруг отказались вступить Холгитон, Полокто, не знаешь?
— Не знаю, — сознался Пиапон. — Брат мой, видимо, не хочет лошадей в колхоз отдавать. Это понятно. Да и живет он хорошо, у него теперь большой дом, три жены, двое сыновей, и внуков полный дом. У него свой колхоз. Но почему Холгитон не вступает — этого я не понимаю. Он раньше сильно верил в эндури, потом из Маньчжурии привез мио и молился им, роздал всем ияргинцам, учил их молиться.
— Буддизм, что ли, привез? — спросил русский.
— Не знаю, новую молитву привез, мио привез. Теперь старик мало молится, больше по хозяйству хлопочет, дом строит. Он тоже большим домом жить хочет, может, потому и в колхоз не идет. Надо с ним поговорить. Я поговорю, узнаю. Если он пойдет в колхоз, многие за ним пойдут.
После отъезда Ултумбу и русского товарища Пиапон встретился с Холгитоном. Старик прятал глаза, чувствовал неловкость. Пиапон прямо спросил:
— Почему не записываешься в колхоз? Тебя белые пороли при женщинах и детях, ты был всегда против богатых и жадных торговцев, ты был за новую жизнь. А теперь, когда приходит новая жизнь, ты прячешься за спины других. Почему? Ты честно только скажи.
— Скажу, Пиапон, все скажу, — торопливо ответил Холгитон, не глядя на председателя сельсовета. — Новая жизнь — хорошая жизнь, теперь это все знают. Наверно, еще лучше будет, поживем — увидим.
— Ждать будешь?
— Зачем? Ждать не буду. В колхоз я пошел бы, да знаешь... — Холгитон замялся, достал из кармана халата трубку, стал закуривать. — Почему вы, Заксоры, не хотите жбан счастья в колхоз отдать?
— Тебе сказали, незачем колхозу священный жбан.
— Врешь, Пиапон, священный жбан нужен. Когда ты уходил на войну, молился?
— Да, молился.
— Вот видишь, тогда нужен был, теперь не нужен. Нет, священный жбан всегда нужен. Тогда вы молились и жбан помог, вы одолели белых и японцев, советскую власть привезли. Теперь, думаешь, жбан уже не поможет советской власти? Поможет.
«Кто его знает? Может, на самом деле поможет», — подумал Пиапон.
— В колхозе тоже, чтобы богатым он стал, надо удачно рыбачить, охотиться, — продолжал старик. — Удачу принесет священный жбан. Если бы вы отдали жбан в колхоз, я бы сразу записался. Чего мне жалеть одну лошадь, для нее сено косить надо, дом отдельный строить да кормить, поить. Много хлопот, пусть колхоз забирает. Мне нечего жалеть.
— Хорошо, пусть по-твоему будет, — сказал Пиапон. — Жбан я привезу, отдам в колхоз. Ты тогда вступишь в колхоз?
— Вступлю, Пиапон, обязательно вступлю. Я не был удачливым, пусть хоть дети в колхозе будут удачливыми.
— Других тоже уговоришь идти в колхоз?
— Уговорю, зачем им в стороне оставаться? Вместе будем работать, вместе веселее.
Пиапон долго раздумывал над словами Холгитона. Священный жбан всегда был предметом зависти других родов, по всему Амуру с давних времен славится он, к нему приезжают помолиться, попросить счастья за сотни верст. Пиапон помнит, как разгневался отец, когда узнал, что Заксоры начали брать за моление деньги. Он в шторм заставил сыновей отвезти опоганенный, как заявил Баоса, жбан в Хулусэн. Теперь этот жбан опять встал на пути Пиапона.
— Привезу жбан, сдам в колхоз, — еще раз повторил для убедительности Пиапон.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
По пути в Хулусэн Пиапон заехал к Митрофану Колычеву в Малмыж. Друзья теперь встречались очень редко, оба были слишком заняты и не могли, как раньше, ездить в гости. Митрофан в Малмыже возглавлял сельский Совет. Встретил его Пиапон усталого и расстроенного.
— Колхоз тоже организовываем, — махнул рукой Митрофан. — Никто не идет. Откатываются. Слышал, у тебя тоже плохи дела.
Пиапон объяснил, как у него обстоят дела, и рассказал, зачем едет в Хулусэн.
— Тьфу, язви его! Вон в чем дело, — усмехнулся Митрофан. — Тоже беда. А здесь кулак на кулаке, потому не хотят в колхоз записываться.
Надежда, жена Митрофана, как всегда потчевала Пиапона, но не было в ее движениях прежней спорости и веселья. Дом Митрофана опустел, дочери вышли замуж, сыновья женились, построили отдельные избы, а старший Иван не вернулся с войны, говорят, погиб при штурме Волочаевки.
«Все мы постарели, — думал Пиапон. — Как-никак, всем нам далеко за пятьдесят лет».
— Интересная жизнь наступает, а у нас невесело, не ладится все, — сказал Митрофан. — Но ничего, что-нибудь придумаем. А ты тоже не очень с ними цацкайся. Ждали, ждали новую жизнь и нате вам из-за какого-то жбана вонючего в колхоз не идут. Да разбей к черту этот жбан.
— Так нельзя, Митропан, — ответил Пиапон. — Так совсем мы людей отпугнем. Жбан люди считают священным, нельзя разбивать.
— Боишься?
— Немного боюсь, немного понимаю, что случится, если разобьем жбан.
— Может, ты прав, Пиапон, кто знает. С умными людьми прежде надо советоваться. Насильничать, может, и не надо. А почему не надо? Вон сыновья Феофана все богатые, Феофан ведь торговлишкой баловался, твоего брата Полокто вокруг пальца обводил не раз. Обманывал он, насильничал. Вот и выходит, нам тоже надо силком отобрать все лишнее у них и в колхоз записать. Только так! Судить их надо, как судили Максима Прокопенко, посадить в тюрьму. Только так!
Чем больше развивал свою мысль Митрофан, тем больше распалялся сам, и Пиапон видел перед собой прежнего горячего, молодого друга.
«Кровь еще горячая, желчный пузырь не оскудел», — думал Пиапон, глядя на друга. Знай он русскую пословицу, воскликнул бы: «Есть еще порох в пороховнице!»
— Ты слышал, Пиапон, что делает Американ? Всех людей своего рода не пускает в колхоз. Он силу имеет, должников у него много. Его надо судить, гада ползучего! Против колхозов, против советской власти посмел хайло свое раскрыть. Под ноготь таких — и все!
«Может, на самом деле их под ноготь, — думал Пиапон, переплывая Амур. — Если они выступают против советской власти, зачем с ними возиться? Они против нас, мы против них. Одного, второго прижать, тогда другие испугаются и пойдут в колхоз. А может, разбегутся на дальние озера, реки, в глухую тайгу? Чего им стоит уехать из стойбища? Ничего не стоит. Ничто их в стойбище не держит. Другое дело русские в Малмыже, у них добротные дома, огороды большие, лошади, коровы, свиньи, гуси и куры — попробуй уехать. А охотникам ничего не стоит бросить фанзу: все его хозяйство, дети, собаки уместятся в лодку да в оморочку. Потом бегай по тайге, ищи их, это все равно, что вошь искать в густых волосах. Нет, Митропан, с охотниками нельзя силком, уговаривать, доказывать требуется...»
Подъезжал Пиапон к Хулусэну вечером. На берегу стояли два незнакомых неводника, значит, приехали две семьи помолиться священному жбану.
«Если разобьешь этот жбан, всех охотников против советской власти восстановишь», — подумал Пиапон.
Главным хозяином жбана счастья после смерти отца Турулэна стал Яода. Семьи Турулэна и Баосы были в самых близких родственных отношениях, потому они имели равные права на священный жбан. После смерти стариков Пиапон не раз встречался с Яодой, уговаривал, чтобы за молитву не взымал денег, угрожал, что заберет себе родовую святыню и сам станет главным хозяином. При этом он знал, что никогда не возьмет в свой дом эту святыню, потому что не хотел нашествия больных и убогих калек в стойбище Нярги, не хогел вечных молитв, жертвоприношений, камланий и связанного с этим пьянства. Он просто угрожал, зная наперед, что Яода испугается и не будет брать денег с молящихся, обойдется, как было в древности, выпивкой и мясом свиней, которых приносят в жертву.
В просторной фанзе Яоды молились и выпивали.
— Брат, приехал! — встретил у дверей Пиапона Яода. — Иди сюда на почетное место, посиди рядом, как сидели наши отцы.
— И ругаться будем, как они, — невесело пошутил Пиапон.
— Зачем? Ты всегда так, — обиделся Яода. — Зачем с этого начинаешь? Выпей.
Перед Пиапоном на низком столике поставили в плетенке горячие куски свинины, крошечную чашку водки. Проголодавшийся гость вытащил свой нож и с удовольствием стал есть. Радушный хозяин подливал водки, приезжие кланялись Пиапону — как-никак он тоже равноправный хозяин священного жбана, — просили посодействовать, вылечить желудок у больного охотника. Пиапон быстро опьянел и вскоре понял, что никакого путного разговора у него с Яодой сегодня не получится. Когда стемнело, он навестил дядю, великого шамана Богдано, единственного шамана на Амуре, который мог сопровождать души умерших в потусторонний мир.
Старик Богдано камлал, исполнял шаманский танец. Он был в повседневном летнем халате, в шаманское одеяние он облачался только во время касана — отправления души усопшего в буни. Тогда он надевал и шапку с бычьими рогами.
Богдано танцевал легко и будто радовался в танце, но чему он радовался, Пиапон не мог понять. Великий шаман всегда исполнял свой танец лучше других шаманов. С малых лет помнит Пиапон своего великого дядю, помнит его таким же старым и в то же время молодым во время исполнения шаманского танца. Как удается этому древнему старцу так преображаться — никто не знал. Но Богдан на самом деле танцевал как молодой. Сколько ему лет? — гадали охотники, и никто не мог сказать, сколько лет прожил этот старик на земле.
— Великий шаман, — восхищенно говорили в таких случаях, и это означало многое, а главное — признание его шаманской силы.
Богдано в молодости часто изумлял охотников разными непонятными для простых смертных выходками. Пиапон только слышал об этом, но сам он редко бывал на камланиях великого шамана.
Шаман закончил танец, взобрался на нары, сел, поджав под себя ноги. Ему подали трубку. Пиапон подошел к нему, поздоровался.
— А, сэлэм Совет приехал, — сказал старый Богдано. — Ты решил священный жбан отдать в колхоз?
Ошарашенный Пиапон не находил ответа, из головы его моментально улетучился хмель.
— Откуда знаешь? — спросил он хрипло.
— Мы все знаем, земля полна всякими новостями.
— Знаю, у нас все слухи разносятся из стойбища в стойбище быстрее, чем у русских по железным ниткам.
— Может, и так.
— Ты скажи, священный жбан помог красным победить в войне белых?
— Ты молился, ты должен знать.
— Мы все молились, каждое лето приезжают молиться десятки семей, но никто не знает, помог им жбан или нет. Ты только это можешь знать.
— Я понял тебя, ты сомневаешься в силе жбана.
— Ничего я не понимаю в этом деле, потому так говорю.
— Врешь, Пиапон, ты все понимаешь, ты больше всех и лучше всех понимаешь, потому засомневался. Ты думаешь, кто-нибудь другой сомневается? Нет, не сомневается, все верят, потому приезжают издалека, потому отдают последнее. Ты умный, Пиапон, ты много и долго раздумываешь над всякими вещами, о которых другой никогда в жизни не задумывается. Не хитри, говори прямо.
— Если жбан помог красным победить белых, то пусть еще раз поможет красным — советским.
— Что надо?
— В колхоз людей объединить и всем уделить счастья и здоровья.
— Всем?
— Да, всем.
— И людям других родов?
— И людям других родов, потому что все будут жить и работать в одном колхозе, а это одно и то же, что жить и работать в одной семье, в одном большом доме.
— Люди разных родов никогда не смогут жить одной семьей, всегда люди маленького рода будут завидовать людям большого рода.
— А я знаю, как люди больших родов завидуют охотнику маленького-премаленького рода.
— Кто же этот человек?
— Токто, названый брат Поты.
Шаман обернулся к Пиапону и долго смотрел на него ясными, совсем не стариковскими глазами.
— Ты правда веришь в колхоз? — спросил он после долгой паузы.
— Я поверил советской власти, потому верю и в колхоз.
— А я сомневаюсь.
— Тогда, выходит, ты сомневаешься и в советской власти.
— Да, сомневаюсь.
— Потому что тебе все равно — советская власть или прежняя власть белых, тебе и тогда неплохо было и теперь не стало хуже.
Шаман опять замолчал. Пиапон тоже закурил поданную трубку и тоже молчал, ждал, что скажет в ответ старый Богдано Надерзил, конечно, он старику, но что поделаешь? Он должен защищать то, во что верит всем сердцем.
— С малых лет ты такой, — задумчиво проговорил старик, — прямой человек, и потому я не могу на тебя сердиться. Да и никто бы другой не сказал мне в глаза то, что ты сказал сейчас. А ты можешь, честность твоя позволяет. Ты ведь глубоко обидел меня, ты сказал, что я прожил свою долгую жизнь не тем трудом, каким живут все сородичи, прожил без голода, без болезней. Так все, да не гак. Шаманы нужны людям, они их помощники. Есть хорошие шаманы, есть просто обманщики. Ты это знаешь. Я честно трудился, Пиапон, мой труд был нужен людям.
— Знаю.
— Не знаешь. Все люди кроме обыкновенных болезней болеют еще внутренней, душевной болезнью — когда они не могут верить во что-нибудь. Это плохая болезнь. Я внушал людям веру в то, во что им хотелось верить.
— Даже в обман?
— Я честный человек, но если кто-то хочет верить в видимый тобой обман, а сам этого не замечает, — пусть верит. Шаманы нужны были, как теперь требуются такие, как ты, сэлэм Советы. Я не знаю, что ты делаешь, в чем твоя сила, и ты не знаешь ничего про меня.
— Моя сила в советской власти, это все знают.
— Во власти... зачем этой власти собирать людей в большие стойбища? Людей будет много, места для рыбной ловли рядом со стойбищем не хватит, надо опять разъезжаться в разные стороны. Это понимают власти?
— Понимают, — ответил Пиапон.
— Когда люди одной семьи в большом доме, каждый беспокоится о сетках, неводах, и подсушит лучше и зашьет дыру. А когда соберутся люди разных родов, каждый будет надеяться на другого и делать все в полсилы. Это понимаешь?
— Догадываюсь. Но в большинстве люди честны.
— На все у тебя готов ответ. А все же я не верю в колхоз, не каждый согласится отдать лошадь, невод, хорошую охотчичью собаку. Меня тоже заставят идти в колхоз?
— Не знаю. В колхоз записывают только желающих.
— Если мне идти в один колхоз, а в другой позовут покамлать, как мне быть? Я, наверно, должен буду камлать только своим колхозникам. Так?
— Не знаю. Наверно, ты должен трудиться только на свой колхоз.
— Но я один лишь могу отправить душу в буни, мне нельзя только в одном стойбище справлять касан, обидятся люди других стойбищ. Потому мне нельзя в колхоз.
Пиапон не мог сказать, потребуется колхозу шаман или нет, потому промолчал. Он знал, что вслед за учительницей в стойбище приедет доктор, который будет лечить людей и возьмет на себя половину шаманских дел. А шаман, видимо, будет просить счастья, удачи на рыбной ловле и охоте колхозникам. Без него тоже не обойтись — такие речи говорились на туземном съезде в Хабаровске.
— Ты один останешься здесь, когда все будут разъезжаться? — спросил Пиапон. — Колхозы будут в Нярги, Болони, Туссере, Джуене. Туда будут переезжать люди.
— Старый я, одному как жить? Придется за людьми в хвосте ползком ползти.
— Переезжай к нам, в Нярги почти все Заксоры.
— Подумаю еще, не сегодня же люди начнут переезжать. А жбан возьми на время, за колхозную удачу, за счастье помолитесь, потом возвращай обратно.
— Зачем возвращать, когда все Заксоры в Нярги?
— Возвращай. Пока его место здесь, в Хулусэне. Если не вернешь, в колхоз никто не пойдет, запомни. Я сделаю это, ты знаешь мое слово.
Да, Пиапон давно знал силу слова великого шамана, стоит ему сказать людям — не вступайте в колхоз, никто не осмелится ослушаться, и будет Пиапону только лишняя морока.
— Привезу, — пообещал он.
На следующий день он вернулся в Нярги, а вечером все жители стойбища молились жбану, просили счастья и удачи будущему колхозу. Пиапон не стал во время молитвы уговаривать охотников записываться в колхоз, но когда молодежь отвезла святыню в Хулусэн, он пришел на стройку к Холгитону.
— Так всегда будет? — спросил его Холгитон.
— Что? — не понял Пиапон.
— Священный жбан будем привозить и отвозить?
— А зачем нам его держать?
— Лучше бы здесь держать. Ты же знаешь, как я верю в эндури, в мио, в ваш жбан. Теперь мно у меня не стало, было бы хорошо, если бы жбан был рядом...
— Ты что, передумал идти в колхоз?
— Жбан колхозный или нет? Если колхозный, то пусть останется у нас.
Пиапон сплюнул под ноги на горячий песок и со злостью растер ногой.
— Не злись, я передумал, не пойду в колхоз, — примирительно проговорил Холгитон.
— На старости лет ты стал хуже болтливой женщины! Слово свое не держишь.
— У меня свой колхоз, зачем мне идти в общий? Сердись не сердись, не пойду.
— Хорошо, не иди! Без тебя обойдемся. Но отсюда тебе придется уходить.
— Почему? Куда уходить? — в глазах старика заметалась тревога.
— Потому, что это колхозная земля, здесь будут жить только колхозники.
— А кто не в колхозе, тем на небо переселиться?
— Куда хотите! В колхозных реках, озерах не будете ловить рыбу. В колхозной тайге не будете охотиться.
Пиапон все это придумал сию минуту и был доволен выдумкой, он видел, как встревожились охотники, обступившие его.
— Все! Думайте, пока не поздно!
Он резко поднялся и пошел в сельсовет.
— Обожди! Отец Миры, обожди, растолкуй! — закричали ему вслед, но он даже не обернулся. Только успел он сесть за председательским столом, как ворвались в контору строители. Все были возбуждены, это Пиапон видел по глазам.
— Сказал я, думайте! — бросил он резко.
— Ты разъясни, отец Миры, — попросил Холгитон.
— Чего разъяснять? Сам не можешь догадаться? В Болони колхоз будет, в Джуене, в Туссере, в Малмыже, и каждый будет ловить возле дома. Значит, реки, озера, тайга будут поделены между колхозами. Чего тут непонятного? Кто не в колхозе — не разрешим на своих участках рыбачить и охотиться!
— Что, так советская власть говорит?
— Советская власть тебя уговаривает как человека вступить в колхоз! Тянет тебя за косу в колхоз...
Охотники замолчали; никогда еще не видали они таким сердитым Пиапона. Значит, это не пустяковое дело — колхоз. Но как отдать лошадь, о которой столько мечтал, которую купил за счет многих лишений. В колхозе она будет считаться твоей, но ее будут запрягать чужие, будут хлестать, вовремя не напоят, досыта не накормят. Как отдать? Отдать дочь в чужую семью не бывает так жалко, потому что ее там тоже будут любить и ласкать. А твою лошадь в колхозе никто не пожалеет.
Строители сидели на корточках, подпирая мокрыми спинами стены, и думали. У Холгитона своя боль. Десять лет он вязал себе невод. Каждое лето рубил коноплю, готовил нити, и зимой на охоте в пуржливые дни вязал невод. Получился крепкий невод. Веревки крепкие, грузила красивые, а поплавки из коры бархатного дерева — загляденье. Нынче осенью впервые думал половить этим неводом кету, а потом продубить его. Теперь что? В колхоз отдавать? Лошадь он отдаст, лошадь ему нисколько не жалко, но как невод отдать? Десять лет он готовил его! Не может он отдать его, поэтому не может вступить в колхоз. Ну пойми ты, Пиапон, железный Совет!
Холгитон, не поднимая головы, пыхтел трубкой и потел. Жалко невода, очень жалко. Но что делать, если не разрешат рыбу ловить? Не пустят на колхозный Амур — и все. Они уже и Амур поделили между собой. На озеро не пустят, на протоки не пустят, как жить без рыбы? Выкручивался, выкручивался он, зацепился было за священный жбан, надеялся, что Заксоры не отдадут его в колхоз, но ничего не вышло. Теперь уже никак не отвертеться, потому что без мяса и рыбы нанай не проживет.
— Может, какое место отдадут? — нерешительно спросил Холгитон.
— Все места советские, значит, колхозные, — отрезал Пиапон.
И опять тишина. Всем тяжело, все потеют от тягостных дум. Один Пиапон ликует, глядя на опущенные головы. Как вовремя пришла эта мысль в голову! Здорово придумал!
— Везде колхозы будут, и в верховьях и в низовьях Амура?
— Всюду, на всей земле колхозы будут, потому что повсюду за тайгой и за морем будет советская власть.
Пиапон торжествовал и мог сейчас вдохновенно придумывать, что угодно. Но то, что он сказал, своими ушами слышал в Хабаровске. Большие всезнающие дянгианы там говорили: «Мировая революция победит на всей земле!» Когда-нибудь да советская власть установится на всей земле, потому что она народная власть, в этом теперь убедились все.
— Думайте, думайте, богачи! — сказал Пиапон.
— Кто богачи? Мы, что ли?
— Вы! Богатому, как Американ, нечего в колхозе делать, потому он не идет в колхоз и людей своего рода не пускает. А те слушаются, потому что все его должники. Что, не слышали разве об этом? Отец Нипо, ты тоже не слышал о проделках нашего друга?
— Какой он мне друг! — закричал Холгитон. — Хунхуз он, друг хунхузов. Нашел друга!
— Он не идет в колхоз, и ты не идешь.
Холгитон поднял голову, подслеповато уставился на Пиапона, поплямкал губами.
— Ты не сравнивай меня с этой росомахой! — проговорил он обиженно. — У меня одна только драгоценность — невод. Десять лет вязал, все знаете. Если пообещаете хорошо с ним обращаться, я отдам его, потом запишете меня в колхоз. Ты, отец Миры, сильно обидел меня, зачем сравнил с хунхузом? Зачем? Я бы и так пошел в колхоз, пропала бы жалость к неводу — пошел. А ты обидел. Хоть собакой назови, не обижусь, но с Американом не сравнивай!
Пиапону стало жаль старика, он начал его успокаивать. Другие молчали, потом один за другим заявили, что тоже записываются в колхоз. В этот день охотники отправились заготовлять тальник, чтобы построить колхозный склад для неводов и сетей и общую конюшню.
Вечером к Пиапону зашел старший брат — Полокто.
— Скажи, отец Миры, — спросил он, — могут в колхоз войти мои дети, а я остаться сам собой?
— Как сам собой? — не понял Пиапон-
— Ну, не в колхозе. Хочу самостоятельно пожить. Слышал, будто нельзя ловить мне рыбу в колхозных водах, но, думаю, проживу как-нибудь.
— Трех жен как-нибудь не прокормишь!
— Ты опять о моих женах. Хорошо, пусть они тоже идут в колхоз.
— И тебя кормят рыбой?
— Ох и злой ты человек, брат. Не можешь слова сказать, чтобы не обидеть.
— Я правду сказал, а правда колет иногда сильно.
— Правда, правда. Пришел я посоветоваться, вот и объясни.
— Могут войти в колхоз твои сыновья.
— Так бы сразу и сказал.
— Но пусть приведут с собой лошадей, принесут невод, сети.
— Невод, сети, лошади — мои, им дела нет до них.
— Так я же это сразу понял, отец Ойты. Чего же ты крутишься? Так бы и сказал, в колхоз не хочу, потому что жалко отдавать лошадей, невод, сети, а дети пусть идут, будут меня рыбой, мясом кормить. Не выйдет, брат, придут они в колхоз только с лошадьми, неводом, сетками. Только так!
— Ладно, мы подумаем, — ответил Полокто, побледнев от злости. Но злость надо держать внутри, нельзя, как бывало в молодости, ударить младшего брата, он сэлэм Совет, у него в руках всякие новые законы. Кто его знает, чем теперь пришлось бы расплачиваться за хороший удар по шее.
— Подумай, — ответил Пиапон, — думай еще и о том, что новые законы не разрешают иметь двух-трех жен.
Полокто, кое-как сдерживая гнев, вышел из дома брата, куда он входил только по особо важным делам не больше пяти раз, с тех пор как стоит этот рубленый дом.
Большой колхозный склад строили всем стойбищем. На это время приостановили строительство дома Холгитона, и старик был очень недоволен. С утра до вечера возле склада топтался народ, дети носили глину, мужчины ставили стены из тальника, а женщины обмазывали их. Пиапон, закатав штаны, месил глину.
Тут и разыскала его приехавшая из Ленинграда девушка. Была она светленькая, подобно полевому цветку, тоненькая, хрупкая, с голубыми глазами. Хоть и не принято в упор разглядывать встречных, но няргинцы не могли отвести от нее глаз — такая она была необыкновенная. Поразило всех белое-пребелое лицо девушки. Няргинцы видели много деревенских русских девушек, но только у маленьких девочек встречалась такая мягкая, нежная кожа.
— Вы Заксор Пиапон? — спросила приезжая.
— Я Заксор Пиапон, — ответил Пиапон.
— Вот хорошо, что я нашла вас! Бачигоапу!
— Ты понимаешь по-нанайски? — спросил Пиапон.
— Немного, — так же по-нанайски ответила девушка.
Тут все засмеялись радостно и весело, а Пиапон, хлопнув себя по коленям, спросил:
— Откуда ты такая приехала?
— Из Ленинграда.
— Из Ленинграда? Это...
— Да, да, там Богдан ваш учится. Он жив, здоров...
Пиапон вдруг почувствовал, как стали слабнуть ноги, необычно и неприятно защекотало в носу, в горле. Он присел на песок.
— Что с вами? — испугалась девушка.
Пиапон вытащил трубку, только она могла спасти его от позора — не хватало, чтобы при детях, женщинах прослезился. Он молча закурил, затянулся раз, другой и почувствовал успокоение. А Холгитон уже сидел рядом с Пиапоном и расспрашивал приезжую.
Девушку звали Нина Косякова, приехала она собирать нанайские сказки, легенды и посмотреть, как живут нанайцы. Она аспирантка, но никто не понял, что означает это слово.
«Жив Богдан! Жив! — стучало сердце Пиапона. — Какая радость! Как обрадуются Пота, Идари, Токто. Жив негодник. Пять лет ничего не слышно было о нем».
— Мы все вместе нанайскую письменность составляем, — рассказывала Нина Косякова. — Богдан и другие ребята-нанайцы помогают. Да что это я, говорю да говорю, вот его письмо вам, — девушка протянула конверт Пиапону.
Пиапон взял конверт, повертел в руке, и опять у него бешено забилось сердце. Письмо! Первое письмо от няргинца пришло в Нярги!
— Дай, я тоже хочу подержать, — попросил Холгитон.
— И мне, и мне...
Все тянули руки: Калпе и его дети, тянули руки женщины, тети Богдана. Всем хотелось подержать это первое письмо, прилетевшее из неведомого далекого Ленинграда.
Русская девушка с изумлением смотрела на них, она была молода, она сама много писала и получала таких писем, она просто не понимала, что творилось в душах этих неграмотных людей, не догадывалась, почему слезы текут из глаз Агоаки, Дярикты, Исоаки.
После родственников Богдана письмо перешло к его односельчанам, людям других родов. Потом оно вернулось к Пиапону, и он неловко, неумело распечатал конверт дрожащими руками, развернул большой лист бумаги, долго разглядывал непонятные каракули, и губы его шевелились, будто он читал письмо. Передал он письмо Хорхою, но тот тоже не мог прочитать, он не разбирал почерк Богдана. Тогда Пиапон попросил прочитать гостью. Девушка взяла письмо и начала бегло читать.
Богдан сообщал, как доехал до Ленинграда, как устроился учиться и как жил все эти годы. В конце он написал несколько слов по-нанайски.
— Эди сонгоасу, эди госоласу, пэдэм дэрэдигусу! — прочитала без запинки Нина: не плачьте, не ругайте, до свидания!
Взглянув на Пиапона, она увидела, как по щеке медленно скатились слезинки и оставили извилистый след. Пиапон молчал, и только трубка его дымила необычайно сильно. Всхлипнули женщины.
— Ты покажи, покажи, где эти нанайские слова, — тормошил гостью Холгитон. — Эти? Неужели эти? Неужели такими закорючками можно нанайское слово писать?
— Почему нельзя? — удивилась Нина. — Скажите любое слово, и я запишу.
Она вытащила блокнотик, карандаш и начала писать под диктовку Холгитона. Когда она прочитала написанное, сомнения старика рассеялись.
— Это дело, — сказал Холгитон. — Большое дело. Ты говоришь, можно любое слово по-нашему написать? И молитву тоже?
— Можно и молитву.
— Вот это ты обманываешь! Молитву нельзя записать, я слышал записанную в книге молитву. Ни одного правильного слова там не было. Верно, отец Миры? Помнишь, нам Кунгас читал молитвы, ни одного слова там не разберешь.
— Девушка милая, еще раз прочитай, — попросила Агоака, сестра Пиапона. — Ты только русские слова растолкуй нам по-нанайски.
Нина перечитала письмо, перевела на нанайский язык как смогла, но слушатели остались довольны. В третий раз она перечитала по просьбе Калпе.
— Хватит, она устала, — сказал Пиапон. — Пойдем, Нина, к нам, будешь самой дорогой гостьей. Расскажешь про Богдана. Все, что помнишь, расскажешь.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Какой огромный край — этот Дальний Восток! Амур — ширина! Тайга — где ее начало и конец? Сопки — бугрятся и бугрятся, куда ни взгляни. Все здесь необычно: и воздух, и вода, и земля, и деревья, и цветы. Все, все! Но главное — эти добрые, наивные, гордые и, кто его знает, еще какие — гольды-нанайцы. Ох! До чего здорово, что она вырвалась в командировку в этот необычный край, к этим незнакомым людям! Ничего, она уже немного познакомилась с ними, приживется. Теперь быстрее за усовершенствование языка! Она должна разговаривать без акцента, этого нетрудно добиться, потому что нанайский язык мягкий, плавный, куда труднее было с французским и английским. Молодец, Нинка! Молодец, что поступила в Восточный институт, что начала изучать мало кому известные маньчжурский и нанайский языки. Все брались за китайский, японский, хинди, бенгали, одним словом, за великие языки, за народы с многовековой культурой. А ты взялась за тунгусо-маньчжурский, и над тобой сколько подтрунивали родственники, друзья: мол, изучила два европейских языка, большая будущность ожидала ее, а она, дурочка, — за тунгусов. Ничего не дурочка! Французский, английский изучают миллионы людей, а тунгусо-маньчжурский — одиночки. Здесь ожидают открытия за открытиями! Надо обязательно восполнить пробел в знании антропологии, этнографии, языковеду без этих наук не обойтись.
— Вон видишь, маленький остров впереди, — перебил мысли Нины кормчий.
Нина увидела впереди скалистый островок, заросший деревьями.
— Запомни, называется Гиудэлгиэчэ. А это наше нанайское море, — продолжал кормчий, — озеро Болонь. Прямо переплывать опасно, ветер поднимется — и утонешь.
Озеро Болонь. Сколько рассказывал Богдан об этом озере! Красивое место, так и хочется заговорить стихами.
— Здесь летом живут озерские нанай, на зиму жир готовят. Рыбы тут много.
— Отец и мать Богдана тоже здесь живут?
— Они зимой живут на Харпи, летом тут. Теперь в Джуене должны быть.
— Правда, что озерские по-своему говорят?
— Маленько есть. Когда они все говорят, то будто весна наступает, гуси и утки будто кричат. Так кажется.
«Ой, как хорошо! Заговорят — и весна наступает. Надо же придумать такое сравнение».
Нина побывала в Найхине, Нярги, Болони и уже могла сделать самостоятельный вывод о различии найхинского и болонского говора, о котором велись жаркие споры в Ленинграде. Какой из них станет литературным языком? Нине кажется, что годятся тот и другой говоры, какой выберут — это дело самих студентов-нанайцев.
В Найхине в прошлом году организовали колхоз, председателем избрали Чубака Киле, уроженца Болони. И ничего, руководит, и все его понимают. Совсем неграмотный, а носит в кармане тетрадку, карандаш и записывает все колхозные дела, для этого придумал свою письменность, понятную ему одному. Он показывал свои записи Нине, прочитал без запинки, приводил даже цифры. Это было похоже на рисуночное письмо, каким пользовались древние племена.
— Наше туземное письмо, — похвастался Чубак.
— Не говорите этого слова! — не выдержала Нина.
Ох, как она ненавидела это слово «туземец»! В Ленинграде, в институте, давно искоренили его, а тут на каждом шагу она слышнла его вновь и вновь.
— Это оскорбительное слово, поняли?
— Так все говорят, — растерянно пробормотал Чубак. — Был туземный съезд, организовали туземный район...
— Было, но не должно сейчас быть! Вы себя называете нанай — человек земли. Красиво, хорошо. Так и должны вас называть — нанай. И никому не позволяйте себя унижать: мы, мол, выше вас, а вы ниже, потому вы туземцы.
Она и в Нярги услышала это слово от Пиапона, и опять ей пришлось ругаться.
— Правда, это унизительное слово? — переспросил Пиапон.
— Да. При царизме власти вас называли еще инородцами, это также оскорбительно.
— Мы не знали, Нина. Теперь больше не разрешим нас обзывать, — пообещал Пиапон.
Лодка переплыла озеро в узком месте. Подул попутный северный ветерок, и лодка под парусом со звонкой песней заскользила с волны на волну. Проплывали мысы, заливы, галечные берега стояли с берестяными хомаранами. В Джуен приехали в сумерках. Нину провели к родителям Богдана.
«Здесь жилища земляночного типа, — отметила она, окидывая взором стойбище. — Рубленых домов еще нет».
В большой землянке, куда привели Нину, жили Пота и Идари, их женатый сын Дэбену с детьми, Токто с Кэкэчэ, Гида с двумя женами и детьми. Сплошные нары тянулись вдоль стен, где были проложены каны, по которым шел дым и обогревал дом.
Перед Ниной стоял среднего роста крепко сбитый охотник, упругий и прямой, хотя виски его припорошил уже первый иней. Он назвал себя и выжидательно смотрел на гостью.
— А ваша жена здесь? — спросила Нина, оглядывая женщин, стоявших возле холодного очага. Вышла Идари. «Красивая», — подумала Нина. Не знала она, какой красивой была Идари в молодости, когда сбежала с Потой из родного стойбища. Толстые косы ее тогда доставали до пят.
— Вы Идари? — сказала Нина и перешла на нанайский язык: — Твой сын Богдан наказал мне: мою мать обязательно обними.
Нина обняла окаменевшую Идари.
— Ты откуда? — тихо спросила Идари. — Из Ленинграда? Как там наш Богдан? Здоров?
— Здоров.
— А ты кто ему?
— Друг, товарищ.
— Хорошо, девушка, спасибо.
Нина ожидала слез, объятий, как в Нярги, и очень удивилась выдержке Идари, если не сказать, холодности ее; Пота тоже не выказывал радости, он посадил гостью на нары, позвал мужчин. Возле Нины сели Токто, Гида и брат Богдана Дэбену.
«Что же они так? — думала Нина. — В Нярги дяди, тети рыдали, а отец с матерью даже не обрадовались».
— Богдан письмо прислал, — сказала она.
— Здесь некому читать, — сказал Токто, — читай ты.
Нина прочитала письмо, перевела на нанайский язык. Она ожидала, что попросят вновь перечитать, но никто не просил. Только самая красивая и молодая из женщин смотрела на Нину невидящим взглядом, будто уснула с открытыми глазами.
— Жив, здоров, ну и хорошо, — сказал Токто. — Хотел учиться — выучился. Вон какое длинное письмо написал. Молодец, Богдан!
— Упрямец, — то ли похвалил сына, то ли осудил его Пота.
Перед Ниной поставили столик и еду. Постелили ей постель рядом с Идари. Несмотря на усталость, она не могла уснуть. Все ей казалось необычным в этом жилище: глубоко вырытая землянка, глиняный пол, холодный очаг, сплошные нары и сами хозяева землянки. Почему они так холодно отнеслись к письму Богдана?
— Ты устала, девушка, усни, не думай, — услышала она шепот Идари. — Усни, девушка.
«Вот еще, — подумала Нина, — успокаивает вроде. Что же Богдан рассказывал про родителей? Живут на Харпи, летом в Джуене. И все? Да, все. А про Пиапона? Что добрый, честный, справедливый, умный. Выходит, что больше про Пиапона рассказывал. Но сколько интересного и любопытного он рассказывал о дедушке Баосе! Неужели он дедушку любил больше матери и отца? Странно...»
Утром Нина проснулась позже всех. Прислушалась — тишина. Открыла глаза — нары пустые, все постели убраны. В окно бьет солнце. Нина оделась, вышла на улицу и зажмурилась от яркого света.
— Встала? — услышала она голос Идари. — Подойди сюда, умывайся, а я полью тебе на руки.
— Нет, я, пожалуй, на берег пойду, там умоюсь.
— На берегу тоже хорошо, только камни острые.
Возле летнего очага хлопотали Идари и красавица Гэнгиэ.
— Пойдем вместе на берег, — сказала Гэнгиэ и подхватила коромысло с ведрами.
Нина взяла полотенце, мыло, зубную щетку и порошок. Когда она все это разложила на корме лодки, Гэнгиэ спросила:
— Тебя как зовут?
— Нина. А тебя?
— Гэнгиэ. Я вторая жена Гиды, сына Токто.
— Вторая жена? Такая красивая и согласилась?
— Будто меня спрашивали. Ты расскажи, как Богдан живет. Ты с ним часто видишься?
— Часто. Каждый день.
— Каждый день? А ты не жена его?
— Да что вы? — Нина расхохоталась весело и непринужденно.
— Чего смеешься? Что, он плохой? Что, нельзя за него замуж?
— Хороший он, очень хороший, но он никогда не объяснялся мне в любви и не говорил о женитьбе.
Нина стала чистить зубы.
— Так все в городе зубы чистят?
— Да.
— А мыло у тебя какое пахучее, я отсюда чую его запах. И ты всегда моешься таким мылом? Как я тебе завидую... Ладно, побегу, мать Богдана ждет. Она хорошая, а ты, я видела, рассердилась на нее.
— Ничего не рассердилась.
— Рассердилась. Богдан ушел от нее мальчиком, дед забрал его за то, что она сбежала из дома с Потой. Он долго искал их, хотел убить и смыть позор. Когда Богдану лет десять было, он забрал его. С того времени Богдан все время жил в Нярги, даже стал Заксором, хотя его отец Киле.
— Вот как, а он никогда не рассказывал об этом.
— Он не расскажет, стыдно ведь. Отец с матерью, как только он уехал в город, все время просят шамана, чтобы он узнал, жив Богдан или нет. Отец моего мужа тоже любил Богдана, все время вспоминает. Да разве можно его не любить? Ты быстрее мойся, кушать тебе пора. Наши мужчины сети проверили, улов привезли, поели и опять уехали максунов острогой колоть, а ты только встаешь. Что, в городе все так долго спят?
— Нет, Гэнгиэ, я одна такая засоня, — засмеялась Нина.
Гэнгиэ тоже засмеялась, подняла ведра и пошла к землянке. Когда Нина пришла вслед за ней, Идари, не говоря ни слова, обняла ее, поцеловала в щеки, и, заглянув в глаза, опять поцеловала.
— Ты обиделась вчера, я знаю, — сказала она. — Не надо. Я просто растерялась, а растерянность твою не должны другие видеть, надо ее скрывать. Вот мы все и скрывали. Прочитай еще письмо, а?
Нина присела на чурбан и стала читать поданное письмо. Идари уже не стеснялась ее, тихо плакала.
— Такой он упрямый, весь в деда, — сказала она.
— Он очень вежливый, спокойный, — сказала Нина, словно оправдывая Богдана.
— Хоть бы краешком глаза взглянуть на него... «Как же это мы забыли его сфотографировать? -вдруг подумала Нина. — Надо же так, забыли. Как хорошо было бы теперь показать матери, каков ее сын в городском костюме, в очках...»
— Встретитесь, потерпите еще...
Идари вытерла краешком головного платка глаза и стала подавать еду. Когда Нина наелась, Идари стала расспрашивать о сыне точно так же, как расспрашивали в Нярги. До полудня продолжалась беседа между ними, Идари сама много рассказывала о себе и муже, о Токто, Гиде и его двух женах. Нина все записывала в заветный блокнот.
После полудня вернулись рыболовы, привезли много рыбы. Женщины наточили ножи, разожгли огонь под большими коглами; наступил их черед разделывать рыбу, готовить жир на зиму. Нина находилась рядом, записывала свои наблюдения, расспрашивала, как готовят рыбий жир, юколу. Ее оторвал от этого занятия Пота, позвал в землянку. Он попросил рассказать о Богдане, и Нине пришлось повторить рассказ для мужчин. Потом Токто начал рассказывать, как организовали колхоз озерские нанай.
— Просто, совсем просто, — начал он. — Когда пришла советская власть, она нам привезла даром муки и крупы. Голодали мы, большая вода стояла. Мы подумали — хорошая власть, но не верили ей: уж очень необычно она начала с нами дело вести. Это-то и насторожило нас. Ты понимаешь меня? Успеваешь записывать? Потом советская власть разогнала старых торговцев и сказала нам: «Долги ваши хитростью появились, больше их нет. Некому платить, мы вьннали торговцев-кровопийцев». Вот когда, девушка, наши поверили новой власти! А когда нам сказали, что надо в колхоз объединяться, мы все согласились, даже собак собрали воедино. Правда, они как голодали, так и голодают, кто их летом станет кормить, пусть себе сами корм достают. Вот они и бегают везде. Колхозники тоже везде живут, рыбачат. Почему не в одном месте? А где этот колхоз? Я председатель, а я не знаю, что делать. Рыбу ловить? Так мы всю жизнь и без колхоза себе ловили рыбу. Понимаешь? Теперь говорят, будете ловить рыбу и сдавать в Болонь на рыбозавод. Но пока в такой день везешь туда рыбу, она сгниет трижды. Говорят, осенью колхозом кету ловить надо и на базу сдавать. Это другое дело, кету можно ловить, можно сдавать. Вот тогда колхоз будет. Зимой все будем в тайге, колхозом будем охотиться. Где будет большое стойбище? В Хурэчэне, наверно. Деревянные дома почему не строим? Нам в своих домах неплохо. Зачем нам деревянные? Их долго строить, гвозди, доски, стекла требуются. Хлопотливое дело. Лошадей почему не держим? У нас собаки сильные, хорошие, в десять раз лучше лошади. На мясо, что ли, кормить лошадей? Так у нас лоси кругом бегают. Это амурские нанай совсем разбаловались возле русских, каждый хочет походить на них, вот и покупают лошадей, строят деревянные дома. Один купил лошадь, другой думает, а я что, хуже его, — тоже покупает. Сосед построил деревянный дом, другому завидно, и тот тоже начинает строить. А нам не надо за русскими гнаться, у нас все свое есть...
Нина с удивлением слушала рассуждения Токто; сколько она беседовала с рыбаками, председателями колхозов и сельских Советов, — ни один не рассуждал так оригинально, как Токто.
«Правильно говорил Богдан, — подумала она. — Здесь, в каких-нибудь тридцати километрах от Амура, другая жизнь, другие мысли».
— Вы, Пота, тоже так думаете? — спросила Нина.
— Нет, не совсем так, — ответил Пота.
— Так он же не озерский, — засмеялся Токто. — Он из Нярги, амурский, потому ему все, что делают амурские, — ближе.
— Ты тоже амурский, — возразил Пота. — Я думаю, что нам тоже надо тянуться за русскими. Ничего плохого нет в деревянных домах, разве что чище в них, грязи меньше.
Токто опять возразил, и разгорелся спор. Нина с интересом следила за спором, записывала высказываемые мысли.
«Здесь не тронутое цивилизацией племя, сказал бы наш профессор, — думала Нина. — А что, если тут пожить год? Сколько наблюдений, сколько нового можно вынести отсюда? Ниночка, подумай, не торопись! Написать в институт? Нет, можно вернуться в Хабаровск и через краевые организации все уточнить. Там помогут...»
Спор мужчин оборвала Идари, она сообщила, что Поту зовет приезжий незнакомый человек. Пота вышел: его ждал худощавый длиннолицый русский.
— Котов Иван Павлович, из Хабаровска, — отрекомендовался приезжий. — Собираю я студентов для Хабаровска и Ленинграда.
— У нас из Ленинграда девушка есть, — сказал Пота и, не выдержав, добавил: — В Ленинграде сын мой учится.
— Вот как, это здорово! Значит, вы мне поможете, а то ведь беда, не отпускают детей, ни за что не отпускают. Где ленинградка?
Знакомился он с Ниной галантно, по-старомодному и до смешного неуклюже, но окружающие впервые видели, как целует мужчина женщине руку, и были удивлены.
— Не мог я встретиться с вами в Хабаровске, потому что мотаюсь по Амуру уже два месяца, — сказал Котов. — Как хорошо в глухом стойбище встретить ленинградку. Счастье это! Да еще аспирантку, будущее светило науки...
Пота пригласил гостя в землянку, где на нарах уже стоял столик с едой.
— Товарищ Пота, вы уж помогите мне, хоть своей властью нажмите на них, — просил Котов. — Я собираю студентов для хабаровских педагогического и медицинского техникумов, а также ленинградского Института народов Севера. Знаете, сколько молодых людей требуется? Много, товарищ председатель, очень много. А родители не отпускают, твердят: уйдут в город — не вернутся, русскими сделаются, не захотят по-старому жить. В этом они отчасти правы. После курсов, техникумов, ни один не захочет по-старому жить. Вас-то я не уговариваю, вы сами понимаете. Да, Нина Андреевна, у товарища Поты сын в Ленинграде учится, знаете?
— Да, мы знакомы уже несколько лет, он мой учитель, — ответила Нина.
— Как учитель?
— Он нас обучает нанайскому языку. Хороший человек. Иван Павлович, вы сказали, что студентов здесь хотите при помощи власти набрать. Это надо понять — насильно?
— Не совсем так, но припугнуть не мешает.
— Да вы что, серьезно? Для советской власти стараетесь и ею же стращать будете?
— Уже стращал, как вы выражаетесь. Все у меня было. Голубушка, пойдите, хоть одного человека уговорите и сами поймете, какая это унизительная работа. И зачем только я согласился? Вот послушайте, как я представлял свою работу. Прихожу к охотнику, говорю, сына отпусти учиться, станет он грамотным человеком, станет учителем или фельдшером, будешь гордиться. Ты не беспокойся, тебе не придется ни копейки платить, он будет учиться на полном государственном обеспечении, его будут бесплатно кормить, одевать. Охотник, конечно, рад, он все сделает для родной власти. Если сын не хочет идти учиться, он его сам погонит. Вот так я думал. А на деле? Молодые хотят учиться, а отец с матерью не отпускают. Многие бегут от родителей, а те вслед им проклятья шлют. В прошлом году одну девушку отец насильно отдал за старого богатого охотника. Она нынче сбежала, я сам посадил ее на пароход, отправил в Хабаровск.
— Как сбежала? — спросила Нина.
— Просто не хотела со старым жить, все время думала, как бы сбежать от него. Услышала, что я вербую студентов, пришла тайком, поплакала, я отказался ее брать, но она заявила, что сегодня же повесится и пусть советская власть отвечает, если не хочет ей помочь. Это я, следовательно, должен отвечать. Махнул я рукой, согласился. Пришла она на пароход, я ее посадил, объяснил, как разыскать техникум. На следующий день муж узнал о ее побеге, и началось! Фу, вспоминать не хочется.
— Откуда она? — спросил Пота.
— Из Джари, зовут Оненка Анна.
— Храбрая! — ответила Нина. — Настоящая героиня.
— В некоторых местах, когда я выбиваюсь из сил, председатель сельсовета идет уговаривать. И уговаривает, конечно, на свой манер, идет к родителям с водкой. Честное слово! Старый прием, а срабатывает и в новое время.
— Не забывайте про любовь нанай к детям, — сказала Нина.
— Знаю, не забываю. Так вот, с водкой уже уговаривали. А в других местах идут к родителям с подарком, несут самое драгоценное для них — порох и патроны. Грешен, сам участвовал в этом. А что поделаешь?..
— Правильно, хорошо, — сказал Токто.
Котов даже не взглянул на него, он был бледен и расстроен. Нина чувствовала, как измотался этот уже немолодой человек, как изнервничался, и решила пойти вместе с ним по Джуену вербовать студентов.
Вечером, когда вернулись рыбаки, Пота с Котовым и Ниной пошли к Пачи Гейкеру, с ним жил младший семнадцатилетний сын Боло. Он был пока еще не женат, хотя и была у него по нанайским законам жена. Девочка была отдана ему в жены в восьмилетнем возрасте и росла вместе с ним; не подозревавшие о своем супружестве девочка и мальчик спали вместе как брат с сестрой, играли вместе, случалось, частенько и дрались. Когда в Джуене организовали сельсовет и приезжие начальники сказали, что старые обычаи и родовые законы надо уничтожать, Пачи отвез девочку к родителям, чтобы избежать лишних разговоров. Но между охотниками остался в силе прежний уговор, что девочка, когда подойдет ее возраст, вернется в дом Пачи и станет законной женой Боло, так как Пачи давным-давно уплатил за нее тори.
Пачи равнодушно встретил гостей, он уже слышал о Нине, но не знал, по каким делам приехал Котов. Он принял его за напарника Нины и решил, что они, как не раз уже бывало, будут интересоваться нанай, охотой и рыбной ловлей, начнут записывать сказки и легенды. Но Пота сразу рассеял его ожидания.
— Этот человек собирает молодых людей на учебу, — заявил он. — Сам понимаешь, нет у нас учителей, нет докторов. Боло поедет в Хабаровск учиться, его будут там бесплатно кормить, одевать...
У Боло, находившегося тут же, разгорелись глаза, он беспокойно заерзал и, чтобы скрыть охватившее его волнение, запыхтел трубкой.
— Когда закончит учебу, возвратится в Джуен, — продолжал Пота, — будет нашим первым джуенским грамотеем. Завидую я тебе, Боло. Тебе откроется мир, о котором мы и во сне не мечтали. Будешь жить в городе, есть городскую пищу, одеваться по-городскому. Ну что, едешь учиться?
— Я что, как отец, — ответил Боло, не поднимая головы.
Нина знала об отношениях взрослых сыновей к отцу в нанайских семьях, их бессловесное повиновение и, чтобы подзадорить юношу, сказала по-нанайски:
— На охоту самостоятельно ходишь, не спрашиваешь у отца, в какого зверя стрелять. Взрослый же ты.
Пораженный Боло с открытым ртом уставился на белокурую русскую и не знал, куда деться от стыда.
— Он в моем доме живет, — сказал Пачи.
— Знаю я, что хотите сказать, Живет еще со мной, потому несамостоятельный он еще. Я знаю многие ваши обычаи, знаю ваш язык.
— Неплохо говоришь, девушка.
— Отпустите его учиться, очень нужны грамотные люди.
— Пока в моем доме нужны глаза и руки охотника, семью надо кормить.
— Вернется он, станет помогать.
— Кто его знает, вернется он или нет. Выучится, увидит другую жизнь, понравится она, и останется в городе. Забудет, острогу как держать, забудет, в каком месяце сазан икру мечет.
— Да вернется он, здесь, в Джуене, он нужен. Ты кем хочешь быть, учителем, доктором? — обратилась Нина к Боло.
— Не знаю, — выдавил Боло. — Отца спросите.
— Учителем или доктором хотите видеть сына? — спросила Нина Пачи.
— Охотник он, охотником и хочу его видеть. Он будет меня и мать кормить, скоро мы совсем старые станем.
— Учителем будет, тоже прокормит.
— Нет. Ему надо жениться, детей растить...
— Это он еще успеет...
— Нет, нынче надо ему жениться, жена не ждет... Боло смутился. Произошла заминка, потом заговорил Котов.
— Товарищ охотник, совесть надо иметь, для тебя же мы стараемся...
Пачи даже не взглянул на него, он не понимал русскую речь.
— Отец Онаги, тебя просят люди, — сказал Пота, хотя давно понял, что Пачи им не удастся уговорить.
— Отец Богдана, тори пропадет, если он уедет на учебу и вовремя не возьмем девочку обратно.
— А ты пожени и отпусти.
— А жена без мужа как будет жить? С молодыми людьми будет... ребенка принесет...
Пачи называл вещи своими именами, это никогда не осуждалось, принималось всеми как обычная норма разговора. Нина сперва не поняла слов, сказанных Пачи, потому что Богдан не объяснял им такие термины, но когда до нее дошел смысл, она опустила голову и медленно вышла из землянки.
Пота поглядел вслед ей и сказал:
— Ты и жена будете рядом с ней, чего боишься?
— Рядом, говоришь? — зло усмехнулся Пачи. — Ты забыл, как Онага мне принесла внука, где я тогда был, за горами, за лесами? Рядом был, а дочь принесла. Не хочу, чтобы невестка то же повторила. Хватит с меня позора.
Пота попрощался и вышел. Вслед за ним шел Котов. Зашли в другую землянку. И в этой семье отец не отпускал сына, а когда Нина напомнила про Богдана, то охотник совсем примолк.
— Не говори им о Богдане, — сказал Пота, когда вышли на улицу. — Богдан ушел от нас, ушел навсегда.
— Он вернется, вы знаете.
— Мы-то знаем, а все считают, что он не вернется. Пять лет мы ничего не знали о нем. Кто из родителей захочет такого? Потому про Богдана не говори.
Заглянули к охотнику, у которого подросла дочь-невеста, но он даже слушать не стал, сказал твердо: не отпустит, потому что не хочет, чтобы она принесла ему зайчонка, не хочет, чтобы она вышла замуж без его ведома.
— Он не хочет потерять тори за дочь, — объяснил Пота.
Так Котову и не удалось в Джуене завербовать студентов. Нина же окончательно решила, что возвратится в Джуен, будет здесь работать.
«Вот это первобытность, — думала она, — сказал такое грязное слово и даже не поперхнулся. Все просто у них».
Ей хотелось посидеть одной, подумать. Села на корме лодки, опустила ноги в теплую воду. Что она станет делать в Джуене? Как что? Работать. Лингвистическая работа будет побочной работой — это она теперь поняла. Она будет здесь устанавливать новую жизнь...
— Нина, ты опять думаешь?
Как это так бесшумно подошла Гэнгиэ! Напугала даже.
— Думаю, Гэнгиэ. Сколько я нового узнала здесь.
— Нового? У нас? Смеешься ты, у нас все старое, древнее-древнее, у нас ничего не меняется.
— Изменится. Придут сюда новые люди, грамотные люди, и изменится.
— Грамотных людей нет.
— А ты не хочешь учиться?
— Хочу. Ты будешь меня учить?
— Буду. Я думаю вернуться сюда, хочу здесь работать. Тогда и буду тебя учить грамоте.
— А трудно это?
— Трудно, не буду обманывать. Но если у тебя есть большое желание научиться, ты выучишься.
— Я очень хочу научиться, он ведь очень грамотный...
— Кто?
Гэнгиэ замолчала. Нина поняла, что у нее есть тайна, которую хранит она и не хочет, чтобы о ней знали другие.
— Рыбу всю уже разделали? — спросила она.
— Да, долго ли, столько рук.
— Много же рыбы было.
— Это не много, весной бывает больше. Кеты осенью бывает еше больше.
Опять замолчали. Нина мысленно представила женскую работу в нанайской семье — у нанайки, кроме зимнего времени, не находится сколько-нибудь свободных дней. Все хозяйство на ее плечах.
— Ты счастливая, — сказала Гэнгиэ.
— А в чем мое счастье?
— Много знаешь, по-нанайски и по-своему говоришь.
— Я еше два языка знаю.
— Да ты что, как так можно? У нас в Болони был торговец, он знал китайский, русский язык и наш. Он был мужчина. А ты знаешь четыре языка?
— И женщина, да? — засмеялась Нина. — Что, женщина не может знать больше мужчины?
— Да, мужчины всегда больше нас знают.
— Нет, Гэнгиэ, если бы ты выучилась, ты знала бы больше всех мужчин, вместе взятых, потому что они неграмотные, а ты грамотная.
— А Богдан грамотный?
— Да, он очень грамотный, умный, потому что всегда хотел учиться и выучился. Он хороший.
— Ты счастливая, — повторила Гэнгиэ.
— В чем еще мое счастье?
— Ты рядом с ним всегда бываешь.
— Рядом с Богданом?
— Да.
И тут только Нина поняла, что весь этот их разговор ведется вокруг Богдана, что они вдвоем с Гэнгиэ плетут словесную сеть вокруг него. «Она любит его», — подумала Нина.
— Мы с Богданом делаем одно дело, письменность нанайскую создаем, потому вместе бываем.
— Он не женился?
— Что ты, Гэнгиэ, ему даже думчть об этом некогда, — как можно беззаботнее ответила она.
— Это правда, Нина, это правда? — Гэнгиэ схватила руку Нины и прижала к груди.
— Ты любишь его? — почему-то шепотом спросила Нина.
— Да. Давно. Он даже не знает. Позвал бы он, когда жил в Нярги, сбежала бы к нему. Противно мне жить с Гидой. Ты мне помоги, Нина, помоги уйти от него...
Нина прижала к себе голову Гэнгиэ, волосы женщины пахли тайгой и озерной водой.
— Как тебе помочь, Гэнгиэ?
— Ты русская, ты грамотная, ты все можешь...
— Послушай, что сегодня рассказал приезжий русский... — Нина рассказала об Анне Опенка. Гэнгиэ ничего не ответила, она подошла к воде и стала мыть лицо. Потом спросила:
— Когда уезжаешь?
— Зачем тебе? — в свою очередь спросила Нина.
— Хочу в гости к родителям в Болонь съездить. Давно я не была у них. Соскучилась. Ну, сиди, я пошла отпрашиваться у мужа.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Не один Полокто сомневался, сомневались еще несколько охотников. «Неужели советская власть такая жестокая, что не позволит нам ни рыбачить, ни охотиться», — спрашивали они друг у друга и не находили ответа.
— Это Пиапон сам выдумал, — предположил кто-то.
После этих слов Полокто уже не мог найти себе места. Он вернулся домой, собрал сыновей, внуков, устроил, как бывало в большом доме, совет.
— Решил я переехать в Мэнгэн, — заявил он.
— Почему раньше не посоветовался с нами? — спросил второй сын Гара.
— Сегодня только решил, сейчас советуюсь.
— Я не перееду, — сказал Ойта.
— Мне и тут хорошо, — поддержал брата Гара.
Полокто в бешенстве сжал кулаки. Но что он мог поделать с сыновьями, у которых дети уже двадцатилетние охотники? Как он мог поднять на них руки? Он еще имел разум и иногда мог удержать свой норов. А отец его, Баоса, в таких случаях не раздумывал, его, сорокалетнего, таскал за косы... То был настоящий хозяин большого дома.
— Где будете жить? Я разбираю дом и перевожу в Мэнгэн, — произнес Полокто.
— Колхоз поможет, — ответил Ойта. — Вон как быстро построили склад, закончили уже половину конюшни. Разве долго всем вместе нам фанзу построить?
«Как они быстро приспособились к этому колхозу? — со злостью подумал Полокто. — Может, на самом деле это хорошее дело? Все вместе, как одна семья... Тьфу! Нет, не хочу такую семью!!»
— Стройте фанзу, переезжайте!
Полокто соскочил с нар, выбежал на улицу и потребовал у жен поесть. Старшие его жены Майда и Гэйе с приходом третьей, молодой жены, сами собой отстранились от дел. Майда стала стара, нянчилась с правнуками, тачала обувь, шила одежду, а Гэйе возненавидела еще пуще мужа и делала вид, что не замечает его присутствия. За Полокто присматривала одна молоденькая жена, которую в стойбище прозвали «внучкой Полокто», потому что она была ровесницей детям Ойты и Гары.
— Мы переезжаем в Мэнгэн, — объявил Полокто.
— Кто это мы? — с вызовом спросила Гэйе. — Этот дом строили русские, а мы помогали им, лес валили, сюда привезли. Нашим потом пропитан дом, потому он и наш. Правда, мать Ойты?
Майда промолчала, она чувствовала назревавший скандал, который нередко переходил в драку: Гэйе никогда не давала спуску мужу.
— Я тебя давно выгнал из этого дома. Замолчи, змея!
— Собака!
Молоденькая жена Полокто и невестки вмиг разбежались кто куда мог, чтобы не видеть драки.
— Собака, — повторила Гэйе и выхватила из огня головешку. — Ну, подходи, чего остановился? Дом наш, а не твой, если переезжаешь, то переезжай, мы тебя, как бездомную собаку, выгоняем. Дом тут будет стоять.
Сколько раз избивал Полокто вторую жену, избивал до полусмерти, после чего она отлеживалась месяцами, но, поднявшись на ноги, опять дерзила, оскорбляла и унижала мужа и опять получала тумаки. Не мог Полокто утихомирить строптивую Гэйе.
— Змея! — крикнул он, взял шест и пошел на Гэйе.
Жена швырнула в него головешкой, попала в грудь, но тут же сама свалилась на горячий песок от удара шестом. Гэйе взвыла нечеловеческим голосом, растревожила млевших от жары собак, напугала игравших рядом ребятишек. Полокто знал, в какое место бить, чтобы не нанести увечья и не убить ненавистную жену. Больно было Гэйе, но не от боли она кричала, она оповещала стойбище о новом скандале в доме Полокто.
— Помогите! Убивают! — вопила она.
Полокто поставил шест на место, взял острогу и пошел на берег. Берестяная оморочка его легко поплыла по течению. На воде Полокто быстро успокоился. Хотелось есть, но разве найдешь рыбу на середине широкой протоки?
Приехав в Малмыж, Полокто пошел к Воротину. Борис Павлович напоил его чаем, порасспросил о делах, о здоровье домашних; он знал о Полокто, как и о других охотниках, все, что нужно, — состав семьи, хозяйство, потребности в доме, чтобы при расчете за пушнину подсказать, что они еще не взяли. Например, молодой невестке на халат, новорожденному — теплой, мягкой материи на пеленки. Охотники всегда оставались довольны Воротиным.
— А как там Пиапон поживает? — поинтересовался Воротин.
Но Полокто, вместо ответа, сам спросил его:
— Ты скажи, Бориса, если я в колхоз не пойду, меня голодом заморят? Мне не разрешат рыбу ловить, охотиться?
— Кто не разрешит?
— Как кто? Колхоз не разрешит. Они Амур, тайгу поделят между собой, а кто не вошел в колхоз, не разрешат на своих участках рыбачить и охотиться. Так говорит Пиапон.
Борис Павлович сразу догадался, в чем дело, понял страх Полокто. Хотелось ему поддержать Пиапона, продолжить его хитрую игру, но не мог он этого сделать, хотя знал, что Полокто добивается богатства и поэтому не идет в колхоз.
— Амур большой, тайга неизмеримая, места всем хватит, — ответил он неопределенно.
— Нет, ты, Бориса, ясно скажи, правильно Пиапон говорит или неправильно. Так будет, как он говорит, или не так.
— Не совсем так: за колхозами будут закреплены угодья, участки рыбной ловли, это правильно. Но эти участки будут такие большие, что те люди, которые не вошли в колхоз, тоже смогут там рыбачить...
— Они же не разрешат.
— Как не разрешат, когда места пустуют. Неужели они такие жадные? Они же твои соседи, те же люди, с которыми ты прожил жизнь. А теперь скажи, почему ты не хочешь вступить в колхоз?
Полокто, не ожидавший такого прямого вопроса, заерзал, принялся за чай, оттягивая время. Борис Павлович ждал.
— Не могу идти, — наконец ответил Полокто. — Не я один, еще некоторые не идут.
— Пока не идут, а пройдет немного времени, сами будут проситься. На месте председателя, не принял бы я их потом. Когда организовывали колхоз, они отсиживались в кустах, увидели, что хорошо стало жить колхозникам, богато, попросились в колхоз. На готовенькое.
— Правда, богато будут жить?
— А ты думал, как? Для чего тогда колхозы? Они нужны самим охотникам, вам же все объяснили, только вы слушали по-разному. Кто хотел понять — понял, а ты решил сразу не вступать в колхоз, потому не понял. Так пойдешь в колхоз?
— Бориса, погоди. Вот я не колхозник, принесу тебе пушнину, ты примешь?
— Конечно. Но я у тебя приму после колхозников, я им отдам все самое лучшее, что попросят, а тебе — что останется.
— Мы, выходит, люди похуже.
— Нет. Я буду вести дело не с одним человеком, а с целым колхозом, понял? С сотнями людей. Мне с ними выгоднее иметь дело.
Полокто помолчал, подумал.
— Рыбачить, охотиться, говоришь, можно, да? — спросил он, поднимаясь со стула. — Колхоз не может запретить?
Полокто распрощался и выехал в Мэнгэн. Встретился он там с Американом, с которым близко сошелся во время последней женитьбы. Американ вынужден был бросить свою торговлю, потому что после событий на КВЖД граница была заперта на замок и контрабандный дешевый товар перестал поступать из Маньчжурии. Его партнеры в Хабаровске и Николаевске сами занимались мелочами и посоветовали Американу пока, до лучших времен, прикрыть дело. А что придут лучшие времена, они не сомневались.
— Американ, ты был прав, можно в колхозы не идти, — сказал Полокто. — Я у Бориса, в Малмыже, узнал.
— Я знал, догадывался, — сознался Американ.
— У нас Пиапон всех напугал. Я уж собрался было сюда бежать, дом даже хотел разобрать и переправить.
— Переправляй, наши места хорошие. Рядом будем жить.
— А колхоз здесь будет?
— Будет, но мало кто войдет в него. Мало будет людей в колхозе, некому будет работать, потому скоро его ликвидируют.
— Правильно, если все не захотят, то и колхоза не будет. Хорошо у вас, все один за другого.
— У вас тоже так, — усмехнулся Американ. — Один за другим вслед за Пиапоном все в колхоз пошли.
— Да, да. А у вас не пошли. Правда, не будет здесь колхоза?
— Если я говорю, то, значит, правда. Мы в Мэнгэне без колхоза хорошо жили и проживем. Ты по этому делу приехал?
— Приехал сообщить, что не обязательно вступать в колхоз, можно отказаться.
Американ сходил в свой тайник, принес две бутылки вонючего хамшина, и приятели ударились в кутеж. А на следующий день Полокто встретился с тестем. Старик старался быть вежливым, но Полокто чувствовал, что-то он не договаривает.
— Ты обижен на меня? — спросил он. — Скажи, не скрывай.
— Скажу, зять, скажу, все равно когда-нибудь да придется сказать. Ты нечестный человек, Полокто, ты меня обманул.
— Что ты говоришь!
— Говорю честно все, что думаю. Ты обманул меня, за дочь дал деньги, которые никто не принимает, они старые, на них ничего не купишь.
— Не может быть, я тебе дал деньги, которые еще имели силу. Китайские торговцы собирали их.
— Цены не имеют они - Не веришь, спроси Американа.
Полокто верил в силу своих монет, отданных за тори, потому пошел к Американу. Тот взглянул на них и засмеялся.
— Глупый ты, Полокто! В Амур можешь выбросить их.
Полокто выпросил у Американа бутылку водки и распил с тестем. Он признался, что всю жизнь копил эти монеты и, когда русский приказчик не принимал их, думал, что тот хитрит, боится, что богатый Полокто на свои деньги купит весь его товар и сам станет торговать.
— Я не обманщик, я честный человек, — плакал он пьяными слезами, — как стыдно, как стыдно! Что теперь скажут люди. И так всегда плохо говорили, теперь скажут, тестя обманул, деньгами, которые цены не имеют, купил жену. Стыд какой!
Он на самом деле не знал, что монеты его не имели цены, и сейчас действительно ему было стыдно перед тестем, перед Американом. Он пообещал отдать тестю лошадь, но тот отказался от подарка.
Полокто вернулся в Нярги и сообщил своим единомышленникам, что они могут не бояться ничего, пусть не вступают в колхоз, если им это претит. И тут же разнеслось по стойбищу, что Пианон обманом собирает людей в колхоз.
Пиапон в это время обдумывал, как поступить с жалобой Гэйе на брата. Придется принимать решение, может, даже жесткое решение, если будет настаивать Гэйе. Ох, как тяжело поднимать руку на старшего брата! А что делать?
Пришел в контору Холгитон.
— Полокто говорит, будто ты обманщик, — сказал старик. — Колхоз не может запретить единоличникам рыбу ловить и зверей бить в тайге. И вступать в колхоз не обязательно. Правда это?
— Если он ездил узнавать, выходит, правда, — невозмутимо ответил Пиапон.
— Ты что, обманул нас?
— Не думал обманывать, просто догадывался, что по колхозам будут поделены водные и таежные участки.
— Не об этом я. Можно не колхозникам рыбу ловить, пушных зверей бить?
— Найдется свободное место — пусть ловят и бьют.
— А где это свободное место?
— Мне это неизвестно, отец Нипо.
— Не сердись на меня, отец Миры, заберу я невод, не пойду в колхоз. Сыновья большие, Годо еще не совсем стар, сами проживем.
Пиапон сдерживал себя, ему нельзя расстраиваться перед разговором с братом. Если он сейчас начнет злиться, то как поведет себя с Полокто?
— Что я могу поделать, отец Нипо, — сказал он, — забирай и уходи, сердиться не буду. Только потом будешь обратно проситься в колхоз — не приму. Запомни.
Холгитон не ответил, он сидел на табурете, как коршун, попавший под дождь.
— Гэйе пожаловалась на мужа, — как ни в чем не бывало продолжал Пиапон, — побил он ее. Думаю, думаю, как поговорить с братом, аж голова заболела. Ты уж помоги мне, ты ведь уважаемый человек. Поговорить надо с отцом Ойты, при народе надо поговорить, так мне сказали в райисполкоме...
Холгитон, чувствовавший свою вину перед Пиапоном, охотно согласился помочь ему. Договорились, что будут разбирать устное заявление Гэйе в новой конюшне. В назначенное время почти все няргинцы толпились возле конюшни. Пригласили Полокто, и тот, не подозревая, о чем пойдет разговор, появился вместе с мальчиком-посланцем.
— Мы собрались здесь, чтобы обсудить одну жалобу, — начал Пиапон, когда все расселись кто где мог. — Советский закон говорит, всякое дело обсуждайте все вместе, думайте и принимайте справедливое решение.
— Всегда у нас справедливо было, — сказал кто-то.
— Не перебивай, придет время, выскажешься. Сейчас мы будем разбирать жалобу Гэйе. Где она? Выходи, Гэйе, сюда, расскажи всем, на кого и на что жалуешься.
Храбрая Гэйе, вступавшая в драку с сильным Полокто, оробела. Драться она могла, но никогда не стояла перед всем стойбищем, никогда на нее не смотрело столько глаз сразу.
— Он бьет, — сказала она, скрываясь за чужими спинами.
Полокто, сидевший недалеко от Пиапона и Холгитона, теперь только понял, для чего собрался народ. Но предпринять что-либо уже не мог. Гэйе вытащили вперед, и она, запинаясь, рассказала, как Полокто бил ее шестом.
— Врешь! Один только раз ударил по..! — выкрикнул Полокто.
— Сейчас один раз, а раньше сколько?! — закричала на него Гэйе, набираясь храбрости от одного голоса ненавистного мужа.
— А ты головешками кидалась!
— Одной головешкой, собака! Не добавляй!
— Раньше ножами бросалась.
— Защищаться нельзя разве?! При советских законах мы равные, понял? Я тебя тоже могу бить!
Перебранка между мужем и женой разгоралась, как костер при сильном ветре. Они кричали во весь голос, готовы были броситься друг на друга и таскать за волосы.
— Собаки и есть, грызутся, как собаки, — говорили охотники. — Люди уже старые, а не стыдятся...
— Хватит вам ругаться! — крикнул Пиапон. — Мы сюда пришли не вашу ругань слушать, а разобрать жалобу. Говори, Гэйе.
— А что мне говорить, я все сказала. Собака он! Хуже собаки, говорят, еще росомахи есть. Росомаха он!
— Перестань ругаться!
— Чего перестань? Сам требуешь «говори», я говорю, а ты уже кричишь — перестань. Что мне делать, говорить или молчать? Здесь все Заксоры, все меня ненавидят, все защищать будут эту собаку!
— Ты замолчишь, сука! — закричал старый Холгитон.
Гэйе будто ударили ладонью по губам — примолкла сразу.
— Если хочешь, чтобы разобрались в вашем деле, веди себя хорошо, — продолжал Холгитон. — Отец Миры здесь председатель, для него все здесь равные люди, нет у него тут братьев, сестер, нет родственников, он по справедливости все хочет рассудить. А ты что делаешь? Если еще раз заговоришь, палкой вот этой ударю. Говори, отец Ойты.
— Ударил я ее один раз, — сказал Полокто, — что из этого? Бил ли раньше? Бил всегда, потому что она моя жена. Все слышали, какой у нее язык, все знаете. Как ее заставишь замолчать? Только побить можно. На этот раз она головешками начала швыряться. Кто такое потерпит? Найдется разве мужчина, который вытерпит такое?
— Чего тогда с ней живешь? — спросил кто-то.
— Когда худую собаку гонишь, а она не уходит, что ты делаешь с ней?
— Убиваю.
— Вот видишь. Я гнал ее, не уходит. А убить не могу, закон не позволяет.
— Мать Ойты тоже гнал?
— Гнал, но она может уйти к сыновьям, а у этой кто есть? Никого нет, потому не уходит.
— Молодая была, не ушла, дура, теперь куда? — сказала Гэйе.
— Советские законы не разрешают иметь три жены... — начал Пиапон, но его перебил Полокто.
— Не надо мне три жены, — сказал он. — Не надо мне Гэйе, не нужна мать Ойты, буду с одной жить.
— С внучкой! — засмеялись собравшиеся.
— Вот как заговорил? Молодая была — нужна была, а теперь состарилась — и не нужна, — заговорила вновь Гэйе. — Нет, ничего не выйдет, не спишь со мной, а кормить все равно обязан. Будешь меня кормить до своей смерти, ты раньше меня умрешь.
— Замолчи! — закричал Холгитон.
— Нет, не замолчу! Я его жена. Теперь нас трое у него. Ну и пусть! Куда мы пойдем? У матери Ойты есть дети, но на ее месте я не ушла бы от него, пусть кормит, пока жив. Ты, отец Нипо, не кричи на меня, я тоже все законы знаю! Думаешь, нет? А вот знаю! Ты этот, как его... Ну, богатый, ты работника имеешь, он на тебя работает. Законы новые разве разрешают кому работника иметь? Ты богатый, ты живешь как при царе...
Старик замахал руками, он в горячке выпустил палку и теперь тщетно пытался руками достать до распалившейся Гэйе. Народ вознегодовал, ближние схватили Гэйе, но Пиапон заступился за нее.
— Вы все за него! Я правду говорю! — кричала Гэйе.
— Годо не работник, все знают! — кричал Холгитон, и от бессилия у нею на глазах слезы навернулись. — Он в нашей семье живет...
— Кто тогда он?! — продолжала кричать Гэйе, позабыв о своем главном враге — Полокто. — Скажешь, он отец твоих детей? Да? Тогда что, твоя жена Супчуки имеет двух мужей? Да? Ей можно иметь двух мужей? Советская власть разрешает? А Полокто не может иметь трех жен? Советская власть не разрешает?
Старый Холгитон схватился за голову и сел.
— Такую женщину живьем в землю надо закопать, — проговорил он охрипшим голосом. — В воде утопишь, весь Амур, проклятая, опоганит. Полокто, чего ты ее мало бьешь?
— Потом ты же меня судить будешь, — усмехнулся Полокто, довольный таким оборотом судилища.
— Не буду судить, — пробормотал Холгитон.
Пиапон тем временем кое-как угомонил Гэйе.
— Наш разговор ни к чему не привел, — сказал он.
— Сам виноват, не защищай брата! — закричала Гэйе.
— Замолчи. Раз мы не можем здесь решить ваше дело, то я передаю его в район, суд будет решать.
— Ушлют куда-нибудь?
— Тебе знать, ты жалобщица.
— Не жалуюсь я, отец Миры, не говори больший дянгианам, а то еще, чего доброго, ушлют куда.
— Что, испугалась, не с кем будет подраться? Найдешь, твоим языком мертвого взбесишь. Вот отца Нипо ни за что ни про что обидела. Что будем делать?
— Сам думай, ты председатель, — раздался чей-то голос.
— Гэйе, ты жалобщица, — сказал Пиапон. — От твоего слова все зависит. Что делать?
— Ничего не надо делать, отец Миры, ничего не надо, — торопливо заговорила Гэйе. — Я не жаловалась на отца Ойты. Я не бросалась головешками, он не бил меня шестом. Ничего не было. Чего смеетесь? Ну ладно, подрались, ну и что из этого? Мы же равные люди, мужчины и женщины. Ну подрались, как равный с равным. Когда вы, мужчины, деретесь в кровь, разве вы жалуетесь друг на друга? Я тоже не жалуюсь. Мы с отцом Ойты позабыли о драке...
Полокто понравилось, с каким мужеством отступала Гэйе. Но он чувствовал себя оскорбленным, она ведь сама все затеяла, пожаловалась в сельсовет. Он решил извлечь из этого себе выгоду.
— Ты головешкой швырялась, я не забыл, — сказал он.
— Отец Ойты, забудем лучше, а то тебя засудят, увезут куда-нибудь. Как мы без тебя?
Полокто подумал, что и на самом деле ни к чему этот скандал, а то припомнят старое, тогда не сдобровать. Теперь Гэйе сама просит прощения, не хочет с ним разлучаться. Пусть живет, лишь бы тихо жила, не скандалила. Теперь он знает, чего она боится — одинокой старости.
Наступили сумерки, няргинцы разошлись. В пустой конюшне остались Холгитон и Пиапон.
— Опозорила она, совсем опозорила, — бормотал старик.
— Ну и женщина, как только отец Ойты ее столько лет терпит, — сказал Пиапон, чтобы смягчить боль старика.
— Все знали, все молчали, а она при моих детях, внуках криком кричала об этом. Убить ее мало. Закопать мало...
— Хватит, отец Нипо, не горячись. Ты ведь сейчас все говоришь со злости, а зло пройдет, и ты не захочешь закапывать Гэйе.
— Плохая женщина, очень плохая. Знаешь, о чем я подумал? Раз Гэйе плохая, опозорила меня, выходит, и муж ее плохой, потому что так долю терпит ее. Полокто не хочет идти в колхоз, а я сделаю наоборот, пойду в колхоз. Невод оставь у себя, я остаюсь в колхозе.
«Ничего не понимаю, — подумал Пиапон. — Серьезно он это или нет. Может, он в детство впал?»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вернулась в Нярги долгожданная Лена Дяксул. Пиапон обрадовался, вздохнул облегченно — наконец-то в стойбище появился грамотный человек. И не знал, не догадывался сэлэм Совет, что с появлением учительницы появится много новых забот и огорчений.
Секретаря Хорхоя он самовольно отсгранил от должности и объявил, что отныне ему будет во всем помогать учительница, чтобы со всеми вопросами обращались к ней. Хорхоя поставил бригадиром на строительство. Молодого Кирку назначил помощником учительницы, чтобы он отвечал за ремонт старой фанзы под школу. Требовались скамьи, столы, доски для школы, и Пиапон съездил к Митрофану, договорился, чтоб помогли малмыжские столяры.
«Куда Пиапон без Митропана, — думал он, возвращаясь. — Пришла новая власть, появилось много советчиков, грамотных людей, а без Митропана не обойдусь...»
— Столы, скамьи будут, — объяснил он учительнице.
— С учениками плохо, — заявила Лена Дяксул, — многие не записываются, собираются на путину ехать.
— И правильно, без кеты от голода пропадешь.
— Кета нужна, знаю я, но школа главнее.
— После путины продолжишь занятия.
— Нельзя, советский закон требует открывать школу первого сентября и учить всю зиму.
Пиапон задумался — как быть? Он обязан выполнять законы, для этого его оставили председателем. Но как уговорить охотников оставить детей в пустых фанзах? Вот еще напасть!
— С теми, которые в колхоз вошли, поговорим, — ответил он неопределенно.
— С другими нельзя разве поговорить?
— С другими тоже поговорим.
Все было неясно в голове Пиапона, все неопределенно. Попал он в какое-то чудовищное положение, когда приходится изворачиваться, обещать, хотя и не знаешь наперед, как выполнить свое обещание.
— С Киркой ты еще раз обойди всех, — сказал он учительнице.
— Кирка какой-то непонятный человек, неразговорчивый.
Почему веселый Кирка стал молчаливым, грустным, Пиапон знал и считал себя в этом виноватым. Но как исправить вину, не знал. Судьба Кирки лежала на нем обомшелым тяжелым валуном.
— А ты разговори его, ты молодая, он молодой.
— Пыталась, а все равно грустный, глаза какие-то стариковские.
— Он хороший охотник, поговори с ним.
После полудня Лена пришла в большой дом Пиапона. Вошла, поздоровалась. Женщины, копошившиеся возле холодного очага, обернулись, стали разглядывать гостью. Особенно долго, придирчиво разглядывала Лену немолодая седеющая женщина — Исоака. Мужчины после еды лежали на нарах, курили трубки. Все они сели.
— Я к тебе, Кирка, — смущенно сказала Лена.
Женщины переглянулись, мужчины усмехнулись. Кирка молча сполз с нар, обулся и пошел к выходу. Лена попрощалась и вышла.
— Как хорошо-то, женщины в середине дня сами зовут мужчин, — сказал Улуска и засмеялся.
— Чего смеешься, дело у человека, — сказал Калпе, отец Кирки.
— Если какое дело, могла послать кого-нибудь другого, — заступилась Агоака за мужа. — А то приходит к женатому человеку: «Я к тебе, Кирка». Женскую совесть потеряла. Может, у них, у грамотных, так принято?
Началась привычная перебранка...
— Какая большая у вас семья, — сказала Лена.
— Большой дом, — ответил Кирка.
— У нас тоже есть большие дома.
«Зато у вас нет таких, как я, женатых на своей тете-старухе», — с горечью подумал Кирка.
Они обошли все стойбище, и в списке учеников прибавилось еще одно имя. Солнце опускалось ниже, и его стрелы били через листву тальников прямо в глаза. Лена прошла от последней фанзы к берегу и села на горячий песок. Кирка сел рядом.
— Только начала работать, а уже устала, — сказала Лена. — Что будет, когда начну уроки вести? Кирка, а ты умеешь читать?
— Маленько.
— Ты всегда такой неразговорчивый? И дома такой же? Дети у тебя есть?
Кирка отвернулся, вытащил из-за пазухи трубку, закурил. Как хотелось Лене разговорить этого молчуна! И не знала она, что разбередила у парня сердечную рану. Пятый год живет он с Исоакой, завидует своим сверстникам, у которых уже по два, по три ребенка. У него не будет детей, потому что жене уже под пятьдесят. Часто вспоминает Кирка свою любовь — Миму, вспоминает и вечер, когда прощался с ней. Мима вышла замуж и немного времени спустя родила дочь, очень похожую на Кирку.
— Как только с тобой живет жена, — продолжала Лена. — Нельзя быть таким, ты ведь молодой. Скучные люди рано стареют.
— А ты всегда такая разговорчивая? — спросил Кирка.
— Да, всегда. Я учительница, все время должна говорить с детьми. Кирка, расскажи о себе.
— Чего рассказывать? В большом доме здесь родился, отец, мать тут, вместе живем. Все.
— О жене расскажи.
— Жена? Что жена? Женщина. Все.
— Тяжело тебе живется, наверно, потому ты такой. Не знаю я о тебе ничего, но думаю, что тебе тяжело.
Лена поднялась и зашагала в стойбище, а в большом доме все уже знали, что Кирка с учительницей сидят на берегу протоки. И опять начались пересуды, пока Исоака не сказала:
— Перестаньте, зачем вы так? Взрослые люди, детей бы постеснялись. Зачем так? Вас ведь это не касается, это наше дело. Перестаньте.
Другой раз женщины набросились бы на Исоаку, но тут они не посмели даже рта открыть, столько боли было в ее словах.
Вернувшись домой, Кирка тут же засобирался на ночную рыбалку.
— Не езди сегодня, останься дома, — попросила Исоака.
Кирка никогда не слышал от нее такой просьбы, с первого дня женитьбы делал все, что хотелось ему: в любое время, не говоря ни слова жене, он уезжал на рыбалку, охоту или в гости в соседнее стойбище. Он был свободен и, как мог, показывал окружающим свою независимость.
Исоака никогда ничего не говорила ему, она понимала его душевное состояние. Женой его она стала, поскольку было это решено советом большого дома. В первый раз, когда пришлось исполнять обязанности жены, она испытывала такой же стыд, неловкость, как при первом замужестве. Но этот стыд не походил на тот, прежний, когда она была молода, неумела и влюблена, когда неизведанная истома захватила ее, закружила... Теперь было все не так. Стыдно ей было оттого, что Кирка моложе ее сына. Спать с юношей моложе сына... Она чувствовала, что такую же, если не большую неловкость и стыд, испытывает Кирка, и посчитала своим долгом подбодрить его, успокоить. Все обошлось, Кирка был молодой, ему требовалось женское тело.
— Не езди, Хорхой привезет рыбы, — повторила Исоака.
Хорхой - сын Исоаки. До сих пор никто в большом доме и в стойбище не знал, кем должен он приходиться Кирке. До женитьбы Кирки все было ясно — они двоюродные братья. А теперь? Отчим? Как Хорхою назвать отчимом человека моложе себя на два года? Так и не определят няргинцы, кем приходится Хорхой Кирке.
— Почему не ездить? — спросил удивленный Кирка.
— Первый раз прошу тебя, послушайся.
И непонятно было самому Кирке, почему он послушался ее. С наступлением темноты в большом доме все улеглись спать. Кирка лежал до полуночи с открытыми глазами и видел перед собой Лену в городском русском платье, облегчающем ее тонкий стан, смуглые ноги. Почему она вспомнилась сейчас, ночью? Ведь он ходил с ней рядом весь день, разговаривал, наблюдал, как она ведет себя в беседе с охотниками, и не обращал на нее осебого внимания. Почему она сейчас появилась перед глазами? Понравилась? Она хотела его разговорить, разузнать о нем все. Интересная она девчонка, не так красива, как Мима, но хорошая.
— Он , выслушай, — прошептала Исоака.
Кирка с первого дня женитьбы со стыдливой жалостью относился к Исоаке, он никогда не грубил ей, относился как к старшей; может, все это происходило потому, что всегда чувствовал он чуть ли не материнское отношение Исоаки к себе. Но она была его законной женой, присужденной на совете большого дома!
— Впервые я попросила тебя, не сердись. Поговорим...
— О чем говорить?
— Много есть о чем поговорить. Он, хватит, не терпи больше людских насмешек, оставь меня. Тебе ведь стыдно со мной, я старше твоей матери...
— Как, бросить?
— Уезжай куда-нибудь, теперь все молодые уезжают учиться.
— Как я поеду, когда буквы плохо знаю, язык русский плохо знаю.
— Может, тогда отец Миры поможет, может, есть новые законы, не разрешающие молодым охотникам жить со старухами...
— Он сам был на совете, сам нас поженил.
— Что же тогда нам делать? Мне жалко тебя, я понимаю, тебе хочется жить с молодой, хочется иметь детей... А я что могу? Ты бросай меня, это лучше, все поймут. Если я откажусь от тебя, то тебе в сто раз хуже будет, люди станут над тобой смеяться, будут говорить, что даже старуха от тебя ушла. Все девушки отвернутся от тебя, нехорошо будет. Потому ты бросай меня. Придумай что-нибудь, ну, хотя бы с этой учительницей походи...
Кирка молчал. Что он мог сказать, когда Исоака, сама не ведая того, раскрывала его душу. Но боли прежней он не чувствовал, Исоака своей опытной рукой будто накладывала свежую повязку на его рану. Благодарный Кирка впервые без стыда обнял жену...
— Это последний раз, — прошептала счастливая Исоака. — Спасибо тебе... последний раз...
Потом они долго молчали.
Зачастую нанайка обращается к мужу в третьем лице.
— Мне жалко тебя, — наконец промолвил Кирка.
— Не жалей, я как-нибудь... А прокормить Хорхой сможет. Ты уговори эту учительницу, она хорошенькая, пусть выходит за тебя замуж.
— Как уговоришь, она грамотная...
— Какая бы ни была, прежде всего она женщина, а мы, женщины, все одинаковые, ласки просим.
— Может, она замужем.
— Спроси. Ты же целыми днями с ней бываешь, только я думаю, ты с ней не разговариваешь. Верно?
— Да.
— Какой же мужчина молча ходит с девушкой? Разговаривай, весели ее. Расскажи о нашей женитьбе, скажи, что не можешь жить со старухой. Женщины всегда сердобольные, она сжалится над тобой.
Всему научила жизнеопытная Исоака своего молодого мужа, только Лена оказалась не очень-то сострадательной. От хозяйки, у которой она жила, узнала историю женитьбы Кирки на своей тете-старухе и утром встретила его такими словами:
— Доброе утро, молодожен!
— Я не молодожен, я давно женат, — ответил Кирка.
— Знаю, больше четырех лет живешь с молодой женой.
Теперь только понял Кирка насмешку. Он насупился и отвернулся.
— Не отворачивайся, стыдно, что ли?
— Какое твое дело? Тебе-то с какого боку припекает?
— Ого, да ты человек с характером, а я все считала тебя тихоней.
— Чего ты надо мной издеваешься? Я сам, что ли, женился? Меня на совете большого дома женили.
— Такого совета не может быть. У нас есть один совет, сельский Совет. И этот Совет, если бы ты не захотел жениться, не заставил бы.
— Как не заставил бы? Много понимаешь. Сам отец Миры в совете большого дома, он заставил.
— Председатель сельсовета? Пиапон?
— Да.
Лена решительным шагом направилась в сельсовет. Кирка плелся сзади, и горькое предчувствие беды перехлестнуло ему горло: эта девчонка разбередила боль — он ведь почти привык к Исоаке, притерпелся, примирился с судьбой! А теперь достанется еще и отцу Миры.
Пиапон встретил посетителей широкой улыбкой.
— Товарищ председатель, — обратилась Лена, голос ее звенел от напряжения.
— Ты разговариваешь со мной, как районный начальник, — усмехнулся Пиапон, — обращаешься ко мне, как они обращаются.
— Товарищ председатель, — повторила Лена, не принимая шутки Пиапона. — Хочу спросить, сколько в этом стойбище советов?
— Один совет, — ответил Пиапон. Он почувствовал, что девчонка, его помощница, приезду которой он так радовался, сейчас ему что-то преподнесет. Но что она узнала, в чем ошибся он?
— А совет большого дома? Есть такой совет?
«Вот в чем дело! Всплывает дело Кирки. Какие неприятности!»
Сколько ночей Пиапон не спал из-за этого несправедливого брака, несправедливость, глупость которого он осознал только в Хабаровске, на первом туземном съезде. Вернувшись из Хабаровска, он стал приглядываться к жизни Кирки с Исоакой, но жили они мирно, только Кирка перестал смеяться, начал сторониться сверстников. Поговорил тогда Пиапон с его отцом, и Калпе заверил его, что сын доволен всем, а что стал молчальником — это признак превращения юноши в мужчину. Пиапон не знал, как поступить, чтобы расторгнуть несправедливый брак.
— Да, Лена, есть такой совет, — ответил он.
— Так вы председатель того и другого совета?
— Ты, дочка, говори прямо, собралась меня бить, так бей. Жертву не мучают, должна знать — дочь охотника.
— Два совета в стойбище. На совете большого дома вы решаете так, а в сельсовете по-другому.
— Нет, не так. Ты видела дерево, когда два ствола растут из одного корня? Я никогда не походил на такое дерево, никогда не разделялся. Если ты говоришь о Кирке, так скажу тебе. На совете большого дома я сказал, пусть женится. Потом как председатель сельсовета тоже сказал, пусть женится.
— Вы не должны были соглашаться на брак.
— Да, не надо было соглашаться, это я понял позже, но ничего уже не мог сделать.
— Но у вас же власть.
— Власть? Ею как палкой пользоваться?
— Нет, зачем же, — Лена растерялась.
— Ничего я не мог придумать. Ему самому надо было что-нибудь предпринять. — Пиапон кивнул в сторону Кирки. — Сейчас тоже не знаю, что сделать. У меня лицо горит от стыда, когда подумаю, какую глупость мы совершили, старым законам подчинились.
— Но у них нет свидетельства о браке.
— Хочешь сказать, поэтому они могут разойтись. Какая бумага, хоть имей она десять печатей, может удержать людей, если они захотят разойтись? Ты это понимаешь?
— Кирка, ты сам согласен жить с женой? — обратилась Лена к помощнику.
— Нет, — ответил Кирка.
— Ну вот, слышите, он не хочет.
— Слышу, да что я сделаю, если он сам ничего не предпринимает? Наш разговор — пустой разговор, только мне больно да ему тошно. Если хочешь, дочка, помочь ему, то выходи за него замуж.
— Замуж? — глаза Лены округлились, как у совы.
— Да, замуж — и весь разговор. Ты же хочешь ему помочь, вот и помоги. Я выдам вам бумагу с печатью, и живите. Кирка, как ты?
Кирка как сидел с опущенной головой, так и остался сидеть, ничего не ответил, только в груди его вдруг тепло разлилось да руки задрожали. Но ничем не выдал он своего волнения, руки сжал в кулаки, и они перестали дрожать.
— Знаете что, вы не председатель сельсовета, вы сводник, сваха! — выкрикнула Лена и выбежала из конторы.
Пиапон изумленно посмотрел ей вслед и поморщился.
— Вот сколько беды с тобой, Кирка, — горестно проговорил он. — Обиделась. А что обидного? Не хочешь выходить, так и скажи, зачем же обижаться? С ними, с грамотными, трудно, мысли свои им не выскажи вслух, обижаются. Что же с тобой делать, а?
— Не знаю, дед.
— Я должен теперь за тебя знать?
— Дед, я уйду от нее. Она сама советует, ей тоже стыдно.
— Сама советует? Ну, молодец Исоака, умница, поняла, что наступили новые времена. Ну а ты?
— Может, мне уехать куда?
— Правильно, езжай-ка учиться. Езжай на доктора учиться, доктор нам нужен. Ох, как легко стало мне, нэку, будто какой большой груз ты снял с меня. Собирайся в дорогу. Найди Лену, скажи, что уезжаешь и не собираешься на ней жениться. А с Исоакой хорошо попрощайся, когда будешь уезжать, умница она.
Кирка выбежал из конторы и увидел на берегу Лену. Он подошел к ней.
— Не обижайся на деда, — сказал он.
— На какого деда? — удивилась Лена.
Она еще не познакомилась с жителями Нярги настолько, чтобы знать все родственные связи, и потому не догадывалась, что половина стойбища дети, внуки и правнуки Баосы.
— Не обижайся на отца Миры, он просто высказал свои мысли вслух, — продолжал Кирка, — а я уезжаю учиться на доктора.
Лена взглянула на него и сама засмеялась: такое было смешное лицо у Кирки.
— Молодец! — сказала она. — Это он посоветовал?
— Нет, жена сперва сказала. Ночью сегодня.
— Вы расходитесь? Чего же ты молчал?
— Зачем говорить? Это наше дело. Да ты еще встретила меня насмешками. Это хорошо?
— Виновата, Кирка, прости. Но я не удержалась, думала, неужели ты такой глупый, что тебя по старым законам насильно женили, а ты терпишь. Зло взяло на тебя, потому так встретила.
— Теперь довольна?
— Очень довольна! Ты даже не знаешь, как довольна. Это ведь и моя победа в борьбе за новое.
— Ты хорошая, Лена, честная...
— Сам теперь свататься будешь? У меня муж есть, он учится в Хабаровске, закончит, и мы будем опять вместе.
— А здесь кто будет учить детей, деду помогать?
— Другую пришлют, Кирка.
Лена опять повеселела, а Кирка, наоборот, замолчал, он обиделся на учительницу за то, что она, не приступив к работе, уже собиралась покидать Нярги. С таким настроением, думал он, разве будет она стараться, чтобы все дети быстро выучились грамоте. Конечно, нет.
В полдень из Джуена вернулась Нина Косякова, она тут же познакомилась с Леной Дяксул. Пиапон пригласил девушек к себе на обед. Пришел и Холгитон, которому хотелось послушать умный разговор, Нина рассказывала о своей поездке в Болонь, Джуен, о встречах, передала все поклоны и обратилась к Холгитону:
— Дедушка, я собираю всякие легенды, сказки. Мне Пота и Идари сказали, что лучшего сказочника, чем вы, на Амуре больше не найти. Так что за чаем расскажите что-нибудь, чай слаще будет.
И Холгитону, пришедшему послушать умный разговор, пришлось самому рассказывать легенду.
— Вон на той гористой стороне видишь мыс? — начал он. — Там есть залив. Место называется Чиора. А в заливе, где обрыв, есть дыра. Сколько длиной эта дыра, куда идет — никто не знает. Дыру эту пробили рыбы. Ты всех наших рыб видела? Заметила, у какой рыбы какой нос? Вот там, когда пробивали эту дыру, там и попортили они свои носы. Первой похвасталась калуга: «Я самая большая на Амуре, я царица реки, кто сможет пробить скалу, кроме меня?» Рыбы молчат, царица ведь говорит. У них, у рыб, тоже есть это послушание всяким царям, начальникам, судьям. Молчать-то молчат, а у каждой, даже захудалой рыбешки, свой царь в голове, свое, значит, на уме. «Смотрите», — сказала калуга, разогналась, ударила своим острым носом в скалу и замерла. Смотрят рыбы, у калуги нос загнулся кверху и сопли застыли на носу. Вот почему у калуги нос загнут наверх да мягкий, сопливый. Ничего не могла вымолвить калуга, отошла.
«Кто найдется на Амуре храбрее меня? — это щука заявляет, и, правда, она храбрая. — Я пробью дыру». Разбегается щука и бьет носом в скалу, а в скале дыра, попала щука в дыру. Смотрят рыбы, правда щука пробила дыру, а не догадываются, что хищница попала в готовую. Кое-как вытащили ее. С тех пор у щуки нос острый. Ну кто после щуки другой храбрец? Конечно, сом.
«Слабаки, — говорит сом, — болтают, болтают, а дыру не могут пробить в песке. Вон пескарика попросили бы». А пескарик назад, назад и спрятался. Лучше уж подальше от сома. Вот сом уже мчится на скалу. Бац! Смотрят рыбы, пробил сом дыру. А сам он ни-ни-ничего не может сказать, только хвостом бьет. «От радости, что дыру пробил», — думают рыбы и не догадываются, что сом попал в расщелину. Кое-как вытащили его. С тех пор у сома нос расплющенный в лепешку. Кроме хвастунов на Амуре много других, скромных, рыб. Они молча пробуют свои силы. Толстолоб, сазан, амур, карась один за другим пробовали пробить скалу. Не смогли. Вот почему у них носы такие. Тут приплывает опоздавший хвастун, верхогляд. «Что, силенок не хватает? — спрашивает. — Носишки сплющили? Не можете, не беритесь. Смотрите, как надо». Разбегается верхогляд, серебряной стрелой летит. Как ударит! Все рыбы ахнули. Верхогляд ударить-то ударил скалу, а почему-то замер после удара, то ли обдумывает, то ли обнюхивает скалу. Не догадываются рыбы, что он сознание потерял. Пришел верхогляд в себя, обернулся, и все рыбы замерли в изумлении: нос верхогляда совсем задрался кверху и глаза — наверх.
После верхогляда никто не захотел свою силу пробовать. Собрались рыбы расходиться. Тут выходит вперед желтощек и скромно говорит: «Если вы, друзья, разрешите, я попробую». А рыбам что, им охота посмотреть, как всякому человеку...
Тут Нина слегка подтолкнула Лену, заинтересовало ее, как старик очеловечивает рыб.
— Отходит желтощек на расстояние, примеривается и серебряной баторской стрелой летит на скалу! Так летит, что некоторые рыбы даже не заметили, что это желтощек пролетел. Раздался гром под водой, многие мелкие рыбешки, вроде синявок, вверх брюхом всплыли. Смотрят рыбы — нет желтощека. Куда подевался? Потом видят — дыра, а из дыры весело выплывает желтощек. И нос ничего, какой был, такой и есть. Так рыбы среди своих разыскали батора. Батора надо наградить, вот и решили наградить его золотой бляхой. С тех пор желтощек носит на щеке золотую бляху.
— Как здорово, дедушка! — воскликнула Нина. — Жаль, я не записала ничего, заслушалась.
— Повторю, — пообещал Холгитон.
— Только точь-в-точь...
— Ты что это? Сказки и легенды — это просто так, один раз так расскажешь, в другой раз — по-другому, так думаешь? Нет, у нас сказки и легенды слово в слово повторяются. Если не запоминаешь — нечего их портить, нечего их рассказывать.
Старик Холгитон обиделся и ушел.
— Ничего, расскажет, — усмехнулся Пиапон. — Лена вот утром на меня рассердилась, а потом сама отошла. Верно?
Лена засмеялась. Дярикта подлила им горячего чаю. — Нина, неужели латинизация будет в нанайском алфавите? — спросила Лена.
— Да, все идет к этому. Ученые настаивают, говорят, что только латинские буквы передают всю гамму звучания нанайской речи.
— У меня букварь с русским алфавитом, нынче я по нему буду обучать детей, а потом переучивать их придется...
Пиапон прислушался к разговору девушек, но ничего не понял и подумал: «Зря ушел Холгитон, вот когда начинаются умные разговоры».
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
С каждым днем все мрачнее становился Гида: не возвращалась Гэнгиэ, уехавшая к родителям в Болонь погостить. Загрустил Гида, подолгу с тоской смотрел на озеро в сторону Амура. С первого дня женитьбы он старался не расставаться с любимой Гэнгиэ, из-за нее раньше всех возвращался из тайги, из-за нее сбежал от партизан, к которым был поставлен проводником. Любил Гида Гэнгиэ так же, как и в первые дни женитьбы, все самое лучшее, что покупал, отдавал ей. А первая жена Онага, хотя растила двух славных мальчиков, любимцев Токто, была в доме почти на положении работницы. Много раз Гэнгиэ просила Гиду, чтобы он внимательней, нежней относился к Онаге, но он только отмахивался. Ему всегда казалось, что Гэнгиэ любит его так же сильно, как и он ее. А тут засомневался: если бы любила сильно, разве могла бы так долго оставаться у отца?
Бедная Онага ластилась к нему, пользуясь отсутствием любимой жены, но не получала и четверти того внимания и любви, какие были до появления Гэнгиэ. Онага смирилась со своей судьбой, растила детей, мечтала о дочери, с которой бы она возилась, как с куклой, и не надо тогда ей ни Гиды, ни любви его. Она была беременна и, по подсчетам, должна рожать после кетовой путины.
— Ты хочешь дочь? — шептала она, обнимая мужа. — А? Не хочешь? Какой ты... А я хочу дочь, только дочь. У нас двое сыновей, они уже кашевары, а мне дочь нужна, помощница...
Но Гида думал о Гэнгиэ, и ему не нужен был никто, ни сама Онага, ни дочь, которую она ожидает.
— Спи, — обрывал он ее, — я думаю о рыбалке.
Онага покорно замолкала. Что ей оставалось делать?
Вернется Гэнгиэ, и опять Гида будет ложиться к ней только от случая к случаю.
На одиннадцатый день вернулись из Болони гостившие там джуенцы и привезли ошеломляющее известие: Гэнгиэ в Болони нет.
— Отец, поедем искать ее, — заявил потерявший голову Гида. И добавил жестко: — Ты женил меня на ней, поедем вместе.
Токто почесал в затылке, сказал, обращаясь к Поте:
— Помнишь, как Баоса за тобой и Идари гонялся по всему Амуру? Я смеялся тогда: вот Баоса гоняется за вором, а мне не придется, детей-то нет. Теперь придется за невесткой вот погнаться.
В Болонь выехали на трехвесельном неводнике. Когда подъезжали к стойбищу, Токто задумался, как ему пристать к берегу — носом или кормой? Если кормой — это к ссоре, драке. Но, может, Лэтэ не виноват? Тогда получится совсем нехорошо. И Токто пристал носом. Лэтэ встретил Токто возле дома. Они обнялись, похлопали друг друга по спине.
— Где Гэнгиэ? — сразу спросил Токто.
— Как где? — удивился Лэтэ. — В Джуене, где еще ей быть! — Заметив суровость приехавших, он растерянно добавил: — Разве она не у вас?
— Она приезжала сюда?
— Приезжала, побыла день и на следующую ночь уехала.
— С русской девушкой уехала?
— Нет, с русским мужчиной... Девушка тут оставалась.
— Как, с мужчиной? — встрепенулся Гида. — С мужчиной уехала в ночь? Что ты говоришь?
Вышла мать Гэнгиэ; она еще больше потолстела, волосы стали совсем белыми.
— Я ее провожала, лодка направилась в вашу сторону, — сказала она. — Я долго стояла, смотрела.
Гида ничего уже не соображал, он видел только жену с русским мужчиной. Ну, конечно, она сбежала с русским! Куда она могла сбежать? На Харпи? Но там все наши, они не проскользнут мимо них. Куда еще? В русское село Тайсин! Да, только туда могли сбежать.
— Поехали в Тайсин!
Это маленькое русское село находилось на берегу озера Болонь, в глубоком заливе. В Тайсине русский с Гэнгиэ не появлялись.
— На Харпи едем, — сказал Гида.
— Русский — это тебе не нанай, — подумав, возразил Токто. — На Харпи ему нечего делать.
Они возвратились в Болонь.
— Нас обманули, у нас украли Гэнгиэ, — сказал Токто Лэтэ. — Не русский мужчина украл, а советская власть украла. Я понял теперь все. Они к ночи выехали в сторону Джуена, а когда стемнело, спустились обратно и поехали в Маямыж, а оттуда в Хабаровск. Так я думаю. Ты, Гида, будь мужчиной, ничего... А ты, отец Гэнгиэ, что думаешь дальше делать?
— Не знаю, — ответил Лэтэ.
— Ты в сговор с советской властью. Ты решил отобрать у Гиды дочь, потому что он двоеженец, а по новому закону нельзя иметь две жены. Вот ты и решил отобрать дочь...
— Что ты говоришь, Токто?
— Все, что думаю. Как ты мог поверить, что твоя дочь, на ночь глядя, поехала с русским мужчиной в Джуен?
— Она сказала...
— Мало ли что она могла наговорить, но она не смогла бы убедить тебя, если бы ты не был в сговоре. Ты ведь знал, что русский собирает молодых людей. Нашего Богдана они уже оставили у себя, он никогда больше не вернется к родителям. Твою Гэнгиэ тоже теперь сделают русской и оставят у себя насовсем. Ты этого хотел?
— Нет, не хотел! — закричал Лэтэ.
— Кричать начал? Теперь я убедился, ты этого хотел. Я с тобой буду судиться: ты нас обманул, взял за дочь тори, а сам ее уговорил уехать. Выходит, ты отобрал ее от нас и тори не возвращаешь...
Лэтэ молча глядел в круглое, чуть морщинистое лицо Токто. Токто, перед которым еще совсем недавно преклонялись все охотники Амура. Еще бы! Кто был храбрее Токто? Кто победил хозяина тайги? Кто бросил вызов богу — эндури? Этого даже в мыслях не смел никто делать. И этот Токто теперь выглядел совсем иначе. Храбрым он остался, он бросает вызов советской власти, обвиняет ее в краже своей невестки. Но где его ум?
— Тори советской властью запрещены, — сказал Лэтэ.
— Ты все равно вернешь тори! Судиться будем.
— Будем, а я не верну. Когда советская власть выгоняла торговцев, она сказала нам: «Охотники, У обманщик, он всю жизнь обирал и обманывал вас, все долги ваши — пустое дело, не отдавайте ему долги». Так было, ты сам знаешь. Теперь советская власть скажет: «Женщины — люди, запрещается их продавать, покупать». Вот так. И все поймут, может, ты один только не поймешь...
— Все вы амурские считаете себя шибко умными, а нас, озерских, глупыми.
— Ты сам глупо не веди себя. А про дочь я, честно говорю, ничего не знаю. Теперь беспокоюсь. Может, этот русский увез ее, чтобы жениться...
— Я его убью! — закричал Гида. — Я поеду в Хабаровск, разыщу его и убью!
— Беспокоюсь о дочери, — продолжал Лэтэ. — Эта русская девушка должна знать, наверно, должна знать. Она сейчас в Нярги. Надо к ней съездить...
Чтобы застать в Нярги Нину Косяюву, выехали немедленно. Обиженный Токто не промолвил ни слова. Гида понял, что навсегда потерял любимую жену, и молча плакал. Никто не видел в темноте его слез. Рано утром, приехали в Нярги. Пиапон встретил их на берегу.
— Ночью охотников гоняет только большая беда, — сказал он, поздоровавшись. — Что случилось, Токто?
— Где русская девушка? — спросил Токто.
Разбудили Нину, она ночевала у Лены.
— Где Гэнгиэ? — спросил Токто.
Увидев джуенцев и среди них почерневшего от горя Гиду, Нина сразу поняла, зачем они разыскивали ее. Всю дорогу от Джуена до Болони она вместе с Гэнгиэ составляла план побега молодой женщины в Ленинград.
— Сейчас должна быть в Москве, — ответила она.
— Ты отправила ее?
— Нет, она сама уехала. Она хочет учиться.
— Врешь, ты уговорила!
— Вы на меня не кричите, товарищ Токто. Я узнала, что она хочет сбежать от мужа, только когда мы выехали из Джуена.
— Почему ты не сообщила об этом мне? — спросил Лэтэ.
— Она просила никому ничего не говорить.
— Ты преступница! Тебя надо судить! — кричал Токто.
— Судить меня ты не можешь, а я, когда вернусь к вам в Джуен, буду кое-кого судить.
— Ты хочешь вернуться в Джуен, зачем?
— Жить.
— Никто с тобой не станет жить, все разбегутся.
— Там будет видно.
Токто отвернулся от Нины и зашагал на берег. Его догнал Пиапон, предложил кисет. Они сели на остывший за ночь золотистый песок и закурили.
— Зачем я только ходил в партизаны, — заговорил Токто. — Зачем воевал за эту советскую власть.
— Не один же ты воевал, — усмехнулся Пиапон.
— Знал бы все, что потом случится, не пошел бы воевать. Откуда пришла бы мысль Гэнгиэ сбежать от мужа и уехать в город, который даже во сне не снился ей, если бы не эта власть? Зачем все это делает новая власть? Ну, хсроши выгнала она обманщиков-торговцев, облегчила нам жизнь, хватит, на этом спасибо. Но зачем нам новые законы? Такие законы, что жена не боится мужа, бежит от него...
— Я думаю, Токто, это только начало.
— Так ты думаешь? А что дальше будет? Женщины на головах будут ходить? Нет, хватит этого нового, я уже сыт им но горло. А еще эта русская обещает приехать в Джуен жить. Нет, Пиапон, я, наверно, убегу на Харпи.
— Куда убежишь, ведь на всей нашей земле советская власть. Никуда не убежишь.
Токто замолчал, верные слова говорит Пиапон, никуда не убежать от новой власти. Если даже и убежит кто, то вернется, как возвращаются убежавшие от хозяев изголодавшиеся собаки. Но жить невыносимо, когда рушатся обычаи, привычки, законы, по которым ты жил и собирался жить всю жизнь. Свободного охотника, как какого-нибудь зверя, обкладывают кругом всякими законами, которые ему не по душе, заставляют поступать против своей воли.
— Скажи, нельзя как-нибудь вернуть Гэнгиэ?
— Как вернешь, если она уже в Москве. Я думаю, что она поехала в Ленинград, туда, где наш Богдан учится.
— Ты так думаешь? Если с Богданом рядом будет... Ах, какая разница! Сбежала, сука, ее так любили, а она сбежала. Эта вон, — Токто обернулся и потыкал пальцем в сторону Нины, — она во всем виновата.
— Ее советская власть послала, чтобы лучше научилась нанайскому языку и книгу на нашем языке написала.
— Пусть пишет, пусть учится, но зачем чужих жен подбивать на такую подлость? И все это от вас, умников.
— А я при чем? — засмеялся Пиапон.
— Вы, умники, соглашаетесь с советской властью, если бы не соглашались, не было такого бы.
— Мы соглашаемся потому, что хотим новой жизни. Соглашаемся и делаем все, чтобы быстрее настала новая, хорошая жизнь.
Бесполезно спорить с Пиапоном, что ему ни говори, у него всегда найдется ответ и он всегда окажется прав. Токто опять стал думать о Гэнгиэ, что она теперь находится далеко-далеко, в какой-то Москве, о которой никогда раньше никто из нанай не слышал. Что за город такой? Хоть бы краем глаза посмотреть на него. Но зачем ему, Токто, этот город? Вот дурость какая, сбежала невестка в этот город и ему хочется вслед за ней взглянуть на него. Надо же так. Старый человек, и такие глупости лезут в голову. Тебе нигде уже не побывать, твои следы дальше Амура никуда не пойдут.
— Первую осень колхозную кету ловить будем, — сказал Пиапон. — А у вас как?
— Какой колхоз, когда люди разбросаны, в одном месте одна семья, в другом — три, в третьем — четыре. Как их объединишь? Не знаю, Пота собирает людей. А у вас уже колхоз?
— Уже колхоз.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В районе Пиапону сказали, что Ултумбу тяжело заболел, лежит в больнице в: Хабаровске, и Пиапон сам должен организовать колхоз, потому что подготовка проделана, а учительница составит протокол собрания.
На обратном пути Пиапон заехал к Воротину и застал его с высоким, широкоплечим человеком. Пиапон узнал переводчика Дубского, которого видел на первом туземном съезде. Дубский требовал продовольствия, а Воротин не признавал его претензии законными.
— Ничего вы не можете требовать, — сказал Воротин. — Я отпускаю продовольствие и товары только охотникам и рыбакам за пушнину и рыбу.
— Прописные истины не следует мне повторять, — жестко проговорил Дубский. — Вы дадите мне продовольствие.
— Только за пушнину.
— А я имею право получить требуемое и без пушнины.
С этими словами Дубский резким движением достал из кармана бумажник, сунул Воротину какой-то документ и зачем-то похлопал правой рукой по заднему карману брюк. И тут только Пиапон заметил торчавший из-под пиджака конец желтой кобуры нагана.
«Кто он теперь такой, почему с револьвером ходит?» — подумал Пиапон и пошел к двери.
В сельсовете было пусто, за председательским столом сидел Митрофан. Друзья поздоровались.
— Готовы столы, скамейки для школы? — спросил Пиапон.
— Сказал я тебе — не подведу, к сроку все будет сделано, — усмехнулся Митрофан. — Слышал новость? Я собираюсь раскулачивать наших куркулей.
— Есть такое указание, что ли?
— Есть ни есть, мне надоело с ними возиться. Хватит. Больше десяти лет советской власти, хватит им при ней богатеями жить, не за тем люди воевали.
— Плохо тебе не: будет?
— А чего плохо? У куркулей отобрать, их богатство — плохо? Надо! Так я понимаю.
Митрофан успокоился, друзья поговорили о своих делах, о семьях, и Пиапон заторопился к Воротину.
— Слышал, Пиапон, наш разговор? — спросил Борис Павлович. — Плохой он человек, я бы не хотел больше с ним встречаться. Не знаю, каков он как ученый, но человек... Он к вам тоже заедет, делает какую-то этнографическую перепись нанай.
— Скажи, Борис, разве нас можно называть туземцами? Девушка из Ленинграда говорит, что это оскорбительно. А он называл...
— Правильно, Пиапон, нельзя. Да и тем, кто так называет, должно быть стыдно. Вы советские граждане, маленький советский народ, имеете свое имя.
— Теперь я всем своим буду об этом говорить, чтобы больше нас не обзывали, мы, скажу еще, колхозники. Ты поедешь к нам организовывать колхоз?
— Некогда сейчас, дел много.
— Скажи, какая нынче цена будет на кету?
— Такая же, как и в прошлую осень, высокая. Рыбу станете сдавать на свой рыбозавод, там же будут платить вам деньги. Теперь рыбаки научились с деньгами обращаться, надо в Нярги магазин открыть, чтобы люди не ездили за продуктами сюда. На рыбозаводе вот-вот начнет работать пекарня, хлеб станете там покупать. Так что, Пиапон, жизнь налаживается.
— Хорошая идет жизнь, Борис!
— Давай руби дом под магазин, под склад, как закончишь, так и откроем магазин.
С этими новостями вернулся Пиапон в стойбище, собрал записавшихся в колхоз и рассказал о своей поездке в Вознесенское, сообщил все новости, чем обрадовал охотников.
— Будем колхоз организовывать, — закончил он. Лена переписала охотников, вступивших в колхоз, членов их семей. Составила протокол собрания. Няргинцы решили назвать свой колхоз «Рыбак-охотник».
— Мы будем рыбу ловить и охотиться. Хорошее название, — заявили они.
Председателем колхоза избрали Пиапона, а когда встал вопрос, кем его заменить на посту председателя сельсовета, назвали Хорхоя. Тут же подсчитали, сколько больших неводов колхоз может выставить на путину, и распределили рыбаков на эти невода. Получилось три бригады. Избрали бригадиров: Калпе, Улуску, Годо.
После собрания Пиапон передавал сельсоветские дела Хорхою. И опять Лена писала бумагу с коротким и все равно непонятным названием «акт». Когда Пиапон подписывался под этой бумагой, Лена усмехнулась и сказала:
— Неправильно вы имя пишете. Кто научил?
— Почему неправильно? — удивился Пиапон.
— Вас зовут Пиапон, а вы написали Пе-я-пом. Слышите, как? Пе-я-пом.
Пиапон строго взглянул на своего бывшего учителя, и Хорхой опустил голову. Лена засмеялась.
— Ничего, товарищ председатель колхоза, будем учиться.
— Будем, когда будем? Столько свободного времени раньше было, а теперь? Солнце по небу прямо бегом бежит, оглянуться не успеешь, оно уже за ледяные горы спряталось. Когда тут учиться?
— Ничего, я вам буду буквы выписывать, а вы их заучивайте между делом. Запомните все буквы — все будет хорошо.
В начале сентября колхозники выехали семьями на тони. На незанятые тони приехали те, кто отказался вступать в колхоз. Рядом с бригадой Улуски расположился Полокто с многочисленным семейством.
— Отец Ойты, вступай в колхоз, у тебя же готовая бригада, — посмеивался Улуска, довольный и гордый тем, что его избрали на высокую должность бригадира.
— Без твоего колхоза обойдусь, — огрызался Полокто.
— Единоличник, — беззлобно выговаривал с трудом запомнившееся русское слово Улуска и широко улыбался.
— Ты у меня пообзывай еще. Посмотрим, кто больше поймает.
— А чего смотреть? У тебя неводишко, а у нас неводище из трех таких, как твой.
Гордый Улуска впервые в жизни мог подтрунивать над Полокто, которого всегда побаивался.
Был среди бригадиров и другой счастливый человек. Это Годо. Когда его утверждали бригадиром, рыбаки добродушно похлопывали его и говорили:
— Был работником, а как вступил в колхоз, стал бригадиром. Будешь теперь нами понукать. Ишь как.
Годо улыбался, он был бесконечно счастлив доверием колхозников. Невод Холгитона он забрал в свою бригаду и подшил к трем другим неводам. Старик теперь числился в бригаде своего бывшего работника. В первые дни, когда рыбаки делали контрольные заметы, старик сидел на берегу и наблюдал за притонением. Рыбы не было, и он требовал, чтобы невод немедленно вытаскивали на вешала, на просушку. Когда укладывались первые десятки саженей, он смотрел с безразличием, но когда начинался его невод, глаза его загорались и он кричал:
— Что делаете?! Что делаете?! Почему так густо складываете, реже надо, реже. Не понимаете, что ли? Я десять лет вязал этот невод, а вы его за одну осень сгноите. Реже складывайте...
Это повторитесь изо дня в день и вскоре так надоело рыбакам, что они заявили: либо Холгитон пусть едет домой, потому что какой из него рыбак, либо забирает свой невод.
— Сучьи дети! — рассердился старик. — Десять лет я готовил невод, коноплю, нити из нее. Вам сейчас готовые сети, целые невода обещают, разве вы поймете, как я десять лет вязал этот невод? Нипо, Почо, Годо! Снимите наш невод, мы будем отдельно рыбачить. Мы выходим из колхоза!
Нипо с Почо послушно вытащили ножи и начали отделять свой невод от остальных. Годо не тронулся с места.
— Годо, а ты чего стоишь?
— Он бригадир, он уже не твой работник, — сказал кто-то.
Холгитон сплюнул и начал помогать сыновьям. В тот же день он свернул свой хомаран и уехал на свободную тонь.
— Ума лишился старик, — сказали рыбаки и похвалили Годо.
— Нет, он умный, — ответил Годо. — Вы не понимаете его, а я-то знаю, о чем он думает. Я знаю, как он готовил невод, я ему много помогал. Он не невод, может, жалеет, он свой труд жалеет.
Пиапон, узнав о новом капризе Холгитона, сказал:
— Старый дьявол! Ну погоди, попросишься обратно в колхоз! — и спросил Годо: — Как же теперь ты? Маловато людей.
— Да и невод покороче, — засмеялся в ответ Годо.
— Ты молодец. Как теперь с Холгитоном?
— Не знаю. В другой дом, наверно, уйду.
— Супчуки и дети не отпустят. Ладно, пока нет рыбы, съезди к нему и уговори вернуться, скажи, что, если сейчас не вернется, потом будет поздно.
Годо тут же сел в оморочку и выехал.
— Проведать приехал или вместе рыбачить? — спросил Холгитон.
— Разговаривать приехал, — ответил Годо.
Супчуки и ее сыновья радостно встретили Годо, только Холгитон не выказал радости, хотя и был доволен его приездом. «Прав он, чего мне на него сердиться, — думал старик. — Вон какое ему доверие, бригадиром избрали, выходит, его уважают люди. Человек-то он неплохой».
— Не уговаривай, в бригаду не вернусь, — сказал он.
— Как же будете рыбачить? Тяжело ведь.
— Помощи не попросим.
— Мало наловишь, наперед знаю. Закинешь невод раз, два, поймаешь лодку рыбы и повезешь на рыббазу. Туда-сюда — день. А еще неизвестно, примут у тебя рыбу или нет, потому что сначала примут у колхозников, потом у тебя. Пиапон сказал так: возвращайся, пока не поздно, иначе обратно в колхоз не примет, — и, заметив упрямство в глазах старика, Годо добавил от себя: — Да и дом один без помощи людей не достроишь.
— Это не его дело, пусть сгниет недостроенный дом!
Все вышли на берег провожать Годо. Холгитон наблюдал, как сыновья обнимались с Годо, и ему стало душно, будто кто сжал ему горло. Он отвернулся. А ночью он лежал с открытыми глазами и думал о своей жизни, о жене, о Годо и детях. Мысли эти промелькнули, будто стая уток пролетела над головой и исчезла за тальником. Что думать о прошлом, жизнь уже прожита. Что думать о Супчуки, Годо и детях? Это одна семья, а Холгитон посторонний, на словах он только глава этой семьи. Лучше думать о будущем, хотя неизвестно, сколько он еще протянет, сколько попортит крови детям, Годо и этому же Пиапону. Он ведь знает, как не хотелось уходить из бригады Нипо и Почо, они молодые, а молодых всегда тянет к людям. Зря, конечно, он оторвал их от хороших людей. Да и Годо прав, кругом прав. Но что теперь делать, с какими глазами возвращаться в бригаду?!
Недолго выдержал Холгитон. Когда пошла кета, он отвез первый улов на рыббазу, проторчал там день, и приняли у него рыбу третьим сортом, объяснили почему, будто сам он, старый рыбак, не знает почему. А за это время бригада Годо дважды приезжала сдавать кету, потому что часть рыбаков оставалась на добыче, другая — отвозила. Вернувшись на тонь, Холгитон молча стал свертывать хомаран, и домашние поняли, что наконец-то старик сдался. Так же молча он вернулся в бригаду, вновь поставил на место хомаран, сам подшил свой конопляный невод к общему. Рыбаки и Годо тоже молчали и делали вид, что все идет по договоренности. Только приехавший проведать бригаду Пиапон не выдержал.
— Так тебя, старого черта, и надо учить! — сказал он в сердцах. — Ты похож на тот травяной мяч, которым играют дети: летает этот мяч от одного игрока к другому, кому зацепится на трезубец, кому — нет. Окончательно ты теперь зацепился?
— Ругай, отец Миры, ругай, — соглашался Холгитон, — жалко невод стало.
— Пожалел!.. Нынче много рыбы если поймаем, в следующем году купим новые невода. Кто тогда позарится на твой конопляный? Тьфу! Из-за невода то в колхоз, то из колхоза, как какая распутная женщина, то к одному мужу, то к другому.
Холгитон все выдержал. Никто никогда его так оскорбительно не сравнивал с травяным мячом, с распутной бабой, но он выдержал, потому что пережил свой позор еще тогда, когда сидел на лодке у приемного пункта рыббазы, когда не принимали у него улов, обходили, как прокаженного. Ругань Пиапона он слушал даже с некоторой долей удовлетворения.
— Что такое колхоз, ты еще поймешь, старый черт! Ты знаешь, рыббаза получила катер, два кунгаса. Это значит, что рыбаки теперь будут сидеть на тонях и ловить кету, а катер с кунгасом будет собирать их улов. Вот как! Чувствуешь?
Когда появился старенький катер с кунгасом и принял кету, все почувствовали облегчение — грести не надо! Не важно, что катер еле ползет против течения, главное — грести не надо!
— Эй, отец Ойты, смотри, как у нас! — кричал, раззадоривая Полокто, счастливый Улуска. — Мы на пароходе рыбу отвозим. Подцепляй лодку, но мы еди-ноли-чни-ков не подцепляем.
С каким удовольствием и старательностью выговаривал Улуска это трудное русское слово! И запомнил-то он его только для юго, чтобы досаждать Полокто. Старый катерок успевал кое-как один раз за день объехать тони, потом рыбакам приходилось самим отвозить улов, опять грести против течения, тянуть бечевой, где представлялась возможность, но они все равно были довольны и с еще большей радостью встречали свой катерок. И опять Улуска дразнил Полокто:
— Эй, отец Ойты, подцепляй лодку! Да мы...
Однажды, уже в конце путины, когда было ясно, сколько добыли колхозники и сколько единоличники, не выдержал старший сын Полокто Ойта, прибежал к Улуске.
— Хватит, аоси, не дразни, разве мы по своей воле не с вами?
— Мое какое дело, по чьей воле ты еди-но-личник. Большой, детей нарожал, сам голову должен иметь.
— Не дразни. Сам знаешь...
— А я не дразню. Ты тоже из-за лошадей, как отец, в колхоз не идешь?
— Сам знаешь.
— Дурак, заладил одно. Иди в колхоз, не слушайся его. Смотри, как мы вместе весело живем.
Когда Пиапону передали этот разговор, он подумал: «Если даже Улуска начал убеждать, то дело пойдет».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Озерские нанайцы тоже сколотили колхоз, но сами по.-ка не знали, колхоз у них или несколько артелей. Выехали они на кетовую дружно, бригады составили по стойбищам — джуенцы, хурэчэнцы, сэпэриуны и тогда мунгали. Каждая бригада считала своего бригадира председателем колхоза. Только после встречи с Воротиным, когда он растолковал, что нельзя организовывать такие мелкие колхозы, озерские единогласно избрали председателем Токто, а колхоз назвали «Интегральный охотник» по предложению Бориса Павловича, хотя никто не знал, что означает слово «интегральный». Им было лестно, что название колхозу дал пушной начальник, и название это очень длинное, красивое и таинственное.
Кеты озерские колхозники поймали не меньше, чем амурские, и возвратились в свои стойбиша с нагруженными продовольствием и товарами лодками. Теперь и озерские нанайцы, как и амурские, стали независимы от зимней охоты — их кормила рыба. Конец сентября и начало октября, месяц петли по-нанайски, — самая горячая пора для охотников. Токто с Потой, облеченные теперь властью, гадали, можно им или нельзя выезжать в тайгу на охоту.
— Мне можно, все охотники уходят в тайгу, и я должен быть с ними, — заявил Токто.
— Я тоже пойду, пока лед не станет на Амуре, сюда районные начальники не явятся, — вывернулся из трудного положения Пота. — В конце декабря вернусь.
Решили жить вместе в одном большом зимнике. Внукам Токто надо было идти в школу, но в Джуене школу не открывали, не хватало в районе учителей, поэтому брали с собой и внуков. Начались горячие сборы, и в это время приехала в стойбище незнакомая нанайка, назвалась Сайлой Самар из Нижних Халб.
— Из Нижних Халб? — спросил Токто. — Чья ты дочь?
— Дочь Понгсы, — ответила гостья.
Понгса Самар — бывший кровник Токто, с которым он помирился, когда партизаном ходил на Де-Кастри.
— Мы с твоим отцом кровники, наши отцы затеяли драку, братья продолжали, все погибли.
— Слышала, — улыбнулась Сайла, — это было так давно, что теперь даже не верится, слушаешь, как сказку. Я езжу по Амуру, рассказываю новую сказку. Соберите всех людей — женщин, детей, стариков.
Собрать людей в стойбище — плевое дело, всем интересно послушать нового человека. Пока собирались джуенцы, Идари накормила гостью, дала свою раскуренную трубку. Сайла ей понравилась с первого взгляда, скромная, опрятная, красивая.
— Сайла, правда ты сказку будешь рассказывать? — спросила Идари.
— Это быль, Идари, и в то же время мне кажется, сон или сказка. Я такое пережила, до смерти не забуду, я там побывала, куда даже во сне не доберешься.
— По глазам видно, какая ты счастливая.
— Да, Идари, я самая счастливая нанайка. Сколько уже рассказываю людям, а все волнуюсь, путаюсь. А, главное, обидно, многого не поняла и не запомнила.
Когда собрались все джуенцы, расселись кто где смог примоститься, Сайла тихо проговорила:
— Я побывала в Москве.
Слова ее для джуенцев прогремели громом. Не было теперь человека среди озерских нанайцев, который бы не знал о Москве. Благодаря Нине они узнали, что Москва — столица Советской страны, что там жил и после смерти лежит Ленин в Мавзолее, что там, в Кремле, работают члены правительства, портреты которых им приходилось видеть.
— В Москве? — одновременно вырвалось у всех.
— Да, в Москве, — подтвердила Сайла.
Услышав это спокойное подтверждение, некоторые охотники все же недоверчиво смотрели на гостью.
— Сталина видела? — спросил Пота.
— Видела.
— Калинина видела?
— Вот так, как тебя, даже ближе, я его руку трясла, здоровалась. Ты только не спрашивай, не перебивай. Видела я наше правительство в большом красивом доме, который называется Большой театр. Там собрались люди. Это была шестая годовщина смерти Ленина. Вот там я всех видела. Со мной была Сура Путинча, русская девушка, она у нас в Нижних Халбах живет, учит нас по-новому, чисто жить. Она показывала мне — это Сталин, это Смидович, всех показывала. А о Ленине говорил один, фамилия длинная, не запомнила...
Сайла потерла висок, стараясь вспомнить докладчика. Нет, она не вспомнила Ярославского, не вспомнила артистов, выступавших после доклада на большом концерте, не запомнила широкоплечего высокого поэта Владимира Маяковского, который читал свою поэму «Владимир Ильич Ленин».
— Поверьте мне, люди, я несколько дней находилась в Москве, но все не могла свыкнуться с этим. Я сидела в большом-большом доме, толкала Суру Путинча и шептала: «Это я, Сайла, дочь и жена охотника-нанай, в Москве? Правда все это или нет? Ну, скажи, Сура, правда это или нет?»
Джуенцы, даже самые неверящие, замолкли, хотя поверить, что простая нанайка ни с того ни с сего вдруг, как в сказке, оказалась в Москве и повидала столько, сколько все джуенцы, вместе взятые, не видели, было трудно.
— Начну лучше сначала. Сура Путинча получила письмо из Хабаровска, что ей надо в Москву ехать с одной нанайкой на большое женское собрание. Халбинцы избрали меня. Это было в прошлом году в декабре. Мы на лошадях добирались в Хабаровск, а там сели в домики на колесах, которые катились по железным полозьям без конца и края, до Москвы ехали по ним. Я ведь раньше из своего стойбиша дальше Бичи не выезжала, а тут едем и едем, а куда — непонятно. Спрашиваю у Суры, где Амур, куда едем? Она смеется и говорит, Амур далеко остался позади, проехали уже несколько таких же больших рек, как Амур. Я, конечно, не поверила. Но едем, едем, а полозья все блестят впереди, всюду города и села. Долго ехали, хотя и очень быстро. Эти дома так быстро бегут, что бедные вороны машут крыльями изо всех сил, а все равно отстают...
— Вороны отстают от дома на колесах?
— Да, отстают. Сама своими глазами видела. Не перебивайте. Вот наконец приехали в Москву- О Москве я не могу ничего рассказать, слов не нахожу. Нас собралось много, со всего Севера, одни женщины.
— Ни одного мужчины не было?
— Да, собрание было женское.
— Верховодить над нами, что ли, собираетесь?
— Нет, не собираемся, мы говорили о новой жизни, как лучше, чище жить.
Идари невольно оглядела землянку, закопченные стены, земляной пол и подумала: «Чище не уберешь».
— Приехали женщины разные. Знакомимся. Про тунгусов мы знаем, соседи. Но я впервые услышала о самоедах, они такие же, как и мы, черноволосые, смуглые. Вогулки и остячки белые, некоторые рыжеволосые. Много мы разговаривали, женщины есть женщины, где бы ни оказались. Они тоже не лучше нас живут. Одинаково. Как и мы, они вторые люди, ниже мужчин. Тяжело живут, потому приехали в Москву обо всем поговорить. Много говорили. Партия большевиков сказала: женщины должны вместе с мужчинами строить новую жизнь, заниматься огородами и выращивать коров, свиней; учиться, чтобы потом учить других, безбоязненно поступать в техникумы, ехать в Ленинград в Институт народов Севера...
— Одна у нас уже сбежала туда от мужа.
— Зачем от мужа бежать? Не надо от мужа бежать, надо незамужним ехать. Все женщины сказали: «Мы хотим жить по-новому». Нам ответили: «Хорошо, посмотрите, как надо жить по-новому». Повели нас на фабрику, где всякие материи делают для халатов, рубашек, штанов. Там одни женщины работают. А куда детей девать? Там есть детские ясли, утром мать приносит ребенка и отдает в ясли, ребенок целый день без матери, чужие женщины за детьми ухаживают. Вы бы посмотрели, женщины, как дети живут там! Спят все отдельно, на чистой белой материи, укрываются под одеялом таким же куском белой материи. Простынь называется. Кормят их так — наши дети не отведали такой еды! Нам сказали, что мы в своих стойбищах тоже должны открыть такие ясли. Потом были мы на другой фабрике, которая выполняет все женские работы, готовит еду. Две машины нам очень понравились, одна картошку сама чистит, другая тарелки моет.
— И не разбивает?
— Нет. Сколько мы ни наблюдали, ожидали, вот-вот тарелку разобьет, нет, не разбила!
— Картошку мы не едим, чистилку нам не надо, а тарелки мыть — это хорошо.
— Нам многое показывали. Были мы в доме Революции, там собраны вещи, которые рассказывали, как победила советская власть, были в доме, где трубы направлены в небо. Я смотрела в трубу, днем видела звезды. Потом опять была в Большом театре, на этот раз смотрела, как полуголые девушки танцевали, но мне не очень понравилось это.
— А мужчинам, наверно, нравится?
— Им что, лишь бы поглазеть...
— Хватит, слушайте! — прикрикнула Идари.
— Однажды вечером нас пригласили в Кремль. Вот где, люди, я увидела Калинина. Узнала сразу. Он тепло с нами поздоровался. Такой он простой, что даже не подумаешь, что он главный человек в стране. Встретишь на улице, наверно, мимо пройдешь, если по портретам не узнаешь. Калинин выступал перед нами, сказал, что мы должны всеми силами строить новую жизнь, во весь голос сказать, что мы равные с мужчинами люди. Слышите, женщины, это сказал главный человек нашей родины. Потом стали говорить сами женщины. Как говорили они, вы бы слышали, женщины! Они высказывали всю свою боль, потом благодарили партию большевиков, советскую власть, что она поднимает так высоко женщину. Мы все сидели за длинным столом и все хорошо видели Калинина. Когда подошла моя очередь говорить, я не выдержала, встала с места, подошла к нему и поклонилась низко. Я волновалась, в жизни так не волновалась, женщины! Сказала я ему: «Здравствуй, Михаил Иванович! Когда я уезжала из стойбища, все просили меня увидеть тебя, и вот я увидела. Близко увидела, а раньше только на портретах видела. Я очень рада. Вот вернусь в родное стойбище, буду работать, буду стараться, чтобы наши женщины и девушки зажили хорошо, по-новому». Когда я поклонилась, Калинин встал, улыбнулся так хорошо и пожал мою руку. Вот эту руку, женщины!
Сайла подняла правую руку. Маленькая, сухощавая ее рука дрожала. Идари взяла ее, успокаивающе погладила. Рассказчица с благодарностью взглянула на нее и улыбнулась смущенно.
— Женщины, я призываю всех вас начать жить по-новому, учиться жить по-новому. Девушки, учитесь, вы должны показывать пример. Кто же, кроме вас, может уехать в город учиться? Уезжайте, учитесь! Нам нужны учителя, доктора. Нам нужны грамотные колхозные работники, бухгалтеры, кассиры, в сельсовете тоже требуются грамотные люди. Я рассказывала про ясли; кто их будет открывать, кто будет там работать, если не вы. Учитесь, девушки, пока молоды, замуж всегда успеете выйти. А замужним женщинам надо стараться, чтобы чисто было дома, хватит купаться в грязи.
Сайла замолчала. Идари подала ей трубку, обняла ее:
— Какая ты счастливая! Хорошо очень говорила. Расскажи, что ты еще видела.
— Много видела, обо всем не расскажешь. После собрания, когда Калинин был с нами, пришел человек, который карточки с людей делает. Он нас всех вместе с Калининым усадил и снял. Потом нам показали Кремль. Ой, какой это богатый дом, слов не найдешь, чтобы об этом рассказать. Глазами все не охватишь. Показали нам царские украшения. Об этом тоже не смогу рассказать. Только скажу, видела я тарелки, ложки из чистого золота, царь из этой золотой посуды ел. Смотрела я на эту золотую посуду и думала: «Вот как он, гад, жил, а людей голодом морил». Такая злость охватила меня, а Сура Путинча говорит, это еще не все, его дворцы в Ленинграде, но они тоже теперь народные, там музеи, кто хочет приходит, смотрит, любуется, потому что все это сделано руками простых людей...
Долго не расходились джуенцы, ошеломленные услышанным, разглядывали счастливую Сайлу, увидевшую невиданное, услышавшую неслыханное. Много вопросов еще задавали, и на все вопросы Сайла охотно отвечала.
— Ох, счастливая ты, — сказала Идари, когда народ нехотя разошелся. — Я завидую тебе. А Ленинград далеко от Москвы? Там у меня старший сын учится.
— Правда? Э, а ты мне завидуешь! Мне надо завидовать, я не знаю, будут ли мои дети там учиться, они еще маленькие. А в Москву, я думаю, теперь всякий может поехать. Дней десять или немного больше по железным полозьям. А там — ночь, и в Ленинграде.
Весь вечер проговорили Идари с Сайлой, а на утро расстались подругами. Сайда уехала на Амур.
«Счастливая она, — думала Идари, — и муж, наверно, у нее хороший, другой разве отпустил бы. Хорошо, очень хорошо, что советская власть женщинам широкую дорогу открывает, даже в Москву вызывает, чтобы поговорить о нашей женской доле. Правильно выбрала время Гэнгиэ, будто чуяла. Сама придумала или Нина посоветовала? Ох, как хотела бы я быть на ее месте! Рано родилась. Мы с Потай сбежали бы не на Харпи, а в Ленинград! Кто там нас отыскал бы? Глупая, что думаю? Бабушкой стала, а такое в голову лезет».
— Сибэ, — сказала Идари невестке, — ты не очень мни эту кожу, она на подошву унтов пойдет. Что с Онагой, не схватки ли начались?
— Нет, нездоровится просто. Наш отец пошел за шаманом.
Правильно, его, председателя сельсовета, послушается, а то иногда капризничает, водки нет и не идет. Был бы хоть сильный шаман, а то только начинающий. Отец Богдана заставит его прийти.
Председатель сельсовета Пота уговорил, шамана помочь беременной Онаге. Вечером в землянке Токто камлал начинающий шаман, изгонял злого духа из тела Онаги. На следующий день Идари с Кэкэчэ пошли в тайгу делать шалаш для роженицы — чоро.
— Онага хорошая, опять внука принесет, — сказала Идари.
— Внучка будет, — возразила Кэкэчэ.
— Все равно, лишь бы ребенок родился и вырос. А Гэнгиэ бесплодная была. Ты все сердишься на нее?
— Сердилась, а теперь не знаю, то ли сержусь, то ли нет. Погляжу на сына, какой тоскует, — сержусь, останусь одна — не сержусь. Теперь, когда послушала Сайлу, перестала сердиться. Она, наверно, уже встретилась с Богданом. Идари, ты как думаешь, она не любила тайком Богдана?
— Да что ты! Не может быть!
— Мне думается, она была влюблена, замечала я.
— Показалось тебе, Богдан не обращал на нее внимания.
— Правда, Богдан не замечал ее.
К полудню шалаш был готов. Когда Идари и Кэкэчэ вернулись дамой, мужчины стояли везде землянок и смотрели в строну Амура.
— Раньше стойбище редко кто посещал, — ворчал Токта, — теперь что ни день, гости. Приезжают всякие...
Лодка пристала напротив землянки Токто, и все узнали в одной из приехавших русских женщин Нину Косякову. Токто зло сплюнул, но «плелся вслед за Потой встречать гостей.
— Обещала я и вернулась, — сказала Нина. — Привезла вам доктора. Знакомьтесь, зовут Альбина, если кому трудным кажется имя, зовите Аля. Товарищ председатель, — обратилась она к Поте, — будем у вас жить. Требуется дом, чтобы в одной половине она больных принимала, в другой половине жила.
— Старую фанзу отремонтируем, — ответил Пота.
Косякову с фельдшерицей он устроил в землянке Пачи, а сам тут же собрал джуенцев и начал ремонтировать старую, давно заброшенную фанзу.
— Здесь будем жить? — по-детски поджав губы, чуть не плача спросила Альбина, оглядев закопченную, захламленную землянку Пачи.
— Других хором нет, — усмехнулась Нина.
— Здесь пахнет нехорошо.
— Да, если мы тоже не будем мыться, то вскоре запахнем. Тут, Аля, не то что ванной, даже бани деревенской нет.
— Но как жить? Вы все знали, а позвали меня...
— Надеялась, что вы храбрая. Мы приехали сюда работать, и с хныканья начинать не годится.
Альбина родилась и выросла во Владивостоке, она никогда не выезжала даже в русские села и не знала жизни земледельцев, потому землянка охотника показалась ей хуже свинарника. Тут и грязь, и черная копоть на стенах от жирников — не прикоснешься к ним, и стойкий извечный рыбный запах; глиняный пол и сплошные нары вдоль стены, холодный очаг, и нет знакомых с детства стола,стульев.
— Почему вы там, в Хабаровске, не рассказали, как будем жить?
— Как будем жить, это от нас зависит. Хватит, Альбина, берите себя в руки. Я тоже не в такой землянке родилась, приехала работать, должна работать.
На второй день фанза под медпункт и жилье Нины с Альбиной была готова, и, когда подсохла глина, девушки перешли в свое жилище. Пота с Токто сколотили им топчаны, столы и стулья. Расставили девушки эту мебель по местам, прибрали как смогли, и фанза приняла вполне жилой вид. Потом они принялись за оборудование медпункта. Альбину вдоволь снабдили лекарствами, простынями и необходимыми ей инструментами.
Когда в углу забелел накрытый простынью топчан, на столе засверкали инструменты, баночки с мазями, скляночки с лекарствами, закачались тарелочки медицинских весов, Нина радостно засмеялась:
— Говорила я вам, все будет хорошо! Теперь сюда шкаф для ваших бутылок и склянок, и все тогда будет выглядеть как в хорошем медпункте.
Но Альбина не разделяла радости Нины и молчала. На прием к фельдшеру никто не шел. Нина сама привела мальчишку, который был весь в болячках, затем слепнущую от трахомы женщину.
— Самое главное впереди, — предупредила она, — скоро роды у одной женщины, Онагой ее зовут.
Альбина совсем притихла, не разговаривала, делала все будто во сне.
— Выше голову, Альбина, а то так вы за зиму зачахнете, — подбадривала Нина.
Сама она уже развернула работу среди женщин в чувствовала помощь приезжавшей Сайлы, с которой она познакомилась в Болони. Теперь она с благодарностью вспоминала ее, когда женщины, казалось, с полуслова понимали ее, Нину; пример Сайлы подбадривал джуенских женщин, звал их к новой жизни. Нина обучала женщин, как кипятить белье, как лучше и легче выстирать его, как ухаживать за младенцами.
— Замужем не была, наверно, с мужчинами-то не спала, а обучаешь нас, — смеялись женщины.
— В книгах написано, — смущенно отвечала Нина. Подошли роды Онаги. Нина уговаривала ее рожать в медпункте, но Онага наотрез отказалась, заявила, что ее уже ждет чоро. Тогда Нина поговорила с Идари и Кэкэчэ, прибегла к их помощи.
— В фанзе нехорошо, мы всегда рожаем в чоро, — ответила Кэкэчэ.
— Пусть она первая рожает с помощью доктора, — возразила Идари, — посмотрим, что получится. Чего ты боишься, Кэкэчэ, мужчин нет в стойбище, все в тайге, наша теперь власть...
Все вместе они уговорили Онагу рожать в медпункте. Когда начались схватки, Нина привела ее к Альбине. Онага открыла дверь медпункта, и ей сразу бросились в глаза сверкающие никелем инструменты, она постояла, с испугом глядя на щипцы, ножницы и пинцеты, отвернулась и пошла домой.
— Онага, Онага! Куда ты, зачем торопишься так? — кричала Нина, догоняя ее.
— Не буду, не буду я там рожать, — шептала Онага, тяжело дыша. — Я в чоро пойду.
Женщины опять уговорили ее вернуться в медпункт. Онага согласилась, но попросила убрать сверкающие железные инструменты. Когда Онага пришла в медпункт, инструментов уже не было на столе, убрали даже весы, осталась на белой скатерти одна, необходимая фельдшеру спиртовка.
Онага, опять не переступив порог, оглядела медпункт и спросила:
— Где сухая трава или хвоя? Где рожать?
— Зачем хвоя, Онага, ты будешь рожать здесь, — Нина указала на белоснежный прибранный топчан.
— На белой материи? И тебе не жалко ее?
— Her, так положено, Онага.
— Русские женщины все так рожают?
— В родильных домах всегда так. Нанайские женщины тоже теперь все так будут рожать.
Безучастно сидевшая Альбина зажгла спиртовку. Голубой огонек весело затрепетал над белым столом.
— Что это? — испуганно спросила Онага. Она никогда не видела голубого огня.
— Не бойся, так горит спирт.
Нина сама вымыла Онагу, уложила на скрипящую холодную простынь. Онага вся сжалась, ей было неприятно незнакомое прикосновение холодных простыней, а еще больше было жаль дорогой белой материи, которой хватило бы на несколько рубашек. Родила она быстро, без крика, без стонов, чем удивила Альбину.
— Дочь, Онага!
— Как хорошо, вот радость-то какая...
Весь Джуен тут же узнал, что Онага родила девочку, впервые с помощью русского доктора, на высоком топчане, на белых материях-простынях.
— Теперь никто из охотников близко не подойдет к этой фанзе, — сказали женщины Нине. — В ней женщина родила.
Нина не знала этого обычая и испугалась. Что же теперь делать, переносить медпункт в другую фанзу? Посоветовались с Идари.
— Где найдешь зимой другую фанзу, — сказала Идари. — Не найдешь и не построишь. Много времени пройдет, пока охотники возвратятся — все еще забудется.
Онага с полдня полежала на жестком топчане и решительно встала, собралась домой. Альбина схватила ее за руку, начала уговаривать, чтобы она легла и не вставала больше, но Онага не понимала ее, улыбалась в ответ. Подоспела на помощь Нина.
— Лежать день-два? — удивилась Онага. — Да ты что, принимаешь меня за лентяйку? Это только ленивые женщины представляются после родов больными, чтобы отлежаться. А я могу за водой на озеро сходить, дров нарубить.
— Нет, ты будешь лежать, — сказала Нина. — Я знаю, ты сильная, Онага, работящая, но доктор принимала у тебя роды, она теперь за тебя в ответе. Поняла? Ты должна ее слушаться. А теперь давай поговорим о другом. Какое имя хочешь дать дочери?
— Это не мое дело, имя дают мужчины.
— Давай обойдем этот закон, а? Тебе нельзя было в фанзе рожать, а ты родила. Что теперь нам? Один закон переступили, переступим и другой.
— Что люди скажут? А отец Поры?
— Пота вернется раньше твоего мужа, он даст свидетельство о рождении, и твоему мужу нечего будет сказать. Послушай, что я расскажу. Ты знаешь, кто такой Ленин?
— Да, он советскую власть нам принес, торговцев жадных изгнал, новые высокие цены установил на пушнину.
— Вот и хорошо, ты все знаешь. Ленин был большой революционер, за это его в Сибирь посылали, в тюрьмы сажали. У Ленина много было помощников, среди них и женщины-революционерки были. Одну из них звали Инесса Арманд. Я читала книги про эту красивую храбрую женщину и влюбилась в нее.
Нина стала рассказывать о жизни, о подвигах пламенной революционерки и предложила:
— Давай, Онага, назовем твою дочь Инессой, а? Когда вырастет твоя дочь, она будет гордиться своим именем. А потом, ты ведь первая женщина, которая родила в новых условиях, ведь этого доктора-девушку советская власть послала. Подумай.
— Чего тут думать? Хорошее имя, пусть дочь носит это имя.
Нина радостно улыбнулась и вздохнула полной грудью.
— Как вы так можете? — спросила Альбина. — Говорите, говорите часами, о чем?
— О новой жизни, Альбина!
— И не надоедает?
— Жизнь разве может когда надоесть? Чем больше живешь, тем дольше хочется жить.
— Нина Андреевна, честно говорю, если бы я имела ваше образование, знание языков, ни за что не стала бы сидеть здесь.
— А если призвание?
— Не верю.
— Ваше дело.
— Нина Андреевна, не могу больше, отпустите, я уеду, еще успею на последний пароход. Онага уже ничего, не впервые ей... Другие обходились без меня и обойдутся.
— Бежим, значит?
— Не могу, не хочу молодость тут губить! Я ведь молодая...
— Следовательно, я старуха. Логично.
— Нет, я этого не сказала, вы молоды, красивы, но у вас призвание, а я не могу...
Середина октября, осень дышит в лицо. Холодно. Нина накинула на плечи пальто, попросила, чтобы в ее отсутствие Онага не смела вставать, и вместе с Альбиной вышла на улицу. Они пошли в тайгу. Альбина покорно шагала за Ниной по еле заметной тропинке.
— Вот посмотрите, — сказала Нина,, подведя Альбину к шалашу.
— Шалаш, а что?
— Это шалаш роженицы. Мы с вами, выходя из дома, накинули пальто, нам холодно. А Онага в рваном халате должна была тут рожать дочь, только костер у входа обогревал бы ее. Каково?
У Альбины мурашки поползли по телу, когда она мысленно представила Онагу ночью, одинокую, с дочуркой на груди. Темно, звери рядом, осенний холод, и всего только маленький костер у входа...
— Дикость, — прошептала она.
— Они и зимой в таких чоро рожают. Понимаете, зимой, в сорокаградусный мороз. Как тут выживет младенец? Вы приехали сюда, чтобы навсегда похоронить этот дикий обычай, и вы уже сделали один шаг.
Альбина молчала. Молчала она еще два дня, а когда оправилась после родов Онага и ушла домой, она собрала вещи и уехала.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прошло больше половины охотничьей зимы.
На смену морозному январю пришел вьюжный февраль. Пройдет еще какой-нибудь месяц,, и охотники колхоза «Рыбак-охотник» возвратятся домой к женам и детям. Они уже выполнили государственный план по заготовке пушнины и мяса.
Государственный план. Совсем недавно появилось это слово ыа языке нанайцев, вместе с такими словами, как «школа», «больница», «колхоз». Недавно, а вросло крепко. Теперь ни один колхозник не может обойтись без этого слова, употребляет напропалую, к месту или нет — все равно. Понравилось слово потому, что в нем суть всей колхозной жизни. Выполнил государственный план — получай вдоволь денег, перевыполнил — еще больше. Вот и запомнилось крепко-накрепко это удивительное слово.
Пиапон как председатель колхоза, конечно, чаще всех упоминает его. По должности ему положено. Несколько раз он осенью наблюдал, как выловленную колхозниками кету грузили в огромные баржи и отправляли в Хабаровск. Там теперь центр края, следовательно, там следят за выполнением плана и принимают для государства эту рыбу. Приятно это было ему сознавать, и хотя он знал, что рыбу везут в Хабаровск, он все же спрашивал:
— Куда везут рыбу?
— В Хабаровск, а там дальше, куда потребуют, — отвечал заведующий рыббазой.
— В Москву, в Ленинград, наверно?
Москва — это главный город государства, это тоже знает Пиапон, и его рыба должна попасть туда, обязательно должна, иначе не может быть, потому что Москва — главный город государства, а он выполнил государственный план.
— Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в другой город, кто знает, — отвечал заведующий.
— Нет, нельзя в другой город, — отвечал ему возмущенный Пиапон. — Только в Москву, там государство.
Председатель колхоза не сомневался, что государство находится только в Москве, не сомневались в этом и колхозники, все они уверены, что и деньги им за рыбу, пушнину и мясо присылают из Москвы.
В аонге-зимнике по вечерам, когда собираются усталые охотники, теперь часто ведутся разговоры о колхозных делах, об интегралсоюзе, который принимает у охотников пушнину, мясо, рыбу и даже ягоды.
Холгитон с жадностью слушает эти разговоры. Когда улягутся охотники, потушат жирник, он пытается поразмыслить об услышанном, вспомнить свою молодость, но не дают охотники ему уйти в свои воспоминания, каждый вечер требуют от него сказок. Ничего не остается старому, не откажешь ведь охотникам, которые сжалились над ним, взяли с собой в тайгу, а тут кормят его и поят. Каждый вечер рассказывает Холгитон сказки, их у него вдоволь, хватит ему на всю жизнь. Но в последнее время он стал обдумывать новую сказку. Наступит время, сложится вся сказка в голове, тогда он расскажет ее молодым охотникам. А пока старик держит в тайне свою выдумку, только Пиапону как-то сознался:
— Новую сказку составляю. Вы все храпите, а я составляю, глаз сомкнуть не могу, до того захватывает эта сказка.
— О чем сказка? — поинтересовался Пиапон.
— О новой жизни, говорю.
— Отец Нипо, новая жизнь широка, как Амур, трудно переплыть.
— Что так говоришь? Трудно мне все понять, старый я, так и говори. А то запетлял. Ничего, я сердцем все понимаю, хотя не был председателем сэлэм Совета, не стал председателем колхоза.
— Обидчивый ты стал, отец Нипо, — засмеялся Пиапон. — Ладно, не обижайся, говори.
— Сказка о нашей жизни, о колхозе, — Холгитон подумал и добавил: — А может, о нашей аонге. Когда раньше охотники наши в рубленых домах в тайге жили? Да еще столько людей в одной аонге? Никогда не жили. Нет, не об этом. Может, о торговце Воротине, а может, о заезке на Болони. Подумать только — нанайское море перегородили!
— Не надо об этом сказку, — хмуро возразил Пиапон.
— Как не надо? Сколько людей работало там, со всего Амура. А сколько рыбы наловили...
— Ты с ледоставом с бригадой ушел в тайгу и не знаешь ничего, а я зимой был в Болони, знаю все. Пропасть погибло рыбы, столько рыбы...
— Ну, если не о заезке, то о другом составлю сказку, мало ли о чем можно придумать. Хочешь, о самом главном человеке, который нам принес новую жизнь, сказку составлю?
— О Ленине? — удивленно взглянул на старика Пиапон.
— Да. А что? Думаешь, не смогу? Голова, думаешь, у меня состарилась, мозги засохли?
«Хорохорится, как мальчишка, — с жалостью подумал Пиапон, — в детство впадает, что ли? Или на самом деле что-то толковое придумал?»
Холгитон несколько зим не ходил в тайгу, промышлял недалеко от дома зайцев, колонков и лис. Нынче он упросил сыновей, Нипо и Почо, взять его с собой в тайгу.
— Сыны, чувствую, в последний раз иду в тайгу, — сказал он им. — Не откажите, возьмите, хоть кашеварить буду. В тайгу хочу, не откажите.
Но Нипо и Почо не могли самовольно взять его, они были в бригаде Калпе, нужно было решение бригадира. Калпе, посоветовавшись с Пиапоном, включил Холгитона в бригаду. Так старик оказался в тайге. У него не было в бригаде никаких обязанностей, его даже не просили готовить еду для промысловиков, но он самовольно помогал кашевару. Изредка он вставал на лыжи, брал по старой привычке копье, ружье и шел медленным, старческим шагом на свой участок на ближайший ключ, где другим не разрешалось стрелять белок, пусть они даже прыгают по головам. Старик по одной перестрелял всех белок и стал захаживать на другой ключ, но там все зверюшки были подобраны молодыми охотниками. Когда приехал Пиапон проверить, как идут дела у охотников, Холгнтон изнывал от безделья.
— Пойдем со мной, — предложил Пиапон, — от одной аонги до другой будем ходить. Хорошо?
— Какой я ходок, ноги дрожат, — сознался старик. — Охотиться будешь?
— Посмотрю.
Пиапон со всеми вместе уходил на промысел, возвращался усталый и довольный.
— Остаюсь у тебя, — объявил он брату через несколько дней. — Охотничья кровь заговорила. А в Нярги нечего делать, без меня обойдутся.
Пиапон остался в бригаде Калпе и Холгитону нашел работу. Охотники хранили добытое мясо в трех местах на высоких лабазах. Мясо это никем не охранялось, да этого и не требовалось. Но Пиапону было жалко страдавшего от безделья Холгитона, и он предложил ему изредка, когда сможет, навещать эти лабазы, присматривать за мясом. Вдруг росомаха добралась, тогда беда, не столько она съест, сколько опоганит.
Холгитон согласился и через день стал навещать лабазы. Уставал старик, но виду не подавал. Возвратившиеся с добычей охотники отдыхали, потом снимали шкурки, разговаривали. Холгитону нравилось вести мудрые беседы с Пиапоном, и он часто говорил об эндури, хозяевах тайги, рек и о молитвах.
— Помнишь, я новый молитвенник — мио привез из Маньчжурии, — начинал он. — И новую молитву. Теперь у всех поистрепались мио, негде достать...
— Ты и без мио много молишься, — отвечал Пиапон. — Невод закидываешь — молишься, в тайгу пришел — молишься, заезок ставили — опять молился.
— Так я же для людей стараюсь, для колхоза. Хорошо помолился — хорошо поймали рыбы. И людям хорошо, и тебе, председателю, почет. Как ты этого не понимаешь!
— Я давно понял. Ты ведь знаешь, великий шаман Богдано хотел вступить в колхоз, хотел стать колхозным шаманом. Так из-за этого сколько меня в районе ругали. Скоро и за тебя начнут ругать.
— Я не шаман.
— Не за шаманство, а за твои молитвы. Ты всех подбиваешь.
— Каждый сам за себя, за свою бригаду молится. Я никого не подбиваю, с чего ты это взял?
Пиапон, когда ему надоедал разговор о молитвах, переводил разговор на другую тему.
— Перед выездом сюда письмо получил от Богдана...
— Умница Богдан, — подхватывал старик, — так долго живет без родных. Не скучает, что ли? А мы тогда в Маньчжурии, помнишь, месяц жили и уже места себе не находили, домой тянуло.
— Скучает, да что поделаешь, работы там много. Он слышит, как мы живем, все о нас знает...
— Так должно быть, он грамотный, на расстоянии должен умом понимать, донюхивать.
Хоть и отвечал Холгитон невпопад, Пиапон не сердился, ему самому хотелось говорить о любимом племяннике.
— Он знает, что у нас был свой, нанайский Болонский район, — продолжал он. — Богдан пишет, надо восстановить Болонский район, потому чго трудно дянгианам руководить большим Вознесенским районом.
— Ишь ты, это даже оттуда унюхал! Мозговитый, так я всегда говорил. А почему это трудно?
— Ездить далеко, срочные дела никогда в срок не сделаешь, расстояние-то какое! Даже по течению не меньше шести дней плыть. Верно говорю?
— От Сакачи-Аляна до Нижней Тамбовки?
Холгитон долго раздумывает, считает в уме стойбища от Нярги до Сакачи-Аляна — вверх по Амуру, потом от Нярги до Нижней Тамбовки — вниз, и никак не может представить, за сколько дней можно преодолеть это расстояние.
— Много воды между этими селами, — говорит он.
— Много, — соглашается Пиапон. — Ултумбу теперь работает в районном интегралсоюзе, тоже, говорит, трудно работать. Выходит, наш Богдан из Ленинграда все это видит. Пишет, они обратились к товарищу Калинину с просьбой, чтобы восстановили Болонский и Толгонский районы...
— Это хорошо! Свой район, свои люди, понятные. И поругаешься с ними и помиришься — все хорошо. Так было, когда председателем в Болонском районе был Чокчой Ходжер. Свой человек. Да — рядом находиться, в гости можешь сходить. Ты думаешь, этот главный, Калинин, восстановит район?
— Не знаю, откуда мне знать? А про Калинина я всюду только хорошие слова слышал, смотрел его лицо на бумаге, видать, добрый. Он, говорят, лет десять назад в Хабаровск приезжал. Это мне Орока Заксор сказал, он все знает.
— Да, вы все знаете, времена такие пришли.
Холгитон больше не поддерживает беседу, он уходит в себя, думает. Он много думает о происшедших в его жизни изменениях, и голова его при этом кружится, как от легкого опьянения. Днем, когда он совершает свой путь до лабаза, он присматривается, узнает места, потому что бывал здесь сотни раз, узнает деревья, с которых сбивал белок, место, где подстрелил лося, где заколол копьем медведя. Присматривается он и удивляется тому, как медленно обновляется природа, как медленно произрастают леса. Медленно, очень медленно обновляется тайга. Амур — тоже медленно течет, лениво течет... А вот в человеческой жизни все изменилось. Вспоминает Холгитон прошлую жизнь, и ему кажется, что он находился в спячке, как медведь зимой; теперь проснулся, огляделся, а люди спешат, бегут — не отставать же ему, хотя он и старик, побежал Холгитон вслед за молодыми. Сперва он отставал здорово: молодые — в партизаны, он отстал, молодые — на всякие съезды, совещания, он отстал, молодые — в колхоз, он туда-сюда качался, ни нашим ни вашим, стыдно даже вспомнить, но потом догнал молодых, теперь в ногу шагает, даже в охотничьей бригаде вместе с ними. Дом ему достроили всем колхозом, большой дом, до сих пор пахнет свежей смолой. Соскучился по дому Холгитон, не столько по дому, конечно, сколько по внукам и внучкам. Ждут его они, на Амур выбегают, глядят вдаль, не идет ли дед, не везет ли таежные подарки. Привезет обязательно, уже наготовлены одним лыжи, другим — санки, третьим — поварешки и вкусные беличьи желудки. Ждут его еще новости. Каждый день они приходят, теперь их, наверно, много собралось.
Однажды вечером Пиапон вернулся встревоженный.
— Отец Нипо, ты ходил сегодня на лабаз, никаких следов не встречал? — спросил он.
— Как же в тайге следов не встретишь? Это же дом лесных людей, как они в своем доме без следов будут ходить?
— Да не о том я, — нервно перебил его Пиапон. — Не встречал странных следов?
— Все следы странные, посмотри даже на беличий след — странный, то остановится, то побежит, а ты думаешь, почему она так странно ведет себя...
— Тьфу! Серьезное дело, отец Нипо, Амбан — тигр к нам в гости пришел!
Холгитон теперь только взглянул на Пиапона, заметил его тревогу.
— Амбан, говоришь? Обожди, дай вспомню... Да, на этом месте было... на этом месте... Он пересек твою тропу?
— Пересек.
— Плохо, не разрешает Он тебе охотиться. Помолиться Ему надо, попросить разрешение.
Вернулись другие охотники, и оказалось, что Калпе тоже встретил след тигра.
— Нипо, Почо вы не встретили? — спросил Холгитон сыновей и, получив отрицательный ответ, сказал: — Запомните: встретили Его след, встаньте на колени и молитесь. Он наш отец, наш прародитель. Мы, чолачинские и соянские Бельды, пошли от Тигра, запомните это. Он вас узнает, не тронет, только молитесь, ласково говорите...
В этот вечер Холгитон рассказал легенду о девушке из рода чолачинских и соянских Бельды, которая стала женой Тигра и родила сына — храброго охотника, от которого и пошел весь род.
— Увидите след, не переступайте, — наставлял он. — Сперва поцелуйте след, помолитесь, разрешения попросите, тогда переступайте. Но если у кого Он затропил лыжню, не ходите, возвращайтесь...
Послушались охотники мудрого Холгитона. На следующий день Пиапон, Калпе, Почо нашли свои лыжни затропленными.
— Плохо, очень плохо, — сказал Холгитон. — Выгоняет Он вас троих.
— По следу, видать, старый, — сказал Пиапон.
— Чем старее, тем больше надо уважать.
«Старый, может, поэтому и ходит по твердой лыжне, — подумал Пиапон. — Не хочет купаться в глубоком снегу, брюхо мочить. Все равно мочит, лыжня не выдерживает его тяжести».
— Отец, Он ведь наш прародитель, а почему затропил мою лыжню? — спросил Почо.
— По старости перепутал, не признал родства, — сказал Калпе с иронией; он один не воспринимал всерьез россказни Холгитона. — С людьми такое бывает, а тут Амбан. Конечно, перепутал...
— Не паясничай, — сказал Пиапон.
— Нельзя так, отец Кирки, нельзя, — строго проговорил Холгитон. — Он не любит такое. Надо сейчас же всем помолиться Ему, всем вместе.
Охотники дружно помолились Амбану, просили оставить их в покое, не выгонять с участка, им и так осталось мало времени, кончается срок охоты, а им надо перевыполнить государственный план, чтобы побольше заработать денег и купить детям сладостей, муки, крупы и материи на одежду. Амбан добрый, Он не оставит детей без сладостей, голодными и раздетыми. Кроме того, бригаде стыдно возвращаться домой, не перевыполнив государственный план. Что скажут другие колхозники? Лентяями обзовут, из колхоза могут выгнать. Амбан умный, Он должен все понять, должен оставить их в покое...
Холгитон в этот вечер долго не мог заснуть, он вспоминал прошлую встречу с Амбаном. Было это давно, в тот год, когда Пота умыкнул младшую дочь Баосы Идари, а весной на Харпи погибло от оспы целое стойбище. Таким и запомнили в Нярги тот год. В ту зиму и встретил Холгитон Амбана, впервые в жизни встретил. Жили тогда в аонге четверо: Холгитон, Ганга, Гаодага с сыном. Долго все четверо молились, просили Амбана оставить их в покое. А когда Холгитон наутро пошел осматривать самострелы, на его тропе сидел Амбан и бил тугим хвостом по снегу. Разгневался Он на Холгитона, но за что, до сих пор не знает старик. Вернулся он в аонгу, вечером опять молились, а наутро увидели Его свежие следы рядом с аонгой. Понял тогда Холгитон, изгоняет их разгневанный Амбан с охотничьего угодья, не разрешает даже самострелы снять. Так и ушли...
Старик незаметно уснул и видел странные, непонятные сны, такие, что утром даже не смог их растолковать. Позавтракали охотники при свете жирника и, как только засинели просветы между могучими кедрами, отправились на промысел. Холгитон уходил позже всех. За его медлительность молодые охотники прозвали его Куку-Лебедь, ведь лебеди осенью улетают последними, так медленно и долго они собираются в дорогу. Вышел Холгитон из аонги, надел лыжи и тут вспомнил, что забыл копье. Снял лыжи, вернулся в аонгу.
— Дед, зачем копье таскаешь? — спросил мальчик-кашевар.
— По привычке таскаю, — усмехнулся Холгитон. — Ружье что, осечку может дать, а копье — верное оружие, не промажет.
Он опять надел лыжи и медленно зашагал между такими же старыми кедрами, как и ое. Утренний ветер шаловливо швырял на его голову снег с ветвей, кустарники игриво цеплялись за его суконный халат. Холгитон неторопливо брел по тайге, глядел по сторонам подслеповатыми глазами, прислушиваясь к каждому звуку. Сегодня он шел на дальний лабаз, где лежали одни кабаньи туши. Солнце поднялось из-за сопок, лучи его пробивались сквозь густую хвою в ласкали лицо старика. К полудню Холгитон подходил к лабазу, но остановил его большой свежий след Амбаиа. Холгитон снял лыжи, встал на колени и поцеловал его. След был такой свежий, мягкий, что ему он показзлся даже теплым. Старик поздоровался со своим прародителем и пошел к лабазу. Оставалось шагов пятьдесят до хранилища, когда он заметил что-то желтое с черными полосами среди вывороченных из-под снега кабаньих туш. Пригляделся Холгитон и замер, сердце перестало биться в груди, и ноги задрожали от страха.
На лабазе, на кабаньих тушах лежал Амбан и следил за охотником острыми желтыми глазами. Холгитон как стоял, так и бухнул ниц, зарылся лицом в пушистый снег, потом поднял голову, вытер руками с лица снег и стал бить поклоны.
— Ама-Амбан — Отец-Тигр, здравствуй и пощади меня, — во весь голос закричал он, продолжая кланяться и не смея взглянуть на зверя. — Не ожидал я Тебя тут встретить, не ожидал. Ты пришел ко мне в гости, вот и хорошо. Будь гостем, Ама-Амбан! Угощайся, ешь, что пожелает Твоя душа. Ешь. Только сразу говорю Тебе, это мясо не я добыл, другие охотники добыли, но ничего, угощайся, не стесняйся, здесь есть доля и Твоих праправнуков. Я, как видишь, совсем постарел, гожусь только в сторожа лабазов. Да и сторож какой из меня! Называюсь только сторожем. А мясо это колхозное, общее...
Амбан вдруг сердито зарычал, будто ему надоело слушать про такие глупости, и Холгитон чуть не прикусил язык от страха. Он поднял голову, взглянул на Амбана и встретился с Его желтыми, полными гнева глазами.
— Не сердись, Ама-Амбан, — потерянно пробормотал старик. — Я хотел объяснить Тебе, это так важно теперь... у нас ведь теперь все не так, как раньше было... Не сердись, угощайся, я не от жадности...
Амбан поднялся на ноги, толстый его хвост недовольно хлестал по кабаньим тушам, и он, казалось, вот-вот прыгнет на Холгитона.
— Ты недоволен, Ама-Амбан? — спросил Холгитон. — Ладно, я ухожу, только не сердись.
Он поднялся на ноги, подобрал копье и, не оборачиваясь, поспешно зашагал по старой лыжне. Долго шел Холгитон, шел, пока потом его не прошибло. Остановился, огляделся и удивился — больше половины пути прошел без отдыха!
— В гости к нам пришел Ама-Амбан, — сообщил он вечером. — На лабаза находится, угощается кабаниной.
— Знает, где жирное мясо, — усмехнулся Калпе. — Что будем делать? — спросил Пиапон.
— Что делать? Ничего не надо делать — пусть погостит.
— И все мясо съест, — вставил слово Калпе.
— Ты разве гостя из дома когда выгонял? — рассердился Холгитон.
— А мои гости умные были, знали, когда им уходить надо, вовремя приходили и вовремя уходили.
— Не надо спорить, — сказал Пиапон. — Не обеднеем, если Он съест одного кабана. Отец Нипо, я завтра с тобой пойду.
Хотя ничего страшного не услышали охотники из рассказа Холгитона, но тревога вселилась в их души, молодые шептались в своем углу, постарше — в другом. В этот вечер никто не просил рассказать сказку.
— Ружья не будем брать, — заявил утром Холгитон.
— А если Он нападет? — спросил Пиапон.
— Копье я беру.
«Что ты сделаешь с копьем?» — усмехнулся про себя Пиапон и сказал вслух:
— Я все же на всякий случай возьму берданку. Кроме Него, в тайге много других жителей, а мы на охоте находимся.
Холгитон согласился, и они пошли по старой укатанной лыжне.
— Ты берданкой не размахивай, — предупредил Холгитон, когда подходили к лабазу. — Он может всяко подумать, может рассердиться. Нельзя. Он гость.
— Да Его уже нет тут, хороший гость, как говорит Калпе, должен знать меру...
Но Амбан сидел на лабазе, и Холгитону показалось, что Он вообще не слезал оттуда. «Это нехорошо, — с тревогой подумал он. — Что Он задумал, почему так поступает? Он не похож на гостя, это нехорошо».
— Ама-Амбан! Я вернулся, — закричал он кланяясь. — Думал, не застану Тебя, думал, уйдешь не попрощавшись. А Ты еще тут...
— Сколько он тут находится? — шепотом спросил стоявший на коленях рядом Пиапон. — Много мяса съел.
— Я Тебе вновь говорю, Ама-Амбан, это не мое мясо, это колхозное, если бы было мое, я Тебе все отдал бы, не жалко. А это колхозное мясо, его надо еще сдавать государству, понял? План надо выполнять... Вот со мной председатель колхоза пришел, посмотреть пришел на колхозное мясо. Я Тебя, Ама-Амбан, не выгоняю, не принимай близко к сердцу, но все мы, колхозники, подумали и решили, хватит Тебе гостить, пора домой к детям идти. Все так решили. Можешь взять с собой на дорогу одну кабанью тушу и иди домой, дети, наверно, заждались...
Амбан не рычал, не бил сердито упругим хвостом, он будто соглашался с Холгитоном. Только Пиапон, во все глаза следивший за зверем, видел, как перекатывались мускулы под желтой, с черными полосами, шкурой, как скалились отупевшие зубы в беззвучном реве. Помолившись, Холгитон поднялся на ноги, поднял над головой копье и крикнул:
— Уходи, Ама-Амбан! Сегодня уходи. Прощай. А завтра мы все вместе за мясом придем. Понял?
В ответ Амбан заревел по-старчески приглушенно, захлестал хвостом. У Пиапона тут же в руке оказалась взведенная берданка.
— Хватит, много мяса Ты съел! — крикнул он. — Уходи!
Вечером охотники совещались.
— Выгнать надо, — предлагали пожилые.
— Убить, — сказали молодые.
— Пойдем завтра все вместе, там решим, — подытожил совещание Пиапон. — Думаю, Он уже ушел.
— Жди, нашел дармовщину — уйдет, — усмехнулся Калпе.
Опять разделились охотники, опять шушукались по своим углам. Завтра предстояла встреча с Ним. Какой Он? Неужто такой страшный, как рассказывают? Говорят, от одного его рева человек теряет рассудок, руки сами опускаются. Ух, ты! Посмотрим завтра...
— Убивать нельзя, это самый большой грех, — заявил утром Холгитон. — Такого большого греха не будем на себя брать...
В это утро охотники собрались так скоро, что Холгитон даже не успел допить кружку чая. Пришлось ждать его, поторапливать. Старик наконец, собрался, взял только копье и неодобрительно поглядывал на вооруженных берданками охотников.
— Из ружья в Него нельзя стрелять, грех большой, — еще раз предупредил он. — Вперед меня не ходите, идите за мной.
Продрогли охотники, следуя за стариком до лабаза. Молодые издали заметили желтое пятно на лабазе и шепотом передали старикам.
— Амбан! Амбан! Это Он!
Холгитон шел впереди всех и не слышал шепота, но охотничье чутье подсказало, что страшный Амбан никуда не ушел, и надо быть осторожным. Амбан — не гость, а грабитель, вор. Гость не ведет себя так нахально. Его уже просили покинуть лабаз, намекали, что ничего хорошего не выйдет, если сюда явится вся бригада. Не понял Он или не хочет понять. Что ж, пусть теперь на себя пеняет, увидят охотники, сколько мяса Он уничтожил, рассердятся...
Наконец Холгитон тоже увидел лежавшего на лабазе Амбаиа.
— Это Он, — сказал старик, ни к кому не обращаясь. — Не послушался, не хочет уходить, нахальный совсем, — и, обернувшись к спутникам, сказал: — Нельзя из винтовки стрелять, большой грех падет на всех нас. Он с когтями на нас, а мы с ружьем. Это нечестно. Он с когтями, а мы с копьем — это будет по-таежному, честно. Пусть падет грех на меня одного, я пойду с копьем.
— Как пойдешь? — изумился Пиапон. — Один пойдешь с копьем?
— Один. Не спорь, не указывай мне, что делать. Это не в стойбище, где ты дянгиан, тут тайга. Не спорь со мной и не смей стрелять.
— Отец Нипо, ты на верную смерть идешь. Что тебе, жить надоело?
— Кому жить надоедает? Нет, не надоело. Я иду потому, что не хочу, чтобы грех нал на всех вас, понял? Вам жить да жить в такое хорошее время...
— Он задавит тебя...
— Эго еще посмотрим, руки мои крепки. Не стреляйте, даже если будет меня давить, не стреляйте, это нечестно...
Больше Холгитон ничего не добавил, он подошел к прежнему месту, откуда обращался с молитвой к тигру, снял лыжи, взял в руки копье и закричал:
— Амбан! Я Тебя вчера предупреждал, что мы сегодня придем за мясом. Я тебя просил уйти домой, к детям. Ты не послушался меня. Мы пришли.
Тигр поднялся на ноги и зарычал в ответ.
— Я Тебя не боюсь! Понял? Теперь другие времена наступили, понял? — кричал Холгитон, чувствуя в ногах дрожь. — Не боюсь! Уходи, Амбан, по-доброму прошу, уходи! Ты съел все бригадное мясо, самое хорошее мясо, теперь бригада не выполнит государственный план. Понимаешь Ты это?
Тигр тяжело спрыгнул на землю, лег под лабазом и начал бить хвостом по пушистому снегу, как старухи выбивают пыль из старого одеяла.
— Не боюсь Тебя! Ты не гость, Ты вор, Ты украл колхозное мясо! Ты хуже хунхуза-грабителя! — все больше и больше распаляясь, кричал Холгитон. — Хуже хунхуза! Понял? Я оскорбляю Тебя, как хочу, а Ты, бесстыжий, даже не покраснеешь! У Тебя лицо продубело, стыда не знает! Вор! Хунхуз! Уходи домой, лентяй, лежебока!
Холгитон взял копье наперевес, напряг все тело и пошел на тигра, не переставая кричать. Снег был глубокий, выше колен, потому он шел медленно, протаптывая широкую дорогу, чтобы в случае нападения зверя была площадка для сражения.
— Хунхуз Ты! Вор Ты! А я Тебя за хорошего человека принимал, а Ты хунхуз! Не боюсь я Тебя! Это Ты раньше сгонял меня с охотничьего места...
Тигр поднялся, заревел страшно, еще сильнее стал бить хвостом по снегу, подняв снежную пыль. Холгитон видел горящие гневом его желтые глаза, красную пасть. Ниже пасти, на два пальца ниже пасти, он должен вонзить свое широкое копье. Ниже пасти... Он видел желтые глаза, красную пасть и клыки...
— Ты заслужил смерть, хунхуз!
Холгитон уже шел по глубокому снегу, позабыв протаптывать дорогу. Впереди грабитель, вор в шкуре тигра, и Холгитон должен убить его. Всю свою жизнь он презирал воров, которые редко, но встречались среди нанайцев. Он их ненавидел. А тут вор в шкуре тигра...
— Я Тебя убью, не Амбана, а вора убью! Ты украл колхозное мясо.
Холгитон видел теперь только два желтых огня, весь мир сконцентрировался в двух желтых огнях. Он крепче сжал копье, сделал шаг — и вдруг исчезли эти желтые огни, они прыгнули куда-то вверх, к голубому небу, а пылающее лицо Холгитона оказалось в снегу. Он услышал глухой рев тигра и летний звон ос над головой.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Известие о том, что Токто из Джуена переехал в Хурэчэн и организовал там свой отдельный колхоз, сперва изумило районное начальство, потом возмутило.
— Ох этот Токто, баламут, черт бы его побрал, — рассердился председатель райисполкома. — Ултумбу, придется тебе поехать к нему, разобраться.
Ултумбу, не заезжая в Джуен, поехал напрямик в Хурэчэн.
— Ултумбу! Приехал? — обрадовался Токто. — Ну, бачигоапу. Как поживаешь? Долго ты не бывал у нас, говорят, ты болел. Правда это?
— Правда, Токто, — улыбнулся в ответ Ултумбу. — Желудок болел.
— Чем лечил? Скажи, может, когда и я заболею.
— В Хабаровске, у докторов лечился. Желудок вырезали.
— Вырезали? Да ты что сказки рассказываешь!
— Вырезали. Распороли живот, вытащили желудок и вырезали.
— И ты все видел?
— Нет, усыпили.
Весть, что у Ултумбу вырезали желудок и вылечили болезнь, молнией облетела стойбище. Мужчины, женщины и дети бежали послушать своими ушами эту потрясающую новость.
— Больно было?
— Не знаю, я же спал. Когда проснулся, болело.
— Врет, такого не может быть, — сказал кто-то.
— Ултумбу не врет, он честный...
— Кто это усомнился, подходи, — сказал Ултумбу.
Он расстегнул брючный ремень, дернул вверх рубашку, и все увидели длинный лиловый шрам на его животе. Мужчины поджали губы, женщины запричитали, заохали.
— Это да, — сказал Токто. — Когда я партизаном был, думал, что доктор Храпай только раны зашивает, не верил, что он углубляет раны и расширяет их, чтобы вытащить пули. Вот до каких дней дожили!
Ултумбу неторопливо застегнул ремень и сказал:
— Да, дожили, Токто, советскую власть не слушаемся, самовольно переселяемся на другое место, забираем колхозников и организовываем свой колхоз. Вот до чего дожили.
— Кто тебе сказал, что я колхозников переманил?
— Это неважно кто, важно, что ты законы нарушаешь.
— Никого я не переманивал, это ты запомни, человек с распоротым животом! — рассердился Токто и, как всегда в гневе, начал кричать: — Спроси людей, кого я переманил?
— Никого он не заманивал, — раздались голоса. — Тут все свои, харпинские. Из соседних стойбищ...
— Слышишь? Тут никого нет из Джуена! Я переехал сюда один со своей семьей, из соседних стойбищ собрал тех, кто не хотел переезжать в Джуен, и организовал колхоз.
— Почему об этом в район не сообщил?
— А чего сообщать? Хорошее дело сделал, собрал тех людей в колхоз, которые не хотели вступать, а ты приехал ругаться. Спасибо надо говорить, а ты с ругани начал.
— Все можно было решить по-хорошему, по закону, а ты самовольничаешь, вот это плохо. Почему ты переехал сюда? — Видя, что Токто замялся, продолжал: — Сбежал? От русской девушки сбежал...
— Ну, сбежал, хочешь, так называй. Я поссорился с ней, с Потой, Идари, потому не мог больше жить в Джуене.
— Ладно, живи здесь, работай. В районе расскажу все, думаю, согласятся. Только тебе дадут отдельный от Джуена план. Понял?
Чего же не понимать тут, Токто уже не один год работал председателем колхоза, знал, что такое государственные планы, выполнял их. Пусть дают новый план, он и тут его выполнит.
После отъезда Ултумбу Токто почувствовал себя совсем больным, в груди щемило: вспомнилась ссора с Потой и Идари, и заныло его сердце. Сколько лет прожили они в одном доме, никогда не сказали друг другу худого слова. Пота всегда считал его старшим братом. До самой смерти они прожили бы братьями, если бы не советская власть, потому что не будь ее, не приехала бы и эта разлучница с голубыми глазами, не стала бы между ними. Видишь ли, она строит новую жизнь. Пусть строила бы эту жизнь себе на здоровье, но не настраивала младшего брата против старшего, жену против мужа, дочь против отца.
Токто сел на берегу, подальше от людских глаз, закурил, и воспоминания нахлынули вновь.
Старый охотник возненавидел Нину Косякову после того, как сбежала Гэнгиэ. Он сразу смекнул, что тут не обошлось без Нины, что это она своими разговорами увлекла молодую женщину. Когда возвратилась Нина с фельдшерицей в Джуен, он стал избегать ее, решил ни в чем ей не помогать, об этом и сказал Поте.
— Я не могу не помогать, — ответил Пота. — Я советская власть здесь и должен помогать. А ты перестань на нее злиться.
— Никогда не перестану, пока Гэнгиэ не вернется к нам.
— Теперь уж не вернется.
На следующий день Пота с двумя охотниками стал возводить в сторонке от фанз и землянок какое-то дощатое сооружение. Всем любопытным он объяснял, что строит уборную. Так, мол, велит Нина.
— Ну зачем было строить? — спросил Токто, когда через некоторое время джуенцы вернулись к прежним древним своим привычкам справлять нужду под кустом.
— Она велела, я и построил, — ответил Пота.
— Как ты думаешь, неужто новую жизнь надо начинать строить с этой уборной?
— Кто ее знает, может, с этого и надо.
— Эх ты, на поводу пошел!
Так появилась первая трещинка в многолетней дружбе Токто и Поты. Но эта трещинка не испортила бы их отношений, если бы за этим не последовали новые удары, порой очень тяжелые. Вернувшись из тайги, Токто узнал, что Онага родила дочь в фанзе с помощью доктора, что без его и Гиды разрешения дали девочке имя. Разгневанный дед собрался идти к Нине Косяковой, но его остановил Пота.
— Поздно ругаться, — сказал он. — Наши женщины сами уговаривали Онагу рожать в фанзе.
— Какие это наши?
— Твоя жена и моя. Потом они уговорили меня бумагу выдать о рождении девочки, я выдал такую бумагу.
Токто никогда не бил жену, как это делали другие охотники, но сейчас готов был это сделать.
— Отец Гиды, ты сперва меня ударь, я первая начала уговаривать Онагу, — заступилась Идари за Кэкэчэ.
— Ты?
— Да, я зачинщица!
Токто глядел в горящие глаза Идари и не узнавал ее: он никогда не видел ее такой сердитой и такой красивой в своем гневе. «Да, она дочь Баосы! — подумал он. — Достойная дочь». А Идари, поджав губы, вызывающе смотрела в глаза Токто и ждала или словесного ответа, или затрещины.
— Ты забываешь наши обычаи, — ответил Токто, опуская глаза, — какая бы власть ни пришла, какая бы жизнь ни наступила, нельзя отрекаться от своих обычаев.
— Ага, ты не прав, при новой жизни какие-то старые обычаи должны исчезнуть, — сказал Пота.
Токто презрительно взглянул на него и усмехнулся:
— Вижу, ты уже под подолом женщин находишься.
Но тут Онага подала внучку, и старый охотник успокоился. На следующий день в фанзу заглянула Нина, поздоровалась, поздравила с возвращением.
— Весна наступает, товарищ председатель колхоза, — сказала она. — Много работы впереди.
— Сами знаем, — буркнул в ответ Токто. Ему совсем не хотелось говорить с этой настырной девушкой.
— Я не о колхозных делах, мы на женском совете решили...
— Это какой такой совет?
— Женский. Идари, Онага туда входят.
Токто взглянул на сидевшего рядом сына, будто спрашивая его: «Ты об этом слышал?» Потом глаза его переметнулись на Идари, на Онагу.
— Мы женские вопросы решаем...
— Тогда мое дело — сторона.
— Нет, так не выйдет, вы наш первый помощник.
— Пота твой помощник, он сельсовет.
— Сельсовет это одно, а колхоз другое. Женсовет решил, каждой семье надо завести огород.
— Другого дела у них нет?
— Много дел, но они решили так. Спросите Идари, Онагу, свою жену. Все женщины на собрании решили.
«Что же это такое, женщины сами стали что-то решать, не спросив мужей, — подумал Токто. — Выходит, им теперь дается такое право. Скоро верховодить начнут, если так. Да что там, эта стерва уже верховодит, села на шею Поты!»
— Я думаю, это даже хорошо, опыт у них будет. Колхозы скоро начнут заниматься земледелием, животноводством, вот они и будут специалистами, — продолжала Косякова.
— Амурские колхозы пусть занимаются, нас это не касается, у нас нет земли, одна тайга.
— Корчевать надо, об этом я и пришла поговорить.
— Корчевать тайгу? — Токто бросил на Нину такой презрительный взгляд, будто плюнул. — Пусть русские корчуют...
Нина не хотела ссоры, она догадывалась давно, что Токто невзлюбил ее, но и ее терпение лопнуло.
— Русские корчуют, а вы не можете? Не мужчины?
— Мы мужчины, мы охотники! И детей можем делать!
Нина вспыхнула от стыда и гнева, выбежала из фанзы. Наступила долгая, неловкая тишина.
— Она за помощью пришла, — наконец начал было Пота, но его тут же резко оборвал Токто:
— Вот ты и помогай!
— Помогал и буду помогать. А тебе так разговаривать не разрешается. Она сюда направлена из края.
— А мне все равно, откуда бы ее ни направили.
— Она здесь от края, у нее документ, выданный краевым судом, где говорится, что она может судить.
— Это что же, ее послали за нами следить?
— Нет, новые законы соблюдать и горячие головы остужать. А главное, жизнь по новому пути направить.
— Знаю, новый путь начинается с вонючей уборной.
— Зимой в уборную все ходили, это ты знаешь? В уборной оказалось теплее, чем под кустом. Не смейся.
— Так. Нанай стали искать теплое место, морозов, ветра стали бояться. Хорошее начало.
— Ты должен помогать ей, делать все, что она попросит. Если ты упрямиться будешь, я буду, кто тогда станет за нас делать?
«Да, это начало нового, — думал Токто, не слушая Поты. — Началось. Женщины объединились в совет, свое собрание собирают, решают... Даже за меня решают, за председателя колхоза. Теперь примутся за мужей. А что? И примутся, почувствовали силу, поддержку этой голубоглазой. Из края... судить может. Большая сила у нее. Но меня на колени не поставишь...»
В это время Гида вывел жену на улицу и учинил допрос, что это такое женсовет, чем они занимаются в этом совете. Простодушная Онага рассказала, как женщины голосованием избрали ее в женсовет, как потом они собирались у Нины вечерами, учились стирать, чисто жить, даже песни пели и грамоте начали обучаться; кроме того, Нина в комсомол собрала девушек и юношей, они тоже учились грамоте и новой жизни.
Ревнивый Гида начал жестоко избивать жену, услышав, что она бывает на вечерах с юношами.
— За что бьешь, отец Поры, за что? — кричала Онага. — Я же вместе с тетей Идари всегда бывала, с дочерью и с твоей мамой... Я же ничего... я же после родов...
Идари выбежала, услышав крик Онаги, прикрыла ее своим телом, привела домой.
— Ревнуешь, что ли? — спросила она вошедшего вслед за ними Гиду. — Она была всегда со мной, с маленьким на руках. Эх ты! Так избить. Отец твой жен своих пальцем не тронул, а ты избиваешь. Если бы на ее месте была Гэнгиэ, ты небось руки не поднял бы.
— Не говори о Гэнгиэ! — закричал Гида.
— Не говори... А ты не бей Онагу, она не собака, она твоя жена, мать твоих детей. Я это так не оставлю, ты ответишь за это.
Собравшийся в этот же день женский совет решил судить Гиду за избиение жены. Об этом решении тут же стало известно всему стойбищу. Пошли разговоры, довольные женщины шушукались возле очагов; мужчины, лежа на нарах, рассуждали о поступке Гиды. Никто из них не видел в этом ничего плохого — подумаешь, избил жену, она на то и жена, чтобы ласкать ее и изредка бить, когда она этого заслуживает.
Весть о суде над Гидой обошла все соседние стойбища, и в день суда в Джуене собралось много народу. Ни одна фанза не могла вместить всех желающих, пришлось первый показательный суд проводить под открытым небом. С Амура тянул холодноватый ветерок, трепал красную ткань, которой покрыли стол. Мартовское солнце обогревало спины любопытных мужчин и женщин, с нетерпением ожидавших начала суда. Людям не на что было присесть, одни прихватили охапку сухой травы, другие расселись на чурбанах, и только самые догадливые взяли кабаньи шкуры и беззаботно сидели, поджав под себя ноги. Всех интересовало, какое наказание понесет Гида, но во всем Джуене об этом знала одна Нина Косякова.
Пота верно сказал Токто, у Косяковой был документ от краевой прокуратуры, ей разрешалось устраивать показательные суды над многоженцами, калымщиками, над мужчинами, избивающими жен, но наказывать она не имела права. В ее работе важно не наказание, а разъяснение охотникам законов советской власти, которые не разрешали многоженства, не позволяли продажи дочерей за калым, утверждали равноправие женщин с мужчинами. Показательный суд должен был предостерегать от преступлений.
Когда вышла Нина и встала за столом, все притихли, старики вытащили трубки изо рта, — так был важен этот момент.
— Мы сегодня будем судить именем советского закона Киле Гиду, — торжественно начала Нина. — Мы будем судить справедливо. Мы будем судить строго, потому что этого требует наша жизнь. Вы все знаете, что советская власть наделила женщин такими же правами, как и мужчин. Женщина равноправна, говорим мы. А Гида Киле не признал равноправие своей жены Онаги, он избивает ее, как избивает своих собак. За это мы сегодня будем судить его. Для этого надо избрать двух заседателей.
Женщины выдвинули Идари. Когда мужчины назвали Поту, многие запротестовали, заявили, что нехорошо, когда на таком важном суде за столом будут сидеть муж с женой. Назвали Токто, но тот отказался, заявив, что не станет судить своего сына. Наконец, избрали охотника Боракту. Идари с Борактой сели за стол рядом с Ниной.
— Киле Гида! Займите место подсудимого, — потребовала Нина, указав на табурет в двух шагах от красного стола.
Нина никогда в жизни никого не судила и не была знакома с процедурой суда. В краевой прокуратуре объяснили ей, что не обязательно придерживаться статута суда, главное, чтобы все проходило торжественно, глубоко обдуманно, прочувствованно. И поняла Нина, что суд надо вести так, чтобы подсудимого в жар бросало, потом прошибало. Но как этого добиться? Не обратится ли суд в посмешище? Долго обдумывала она каждую деталь, взвешивая каждое свое слово. «Прежде всего строгость, строгость и строгость», — твердила она сама себе.
Гида молча, опустив голову, приблизился к табурету и сел на краешек, вполоборота к землякам.
— Садись лицом к людям! Нечего теперь прятать глаза, нечего теперь стыдиться, стыдился бы, когда бил жену.
— Я сгоряча, — пробормотал Гида.
— Тебе не давали слова, молчи. На вопросы будешь отвечать стоя. Ты знал закон, что женщина равноправна с мужчинами?
Гида встал и кивнул головой.
— Голос потерял?
— Слышал такое, да не понял...
— Чего врешь? — выкрикнула Идари. — Сколько об этом говорили, сам говорил, да все смешком и смешком. Вот и досмеялся.
— Тебя, тетя Идари...
— Она тебе не тетя, она народный заседатель! Онагу как жену, как мать своих детей признаешь?
— Да.
— Зачем тогда побил?
— Чего она ходит на вечера? Я не разрешал...
— Вот как? Ты не разрешал, потому она не должна ходить на женский совет, на вечера грамоты. А где ее право?
Токто сидел позади всех на охапке сухой травы и внимательно следил за судом. Не нравился ему этот суд, не нравилась судья, ее голос, вопросы. Да и жалко было сына, наверно, весь вспотел, глаз не поднимает на людей. Разве легко слушать всякие обвинения перед глазами стольких людей.
— Ты побил не жену, ты побил советскую активистку, члена женсовета и за это понесешь суровое наказание.
Тут все зашевелились, зашептались. Токто уперся глазами в Косякову и старался отгадать ее мысли. «Зачем же такое обвинение? — испуганно думал он. — Зачем так? Он, когда бил, жену бил, заревновал...» Мысли путались от страха за сына.
— Ты не разрешаешь ей ходить на женсовет, не разрешаешь учиться грамоте, не разрешаешь вступать в новую жизнь, значит, ты не разрешаешь ей подчиняться советским законам! Ты против советских законов.
Это было тяжелое обвинение, никто не ожидал такого поворота. Все знали, что Гида побил жену из-за ревности, сгоряча, а тут вон в чем его обвиняют! Вон куда повернула умная или хитрая русская девушка. Права она или нет? Очень у нее все ладно получается, вот что значит быть грамотной. Но права ли она? Слишком уж тяжелое обвинение.
— Я не против, как я могу быть против власти, — забормотал Гида и сморкнулся. — Я только не хотел, чтобы она одна без меня ходила... А то что я...
— Признаешь себя виновным?
— В чем? Что побил? Да, побил, но я не против власти...
— У кого вопросы есть к подсудимому?
Все молчали.
— У тебя, Боракта, есть вопросы?
— Нет, зачем вопросы, нет вопросов, — затараторил Боракта.
— Может, кто хочет слово сказать?
Встала Идари и заговорила.
— Правильные советские законы, очень правильные. Разве за нас, за женщин, какой закон раньше заступался? Не было такого закона. А теперь поглядите на этого храброго охотника, на жену поднявшего руку. Стоит, дрожит. Дрожи, дрожи, Гида, да запомни крепко, не тронь и пальцем женщину. Все мужчины запомните, тронете жену, будете вот так стоять перед судом. Какое наказание он заслужил?..
Нина взяла ее под локоть, шепнула: «Об этом позже».
— Ладно, об этом позже, — продолжала Идари, но вдруг, потеряв нить мыслей, растерянно замолчала. — Ладно, я кончила, — смущенно сказала ока и села.
— Если нет больше желающих слово сказать, то суд уходит на совещание, — объявила Нина.
Когда она с Идари и Борактой удалилась в фанзу, охотники закурили и заговорили.
— Теперь собственной жены станешь бояться...
— Власть им дали, равноправными сделали, что хочу, то и делаю, а ты слова не смей сказать...
— Прежде чем ударить жену, придется вспомнить, кто она такая, кроме как жена, иначе нельзя, обвинят...
Судьи совещались недолго. Идари сообщила, что Онага просила не судить мужа, плакала.
— Судить надо было, — ответила Нина. — А ты, Боракта, почему молчал?
— Чего говорить? Зачем говорить? Скажу, а потом меня будешь судить, стыдно будет.
— Жену тоже бьешь?
— Маленько как не бить?
— Все равно, не смей больше трогать, а то судить будем. Итак, решаем: так как за Киле Гиду заступилась побитая жена Онага, и имея в виду, что он впервые...
— Нет, он и раньше тоже бил, — возразила Идари.
— Ладно, пусть... Впервые совершил такой поступок, побил жену, на первый раз ограничиться строгим предупреждением, но при повторении строго наказать, вплоть до тюрьмы. Согласны с таким решением?
— Согласны, — ответили оба заседателя и облегченно вздохнули.
Нина вышла к столу и сказала:
— Встать всем! Суд зачитает решение.
Все поднялись на ноги, выслушали решение суда. Загалдели.
— В тюрьму не сажают!
— Я так и знал, не будет ничего. Будем бить...
— Правильно, угрожали только.
Один Гида, не проронив ни слова, зашагал домой. После этого суда он долго не разговаривал с домашними, спал отдельно от жены, стыдился появляться на людях.
Весной женщины все же раскопали огороды на релке возле Чиори. К. этому времени Нина открыла ясли, собрала всех ребятишек ясельного возраста. Она доставала все необходимое с боем: и деньги, и мануфактуру, и питание детям. Почти каждый день приходила в контору колхоза к Токто и надоела ему так, как может надоесть незаживающий чирий.
И Токто сбежал в Болонь на все лето. Позже услышал, что огороды женщин на релке затопило. Жалко стало их, зря трудились, так радостно трудились. До осени пробыл Токто в Болони, изредка навещал Джуен, но встреч с Ниной избегал. Однажды, когда он находился дома, прибежала к нему сестра Боракты, вдовая женщина, уже несколько лет не находившая себе мужа.
— Отец Гиды, помоги, — сказала она, — ты был сельсовет, все законы знаешь не хуже Поты и Идари, и этой светловолосой...
— Ты с чего это взяла? — оторопел Токто. — Откуда мне лучше их знать? Ты заговорилась. Эта русская послана сюда учить нас...
Токто говорил искренне, позабыв о своей неприязни к Нине.
— Ладно. Так вот, слушай. Я не кривая, не косая, умерший муж меня любил...
— Помню, раза два видел, как палкой он тебя...
— Так это два раза всего, виновата была. А так я женщина хорошая, еще рожать могу, а Пота и русская не разрешают дать за меня тори.
— Потому что советские законы не разрешают. За тори русская будет судить...
— Не разрешает, не разрешает. Все же дают тори! Мне одной не разрешают.
— За кого дали?
Тут в фанзу вошел Пота, за ним Идари. Вдова прикусила язык.
— Говори, за кого дали? — повторил Токто.
— Кому какое дело, за кого дали! — закричала женщина и повернулась к вошедшим: — Пота, разреши тори дать! Мне стыдно выходить без тори!
— Чего стыдиться? Все выходят без тори, и никому не стыдно. И ты выходи, — ответил Пота.
— Я молодая еще, рожать могу, род мужа пополню, и он не хочет без тори, да и я не хочу...
— Закон есть закон.
— Эх, вы! Ты, Идари, говорила, правильные советские законы, очень правильные! Нас, женщин, защищают. Где же они правильные? Где они защищают?
— Тебя не продают как собаку, — ответила Идари.
— Как собаку, говоришь? Эх гы! Плохой закон, плохой! Меня твой закон ставит ниже собаки! За собаку деньги платят, а за меня не платят. Понимаешь ты? За меня рубля не дают, выходит, я хуже собаки, ничего не стою...
«Вот это завернула, — подумал Токто, когда ушла вдова, — так завернула, что не придумаешь лучше. Ха!» И тут вдруг он поймал себя на мысли, не выглядит ли сам в глазах Нины, как эта взбалмошная женщина. Он ведь спорит, ругается, иногда сам замечает, что поступает нелепо, прямо, можно сказать, глупо, но не может сдержаться.
«Да, наверно, так, — подумал Токто, — дураком выгляжу. Ладно, зачем теперь исправляться, еще хуже будет. Все равно я упрямцем был и останусь».
Подходила пора выезжать на Амур, ловить осеннюю кету. Токто готовился выезжать всем колхозом. Однажды явилась к нему Нина, сказала:
— Товарищ председатель, в Джуене и нынче не могут открыть школу, детей колхозников нужно отправить в Болонь, там они будут жить в интернате и учиться.
— Мне какое дело? — ответил Токто. — Отправляй.
— Не хотят отпускать детей.
— А я что, заставлю их, что ли?
— Зачем? Пример покажите, отправьте своих внуков в интернат, за вами отправят и другие.
— Моих внуков? В Болонь отправить одних?
— Почему одних, с другими детьми...
— Что ты говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Отправить Пору и Лингу — это оторвать мое сердце от меня! Понимаешь?!
— Им учиться надо, они должны быть грамотными...
— Нет, внуки всегда будут со мной! И молчи, знаю, что скажешь: против советских законов идешь, не отпускаешь их учиться. Судить тебя! Ну, суди, суди старого Токто! В тюрьму его! Я в тюрьму пойду с внуками. Так и знай. А внуков не отпущу, пусть другие отправляют...
Крепко поругался Токто на этот раз с Ниной. Вечером на Токто набросились Пота с Идари, и они окончательно поссорились. На следующий день Токто всей семьей выехал на путину, а после нее переселился в Хурэчэн. Переселился потому, что ему житья не давали в Джуене.
Прошел почти год, а Токто до сих пор обижен на названого брата и его жену, ему все кажется, что они должны были заступиться за него, ведь шел разговор о внуках, о сердце Токто! Знали, как Токто привязан к ним, как любит их, и все же пошли на поводу у русской девушки. На Нину Токто перестал сердиться, потому что она уехала из Джуена в ту же осень, а куда уехала, он не знал и знать не хотел.
...Токто выбил пепел из трубки.
— Где ты, дед? — раздался голос Поры, старшего внука.
Вышел он из-за кустов, тонкий, упругий крепыш. Токто залюбовался внуком. «Родился он в год, когда у меня оморочка с мясом затонула, — подумал он. — Пятнадцать зим прошло. Женить пора».
— Шаман тебя ждет, — сообщил Пора.
— Слушай, председатель, по делу я, — сказал шаман, когда Токто сел возле него на нарах. — С людьми я говорил, согласны. Я ведь работаю для колхоза, стараюсь. Езжу от одной бригады к другой, камлаю, всем добиваюсь хороших уловов. Все довольны. Мне надо деньги за это платить. С людьми говорил, согласны.
— Чего тогда меня спрашиваешь?
— Ты председатель.
— Если люди согласны, будем платить.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
После встречи и задушевной беседы с Карлом Яновичем Луксом Богдан почувствовал волнение и какое-то непонятное беспокойство. Чем это было вызвано, он сам себе не мог объяснить.
— Волнуешься? — спросил Михаил Гейкер. — Я тоже что-то волнуюсь. Конешно, ты ни разу не бывал дома, не встречался с родственниками, с друзьями. А я и другие ездили, встречались. Зря ты не ездил на Амур...
— Много работы, хочется больше познать, взять хочется больше, понял? — ответил Богдан.
— Будто тебе одному этого хочется. Умник какой. Конешно, всем хочется. Но домой неплохо съездить. Зря нынче я не поехал.
— Чего это ты вдруг так, зря да зря. Кто тебя держал? Литер тебе давали, продуктовый паек давали — пожалуйста, езжай домой, товарищ Конешно. А ты не поехал.
Михаил не обиделся на «товарищ Конешно».
— Жалко тебя стало, — засмеялся он. — Ты один на лето остаешься, один помогаешь Севзвездину нанайскую грамматику довести. Решил помочь вам, вот и остался.
— Хитрый ты, Моло-Мишка!
— А ты думал. Конешно, хитрый. А волнуюсь, потому что сердце чует, приедут друзья или просто знакомые. Ведь Институт народов Севера открывается, должны приехать новички.
— Должны, я тоже жду.
— Институт уже, знаешь, как назвали ненцы, эвенки, чукчи? Красный чум! Красная яранга! А мы как назовем? Красный хомаран или красная фанза?
— Молодцы ребята, хорошо назвали. Ведь этот дом на Обводном канале теперь будет знать весь Север. А может быть, и весь мир, потому что ни в одной стране нет такого института. Только у нас есть, в Стране Советов, в городе Ленина.
— Умеешь говорить. До сердца доходит.
— Смеешься? А чего смешного? Ну, скажи, где, в какой другой стране столько внимания уделяют маленьким народностям, как у нас? Где открывают для них специальные институты и обучают бесплатно, одевают, кормят бесплатно, водят по театрам, музеям? Где?
— Зачем сердиться? Я вовсе не смеялся, а просто так...
— Нельзя «просто так», со смешинкой говорить о большом деле. Обидно. А что делается сейчас на местах! Ты вот ездил, видел своими глазами, а я отсюда сердцем чую. Я бы сейчас уехал туда, если бы отпустили. Я слишком задержался тут, слишком много задарма съел хлеба, пора долг отдавать.
— Ладно, Богдан, не сердись. Я же пошутил с красным хомараном и фанзой. А долг мы уже отдаем, так я думаю. Вместе с учеными букварь пишем, грамматику составляем. Я сам удивляюсь, как так получается? Мы сами учимся и сами букварь пишем.
Богдан задумался. Действительно, как-то чудно получается, что приехал сюда малограмотным, а ученые сразу приобщили его к своей работе. Случалось ли с кем-нибудь так, как случилось с ним? Нет, не было раньше такого, так же как не бывало раньше Института народов Севера, школ и больниц для малых народностей, собственной письменности. Все это дала советская власть, партия Ленина.
— Букварь — это нашим детям, — продолжал Михаил. — Только представлю себе, как читают наш букварь, и что-то начинает у м,еня в груди ворочаться, в глазах щипать. А у тебя?
— Нет, просто приятно.
— Мне тоже приятно. Так же было, когда я влюбился...
Богдан усмехнулся: сейчас начнет рассказывать о своей любви. Людмила Константиновна была моложе Богдана, Михаила и других студентов. Но ее все звали по имени-отчеству из-за ее должности медсестры; такой редкой среди северян. Михаил давно влюбился в нее и только, кажется, недавно объяснился.
— Не улыбайся, — сказал Михаил. — Взяли привычку, как сказал о любви, улыбаться. Мы скоро поженимся, она согласна уехать на Амур.
— Миша! Правда?
— А что? Вру, думаешь?
— Молодец, Моло! Ты ведь доктора привезешь на Амур.
— Конешно, привезу. Думаешь, сам не знаю. Вот вы тоже женились бы и увезли кто доктора, кто учителя, и мы весь район обеспечили бы докторами и учителями.
— Это ты один такой удачливый, нам куда до тебя.
— А ты чего с девчонками не гуляешь? Они сами, думаешь, к тебе на шею бросятся? Жди, состаришься...
С Михаилом Богдану всегда приятно поговорить. Весельчак он, выдумщик, загрустишь — мигом грусть развеет.
Жили северяне теперь на Обводном канале, где стоял новый Институт народов Севера. Каждый день в общежитии появлялись новички. Позавчера прибыла большая группа тунгусов, вчера приехали самоеды и остяки. Богдан с нетерпением ожидал амурских: ульчей, нанайцев, нивхов.
— Как ты думаешь, сегодня наши приедут? — спросил Михаил, перестав дурачиться. — Ты кого ждешь?
— Сам не знаю.
— Я тоже не знаю, но кто-то все равно приедет. Яшка Самар вернется, ведь ему литер выдали туда и обратно.
Яков Самар приехал в Ленинград год назад, скучал по дому, чуть не заболел, Михаилу земляки дали задание — веселить Якова, смешигь, чтобы не тосковал и не заболел. Все нанайцы были рядом с Яковом. А когда окончились занятия, выхлопотали ему литер до Хабаровска и обратно, проводили на вокзал, усадили в поезд.
— Напейся вдоволь амурской воды, да не забывай, что у тебя в кармане билет обратно в Ленинград, — напутствовал его Михаил. — А нам привези по кусочку юколы. Не забудешь? Соленой кеты привези, мы тут с картошкой ее сварим. Ладно? Возвращайся...
Ни в этот день, ни на второй студенты-нанайцы не дождались земляков. Только на третий день появились они. Была суббота, Богдан с Михаилом и Людмилой собирались на Каменные острова погулять. Богдан любил этот парк, хотя он нисколько не походил на тайгу, любил покататься на лодке, хотя и лодка — не оморочка. Но вода — она всегда вода, что на Неве, что на Амуре, и если любишь ее как тайгу, как свой дом, она всегда приносит тебе радость. Почему-то Богдан именно на воде чаще всего вспоминал дом, тайгу, беседы с дедом-старшим Баосой и дедом-младшим Пиапоном и почему-то на воде чаще ощущал зов родной земли амурской, о которой говорил дед Пиапон.
Богдан с Михаилом ждали Людмилу, но вместо нее в комнату вбежал Яшка Самар, бросился к Михаилу, обнял и начал тузить его кулаками по спине.
— Соскучился, Миша, по тебе! Посмотрю на воду — тебя вспоминаю, поймаю рыбы — тебя вспомню. Ты как шаман!
— Вот, говорил я тебе, а?! Вот как надо, — радовался Михаил.
Потом Яша подбежал к Богдану, обнял.
— А тебя, Богдан, девушка спрашивает, — сообщил он. — Такая красивая, я еще никогда не видел такой. Кто она тебе, сестра? Невеста?
У Богдана сердце забилось, будто белка в клетке.
— Откуда я знаю, — как можно спокойнее ответил он, — сперва надо взглянуть.
— Пошли, пошли, — заторопил Яшка. — Много наших приехало, двенадцать нанай, пятеро ульчей, два нивха.
Богдан, чувствуя непонятную тяжесть в ногах, будто кто привязал к ним гири, шел за плечистым Михаилом и заглядывал вперед через его плечо. В вестибюле стояли чемоданы, наспех сколоченные из фанеры, аккуратно перевязанные веревками баулы и тюки. Рядом толпились приезжие. Их уже окружили студенты, теребили, обнимали знакомых, расспрашивали. Вдруг прикрывавший Богдана Михаил метнулся в сторону и обнял невысокого, такого же, как и он, плечистого паренька. Богдан растерянно стоял на лестнице и смотрел, как обнимались земляки.
— Это он брата встретил, — сказал Яшка. — Я нарочно не сказал ему, что брат приехал. Гэнгиэ, где ты?
Богдан вздрогнул: Гэнгиэ! В голову ударила кровь, в глазах потемнело. Откуда она? Как семья? Гида? «Береги себя, Богдан», — услышал он голос, который слышал в шепоте листьев, в звоне ключа, в пении воды под оморочкой.
— Богдан, здравствуй!
Перед ним стояла Гэнгиэ, красивая, смущенная. И глаза ее косульи, и волосы такие необычные, не по-нанайски черные, а светлее... Она, такая близкая и родная... Здесь, в Ленинграде, вдали от Амура — еще роднее.
— Гэнгиэ, ты? Как?
— Приехала.
— Как?
— Так...
Слышали окружающие этот разговор, но никто не мог понять, о чем они говорят, а они все понимали, и отвечала Гэнгиэ длинно, ясно, хотя сказала только «так». И вопрос Богдана «как» спрашивал об очень многом, и тоже понятен был только ей. Богдан оглядел Гэнгиэ. На ней аккуратная кофточка, черная юбка, серые чулки, простые туфли — все необычное, и потому Гэнгиз выглядела еще красивее.
Провожаемые десятками глаз, они спустились с лестницы и встали за колонной. Здесь только они немного успокоились. Гэнгиэ взяла его руку, погладила, смущенно опустив глаза. Руки ее дрожали.
— Как доехала? — спросил Богдан и тут же понял, какой глупый вопрос задал, и засмеялся.
Гэнгиэ тоже засмеялась и попросила:
— Молчи лучше, я ничего тебе толком пока не расскажу, я растеряла все слова. В глазах туман, голова кружится целый день. Лучше помолчим.
Богдан крепко сжал ее руки, заглянул в глаза.
— Новички, за мной! — раздался наверху голос.
— Сейчас поведут вас в комнаты, потом накормят, сводят в баню. Вечером будете отдыхать, поняла? — торопливо шептал Богдан. — Ты будешь свободна. Я тебя буду ждать здесь, у этой колонны. Запомнишь?
— Не знаю, Богдан, я даже не помню, с какой стороны зашла, где нахожусь, ничего не понимаю, я сама не своя.
— Хорошо, я тогда сам разыщу гебя.
Богдан подошел к чемоданам, тюкам, обернулся к Гэнгиэ, спрашивая взглядом, который ее. Гэнгиэ взяла маленький сверточек и улыбнулась. И тут Богдан понял все.
— Ты сбежала? — спросил он.
— Потом, — опять улыбнулась Гэнгиэ.
«Вот она какая, Гэнгиэ! — восхищенно подумал Богдан, глядя ей вслед. — Какая молодец! Потянулась к знанию, к свету. Сбежала от мужа, чтобы стать грамотной, полезной для своего народа. Молодец!»
— Вот теперь я понял, почему ты с девушками не гуляешь, — сказал Михаил, подходя к Богдану. — Когда такая у тебя невеста, разве о другой подумаешь?
— Ты ошибся, она не невеста, — засмеялся Богдан.
— Врешь, по глазам видно.
— Кто она? — спросил подошедший Яков.
— Знакомая, вместе рыбачили.
— Знакомая, — передразнил Михаил. — Яша, голову мою обреешь, если он не женится на ней. Потом в придачу еще отдам шелковую рубашку с галстуком.
— Проспоришь, — сказал Богдан.
— Ни за что. Ты посмотри, Яша, в его глаза, это же глаза сумасшедшего или влюбленного...
Прогулку на Каменные острова тут же отложили. Людмила Константиновна осталась в общежитии хлопотать со всеми нанайцами о праздничном ужине. Яков привез летней юколы, вяленых сазанов, соленой и сушеной черемши, несколько лепешек из толченой черемухи. Все было нанайское, родное, привычное с детства!
Вечер амурского землячества устроили в столовой. Пригласили Карла Лукса, Сашу Севзвездина. За длинным столом, покрытым белой скатертью, сидели нанайцы, ульчи, нивхи. Богдан сидел рядом с Гэнгиэ, подкладывал ей в тарелку студенческой еды и улыбался, глядя, как она неумело обращается с вилкой.
— Хочешь, я тебе сарбой — палочки для еды — достану? — спросил он.
— Не надо, Богдан, я лучше буду учиться вилкой есть. Я уже немного научилась, пока в Хабаровске была и сюда ехала. — Гэнгиэ оглядела Богдана, скользнула взглядом по отглаженному костюму, белому воротнику, галстуку. — А этот ошейник самому надо завязывать? Красиво. Здесь все красиво. А ты совсем другой...
— Постарел?
— Нет, не постарел. Ты просто стал другой человек, я бы тебя ни за что не узнала, если бы встретила где.
Кто-то забренчал вилкой по бутылке, требуя тишины.
— Товарищи, друзья! — поднялся высокий широкоплечий Карл Янович. — Ну вот, мы встретились здесь, за этим столом. Вы, дети Амура, встретились на берегу Невы! Как в сказке. Это стало возможно только потому, что победила Великая Октябрьская революция, потому, что наша партия и правительство решают национальный вопрос по заветам Ленина...
— Кто это? — спросила Гэнгиэ.
— Лукс, старый революционер, большевик. В Хабаровске был председателем комитета Севера, здесь стал заместителем директора нашего института.
Ничего не поняла Гэнгиэ из этого объяснения, как и не понимала речи Карла Лукса. До замужества она еще знала несколько русских слов, а на Харпи все позабыла.
— Институт народов Севера открыт для вас, — продолжал Карл Янович. — Учитесь, набирайтесь знаний и несите их своему народу. Вы сами видели, какие преобразования происходят на Амуре, знаете, как не хватает грамотных людей. Председатели сельсоветов, колхозов сплошь неграмотные или малограмотные люди. Кооператоры тоже. Нет секретарей сельских Советов, бухгалтеров, кассиров в колхозах. Не хватает учителей. Здесь, в институте, вы будете обучаться на факультетах педагогическом, советского строительства, кооперации. Вас ждут на Амуре, и потому старайтесь, учитесь.
Все захлопали в ладоши, Гэнгиэ последовала их примеру.
— Ты юколу ешь, — сказала она Богдану. — Соскучился ведь?
— Соскучился, — признался Богдан. — Я бы сейчас поел боды или полынного супа и кеты.
— Где их здесь приготовишь? Откуда возьмешь полынь, свежую рыбу, кету?
Гэнгиэ после бани посвежела. От нее пахло туалетным мылом, одеколоном. Это постарались студентки-землячки.
— Ты ничего не успела рассказать, — прошептал Богдан. — А я хочу услышать новости, как мои живут, как твои...
— Моих там уже никого нет.
После ужина, одевшись потеплее, Богдан с Гэнгиэ вышли прогуляться. Расцвеченный тысячами освещенных окон, уличными фонарями, город восхитил Гэнгиэ.
— Богдан, я всю дорогу смотрела в окно, — рассказывала она. — Какая большая земля, а! Сколько ехали мы, как быстро ехали, а края земли нет. Удивительно. Столько городов, сел проехали — не сосчитать. Столько чудес — глаза разбегаются. А ты, наверно, уже все знаешь, да? Как я тебе завидую.
— Не завидуй, учись прилежно, все сама узнаешь.
— Как буду учиться — не знаю. Я же ничего не понимаю, букв не знаю.
— Ты приехала, чтобы научиться грамоте. Все будет хорошо, я тебе буду помогать. А теперь расскажи все, все.
— Отец твой председателем сельсовета работает. Здоров. Мать, брат, сестра тоже здоровы. Брат твой Дэбэну двоих детей имеет.
— Вот как! Молодец, обогнал меня.
— А ты разве... — Гэнгиэ испуганно смотрела в глаза Богдана.
— Что? Женат, думаешь? Нет, не успел, — рассмеялся Богдан.
Гэнгиэ успокоилась и продолжала рассказ.
— Мой бывший муж ждет третьего ребенка, отец его и мать здоровы. О дядях своих, наверно, знаешь? Рассказывали?
Богдан слышал о няргинцах от ребят, возвратившихся с Амура после летних каникул.
— Ты расскажи о себе, — тихо попросил он, когда сели на скамейке в парке.
— О себе нечего рассказывать, Богдан. Какая у меня была жизнь? Скажешь, он любил меня. Да, любил. Но я не любила его. Когда мы с тобой впервые увиделись, ты помнишь? Нет? А я помню. Ты проезжал из Джуена в Нярги, останавливался в Болони. Тогда я увидела тебя...
— Я много раз останавливался в Болони.
— Да. Но тогда я тебя впервые увидела. Потом я видела тебя много раз. Когда ваша лодка приставала в Болони, я шла ближе к вам за водой. Или выходила чистить кастрюлю.
— Нарочно?
— Потом я вышивала кисет, — продолжала Гэнгиэ, не отвечая на вопрос Богдана. — Не ему, другому. Однажды приехал его отец, выпили, и тогда мой отец начал меня продавать ему...
— Кому ему? Токто, что ли?
— Да, отцу Гиды.
— Как так, Токто сватался сам?
— Нет, отец мой отдавал меня. Но Токто хороший человек, сказал, не хочу губить ее, она молода и... молода, мол, грех не хочу брать, говорит. Отказался.
— Молодец! — выдохнул Богдан. — Я же ничего этого не знал.
— Никто не знает, даже Гида не знает. Потом Гида увидел меня и потребовал у отца, чтобы сватал. Тогда заставили меня быстро кисет закончить и заставили подарить. Помнишь это?
Да, Богдан помнил все.
— Этот кисет не ему был вышит, — жестко проговорила Гэнгиэ. — Теперь я женщина, Богдан, мне нечего стесняться...
Богдан даже не заметил, как очутилась ее теплая рука в его ладонях, он гладил ее...
— Потом стала его женой. Однажды узнаю, что у него есть девушка, она родила от него сына. Я не знала, куда мне деться от стыда, где спрятаться от людских глаз, хотя мы одни жили на Хэлге, но мне казалось, что много-много людей смотрят на меня, тычут пальцами и смеются. Я нарочно съела гу и стала умирать. Потеряла сознание... Да твой отец с его отцом вовремя вернулись, оживили. Вот как было, Богдан. А ты всегда видел меня спокойной, не знал и не догадывался, о ком я думаю, а я думала о тебе. Когда ты уходил в партизаны, я плакала всю ночь, подушка была мокрая. Я молилась эндури, чтобы он берег тебя...
— Береги себя, сказала ты тогда, — пробормотал взволнованный услышанным Богдан.
— Говорила, громко сказала, чтобы все слышали, чтобы и он, трус, услышал. Ты знаешь, его партизаны взяли проводником, а он сбежал. Трус! Погом он мне говорил, соскучился, мол, не мог больше... Как я возненавидела его! Но что я могла сделать? Сбежать? Куда? Дома отец изобьет и вернет с позором. Куда я могла деться? Отравиться еще раз боялась. Топиться — тоже. Жила я как мертвая, не было в моей жизни радости. Нет, вру. Однажды в Болони была рада, когда сама обняла тебя... Не могла... Когда услышала от Нины о тебе, что собирают людей в Ленинград, услышала, как девушки бегут от родителей, жены от мужей на учебу, я тоже сбежала. Хотели меня оставить в Хабаровске, но я боялась, что приедут, выкрадут, ведь до Хабаровска совсем недалеко. А здесь они не найдут, сюда не доберутся.
— А ты храбрая, Гэнгиэ, решилась на такое.
— Какая храбрая, побоялась второй раз отравиться.
— Зачем? Догадывалась ведь, что есть человек, который горевал бы...
Гэнгиэ опустила голову.
Богдан нежно гладил руку Гэнгиэ и думал о ее судьбе, о судьбе любимой жены Гиды. Если любимая жена пережила столько, то можно себе представить, что достается нелюбимым женам, которых избивают как собак, заставляют выполнять самые тяжелые и грязные работы.
— Больше этого не будет, — сказал он, задумавшись.
— Чего не будет?
— О будущем я говорю.
— Будущее... Ты теперь далеко видишь, ты грамотный... А я что, я сбежавшая от мужа жена, неграмотная, темная женщина...
— Перестань, Гэнгиэ, не говори так.
Богдан обнял ее, прижал к груди ее мокрое от слез лицо.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Нельзя стрелять, — сказал Холгитон и не услышал своего голоса. — Грех стрелять. Он с когтями, мы с копьем...
Холгитон поднял голову, глаза его облепило снегом, и он не увидел тигра, но почувствовал его близость, унюхал его кошачий запах. Он побарахтался в снегу и, как самому показалось, резво вскочил на ноги, выставил вперед копье. Тигр, оскалив зубы, лежал перед ним в нескольких шагах. Холгитон вытер с лица снег и медленно пошел на него.
— Ты не Амбан, ты вор! Тебе стыдно стало, ты сам ищешь смерть. Получишь...
Полосатый зверь скалил зубы, но вместо густого рева из его глотки вырвался хрип. Холгитон напружинился и всем телом бросился на тигра. Копье его мягко вонзилось в горло зверя.
— Получай! Я тебя убил!
Тигр жалобно мяукнул и устало закрыл глаза. Холгитон ждал сопротивления, борьбы, он все еще упирался копьем, ожидая схватки.
— Я тебя убил, — повторил он, когда тигр закрыл глаза. — Прости меня, прости и этих молодых людей, они не виноваты, ты сам виноват. А грех пусть падет на меня, я последний ударил тебя копьем...
Холгитон вытер мокрое лицо рукавицей, сел на снег возле тигра и стал обтирать кровь с копья полой халата. Охотники медленно подходили к своей жертве, все еще держа ружья наизготовке. На лицах страх и удивление. Пиапон встал перед тигром на колени.
— Прости, Ама-Амбан, не от злости стрелял, не от жадности, мы тебя раньше просили уйти, сам виноват. Прости.
Опасливо подошли Калпе и другие охотники, опустились на колени, пробормотали:
— Прости, Ама-Амбан.
Холгитон вытащил кисет, набил трубку и закурил. Руки его двигались нарочито медленно, чтоб другие не видели, как они дрожат, как он испуган до полусмерти. Даже Пиапона била предательская дрожь, и он никак не мог от нее избавиться.
— Дело сделано, — смущенно проговорил он, присаживаясь рядом с Холгитоном.
Старик ничего не ответил. Охотники молча расселись рядом и закурили.
— Что будем делать? — спросил Пиапон после долгого молчания.
— Помолимся, потом домой надо, время пришло, — ответил Холгитон.
— А его?
— Не знаю, самому не приходилось, а старики рассказывали, что, если такое случалось, на месте оставляли. Сучьями, деревьями прикрывали, чтобы вороны не добрались, и насовсем уходили с этого места.
— Оставить, что ли, и нам?
— Как оставить? — вмешался в разговор Калпе. — Нельзя оставлять. Надо привезти, людям показать. Это надо обязательно так сделать. Люди теперь умные, поймут.
— Чего поймут? — спросил кто-то.
— Как чего? Ты сам-то разве не понял, что случилось? Эх, ты. Раньше мы его след целовали, тропу его не осмеливались переходить, а теперь... Время новое, мы обновились, вот что люди поймут.
«Совсем изменился Калпе, — подумал Пиапон, глядя на оживленное лицо младшего брата. — Совсем новый человек. Правильно рассуждает. Надо привезти Амбана домой, надо Воротину сдать, пусть государство в дар принимает. Только зачем государству тигр, что с ним делать? Мясо нельзя есть. Разве что для похвальбы, вот, мол, посмотрите, какие мы стали, ружья и копья поднинимаем на Амбана. Для этого только? Впрочем, это тоже не маленькое дело...»
— Ножом не смейте трогать, — предупредил Холгитон, и Пиапон понял, что старик согласился вывозить тигра из тайги.
В этот вечер охотники молились допоздна, а утром покинули зимник. Длинная цепочка тяжело нагруженных мясом нарт растянулась между деревьями. Среди них выделялась одна нарта с тигром: ее доверили старику Холгитону. Охотники решили выходить на горную реку Анюй. Путь этот длинноват, но зато охотники пройдут по густонаселенному Амуру, покажут свой необычный трофей.
— Пусть люди поглядят, — стоял на своем Калпе. — Старики лучше поймут новую жизнь, новых людей, а молодым это силы прибавит.
Прав оказался Калпе. В первых же стойбищах, Сира и Вира, люди окружили нарту с тигром, дружно помолились и устроили нечто вроде митинга. Потом охотники проходили через русские села, и всюду высыпал народ, плотно окружал нарту с тигром и кто с восхищением, кто со страхом разглядывал грозного хищника. Молва о няргинцах, осмелившихся поднять руку на Амбана, распространилась по Амуру, Любопытные из дальних стойбищ выходили на Амур, чтобы только взглянуть на тигра. Когда подходили к Нярги, вперед выпустили Холгитона с тигром. Няргинцы встретили своих далеко от стойбища.
— Вас человек с ящиком ожидает, — сообщили они.
«Человек с ящиком» оказался фотографом, он долго не выпускал охотников из своих цепких рук, заставлял позировать то всей бригадой, то поодиночке. А когда узнал, что Холгитон добил зверя копьем, потребовал, чтобы тот показал, как это совершилось. Отнекивался старик как мог, но вынужден был уступить напористому фотографу, Вытащил он свое копье, снял чехол и встал перед тигром. А тигр лежал на нарте, привязанный к ней веревками.
— Зачем так, стыдно так, — сказал Калле фотографу. — Видишь, он на нарте веревкой привязан, а он, — Калпе указал на старика, — с копьем на него. Стыдно. Один привязан, другой с копьем...
Фотограф понял свою оплошность, тигра бережно сняли с нарты, положили на снег.
— На мертвого с копьем, — бормотал Холгитон.
— Ладно, не ворчи, — сказал Калпе. — Когда ты его колол, он тоже не совсем живой был.
— Зачем ты так, — сказал Пиапон, отводя брата в сторону. — Все знают, и он знает. Зачем обижаешь?
Вечером в Нярги отпраздновали возвращение охотников.
— Ты очень хорошо сделал, — говорил Пиапон Холгитону. — Вовремя лег, иначе нам нельзя было стрелять, ты мешал. А ты очень правильно сделал...
Холгитон улыбался, хотя оба они знали, что все произошло далеко не так. Когда с тигром было покончено, они разгребли предательскую валежину под снегом, о которую запнулся старик.
— Ты добил его, грех принял... — говорил Пиапон.
— Принял. Надо бы к дяде твоему съездить, что он скажет?
Пиапон понял, что Холгитон не очень надеется на молитвы и предлагает обратиться к великому шаману Богдане Давно не встречался Пиапон с ним. Летом Богдано приезжал поглядеть на невиданный заезок. Пиапона тогда не было в Болони, но он слышал, как был великий шаман поражен увиденным, говорят, что даже молился, просил духов помочь колхозникам, чтобы сваи не валились, чтобы стальные сети не рвались. Богдане добровольно исполнял обязанности всеобщего шамана, хотя колхозным шаманом не стал, потому что в районе не велели принимать его в колхоз, будь даже он трижды великим. Напротив, приказали бороться с ним. Но как Пиапон будет бороться с великим шаманом, да к тому же с родным дядей? Так идут годы, Пиапон молчит, великий шаман потихоньку шаманит...
— Что скажет? Покамлает, отведет грех — и все, — ответил Пиапон.
На следующий день охотники повезли мясо в Малмыж. Холгитон вез тигра. Вдруг охотничье его ухо уловило незнакомый звук, несшийся откуда-то издалека. Старик оглядел торосистый Амур, хотя понимал, что по такому льду не пройдет пароход или катер, оглядел голубое мартовское небо, отыскивая виденный однажды самолет. Страшный переполох вызвал этот самолет в Нярги в позапрошлое лето. Появился он внезапно над Нярги и стал делать круги, испугав до полусмерти старых людей. Попадали они на землю и стали молиться эндури, просить пощады. Они приняли самолет за страшную птицу Кори, которая, по преданиям, питается только лишь человечиной. Пиапон с несколькими молодыми охотниками бегали по стойбищу, кричали, что это не Кори, что это самолет, управляемый человеком. Да никто не поверил им. Когда улетел самолет, поднялись люди без кровинки в лице. Огляделись, одна древняя старуха не поднимается, умерла, бедная, от страха.
Холгитон вертел головой, отыскивая, откуда этот звук идет.
— Деда! Актобус нас догоняет! — закричал сидевший впереди внук. — Они целую зиму ездят, когда дорога хорошая.
— Что это такое?
— Ты что, не знаешь актобуса? У нас все мальчики и девочки знают. Смотри, вон догоняют. Даже два сразу.
Холгитон оглянулся: на них мчались какие-то домики на колесах, наполовину скрываясь в снежной пыли. Странные дома обгоняли последние упряжки так быстро, будто те стояли на месте. Не успел Холгитон набрать полные легкие воздуха, а они уже промчались мимо, обдав снегом и бензиновой гарью. В окошке промелькнуло чье-то лицо в меховой шапке.
— О-ее! Как летит! — восхищенно воскликнул Холгитон. — Как быстро летит!
Автомашины остановились впереди. Из каждой выпрыгнули по два человека.
— Тигра! И правда, тигра! — закричали они, подбегая к Холгитону. — Старик, ты сам его кокнул?
— Вместе с другими, — ответил Холгитон, отворачивая нос от водителей: слишком остро несло от них незнакомым запахом.
Подшучивая друг над другом, шоферы гладили мягкую шерсть зверя, рассматривали старые желтые его зубы и смеялись.
— Старик, в Малмыж везешь?
Подъехали остальные нарты, охотники сгрудились вокруг Холгитона.
— В Малмыж, государству сдавать будем.
— Редкий зверь. А давай мы его на машине подвезем, а? Пусть хоть мертвый прокатится. Да и ты садись к нам.
Холгитону очень хотелось прикатиться на этой незнакомой домовине, ощутить ее бешеную скорость, но он вовремя взял себя в руки.
— Его не может, шибко плохой запах, — сказал он.
— Так он и чует!..
— Не надо, ребята, — удержал шоферов Пиапон. — Пусть зверь на нарте едет. А старика можете подвезти.
— Чего одного старика, с тигрой надо. Давай с тигрой, а? Нам приятно его подвезти, никогда такого груза у нас не было. Давай, а?
Пиапон посовещался с Холгитоном, и старик, махнув рукой, согласился. Дюжие шоферы подхватили тигра за лапы и с трудом забросили в кузов машины. Холгитона с внуком усадили в переднюю машину. Машина заурчала, зафыркала громче и тронулась с места.
— Дед, поехали! — закричал внук.
— Вижу. О-ее, как быстро! Быстрее собак, быстрее лося! — Холгитон обернулся и сказал по-русски: — Шибко быстро летит. Ворона плохо летает.
— Ворону можно обогнать! — обрадовался шофер. За скалой показался Малмыж, расстояние — на одну трубку, если ехать на нартах. Холгитон достал кисет, начал набивать трубку, и когда разгорелась она, машина уже была в Малмыже. Восхищенный Холгитон не находил русских слов, чтобы выразить охватившее его волнение, и повторял:
— О-ее! О-ее!
Машина подъехала к конторе заготпункта. Холгитон нехотя вылез из кабины, обошел машину, пощупал шины. Внук вьюном вертелся у ног.
— Хорошо, быстро летает, как утка летает, — сказал старик.
— Дед, ты мальчикам скажи, что я на актобусе с тобой ехал. Ладно, дед? А то они не поверят.
Вышел из конторы Воротин.
— Тигра привезли на машине? — удивился он. — Холгитон, откуда у тебя автомобиль?
— Привезли, — улыбнулся старик. — Как ветер летел. Вон, смотри, собачьи упряжки только из-за скалы появляются, а я тут уже.
Малмыжане тут же стали сбегаться посмотреть на таежное чудо.
— Не трогать зверя! — закричал Воротин. — Голую кожу оставите мне. Чего смеетесь? Каждый погладит, у каждого на рукавицах по шерстке останется — вот вам и голый тигр.
Воротин шутил, малмыжане не подходили близко, стояли в стороне и разглядывали. Подъезжавшие охотники шумно здоровались с Воротиным, многие обнимались. Потом расспрашивали Холгитона, как он ехал на машине, что чувствовал.
— Ничего не чувствовал, ничего понять не успел, — отбивался старик. — Так быстро ехал, будто летел. Трубку успел только прикурить.
Пиапон тем временем разговаривал с Воротиным.
— Хорошо охотились, мяса много, государственный план выполнили. Только вот он много съел мяса. Куда его денешь?
— Шкуру снимем и отправим куда надо.
— Сам снимай, наши никто не притронутся.
— Знаю, сам сделаю. Шкура ценная. Давайте мясо, принимать начну.
Борис Павлович открыл склад, подкатил к дверям весы и стал взвешивать мясо. Охотники один за другим исчезали с тяжелой ношей в складском зеве. Пиапон наблюдал за ними, и ему казалось, что перед ним лежит огромный ненасытный сказочный зверь и без устали глотает и глотает лосьи и кабаньи туши одну за другой, одну за другой.
— Здорово, Пиапон! Чего задумался?
— Митропан! Здорово!
Друзья обнялись, похлопали друг друга по спине. Так они встречались всегда после долгой разлуки.
— Тигра убили?
— Убили. Всем колхозом.
— У тебя в колхозе народ дружный.
— А у тебя что, все не идут?
— Не идут. Кулачье! Раскулачивать их надо, гадов! Митрофан Колычев собрал в свой колхоз меньше половины малмыжан, другая часть не шла. У них были земля, скот, пастбища на островах — было все, что требовалось крестьянину. Что им делать в колхозе? Зачем отдавать в чужие руки родимых буренушек и резвых лошадушек? Сами прокормят, А в колхозе еще заставят рыбу ловить. Непривычны они, пусть кто любит это дело, тот и вступает в колхоз. Бьется Митрофан уже который год, да как поднимешь большое хозяйство, когда в колхозе чуть больше двадцати семей. А раскулаченные живут по-прежнему единоличниками и посмеиваются над колхозниками. Когда разгневанный Митрофан начинает на них нажимать, завышая свои права, они с жалобой в район — и Митрофану же потом достается на орешки.
— Тебе хорошо, народ послушный, — продолжал Митрофзн.
— Так тебе и послушный! Знал бы, сколько еще людей в стороне живут. Болонский заезок собрал людей, а то все еще жили по стойбишам.
— Этот болонский заезок зря городили, зря погубили рыбу. Всю зиму вывозят рыбу, а пойди посмотри, сколько рыбы еще на берегу. А на дне протоки сколько ее? Бог ты мой! — воскликнул Митрофан, переходя на русский. — Боже ты мой, сколько рыбы полегло. Вода испортилась, пить нельзя. Знаешь, на рыббазах не хватало соли, рыба протухла, теперь судить собираются заведующих базами. А кого судить за ту полегшую на дне рыбу? А?
— Разберутся. Ты скажи, как дома, все здоровы?
— Здоровы. Надежда прихворнула, да ничего, все прошло. Один я нездоров, душа болит. Из-за этого колхоза болит, из-за заезка. Это все наше, родное дело. Надо учиться хозяйствовать, а как? Мы с тобой ведь насчет грамотешки того, плохо, одним словом.
— Ты, Митропан, был всегда уверен, а теперь что с тобой?
— Был, когда вел только свое хозяйство да о себе одном думал. А теперь за все село думай да ругайск с этими гадами ползучими. Ну ладно, пойду, дело есть. Ты заходи попозже, я дома буду.
Борис Павлович, приняв мясо, перешел в свою контору. Здесь помощник его придирчиво разглядывая шкурки, спорил с охотниками при оценке, щелкал на счетах. Охотники не очень и спорили, помощник Воротина большей частью был прав, потому что некоторые беличьи шкурки так были изрешечены дробью, хоть сито делай из них.
— Что будешь брать? — спросил Борис Павлович бригадира Калпе.
— Ничего не надо, деньги давай, — ответил Калпе.
— Зря я открыл у вас магазин, работы мне не стало.
— Ты переходи к нам, что тебе тут делать?
— Тут пуп интегралсоюза, сюда доставляют мясо и пушнину, а отсюда куда следует.
— Магазин ты зря открыл, — сказал Холгитон. — Теперь женщины в доме главными людьми стали.
— Почему главными?
— Потому что деньги у них, вот почему. Не станешь же сам ходить каждый раз в магазин, вот они и пользуются этим, забирают все деньги. Нравится им там, в магазине, стоять, обо всем переговорят...
— Женский клуб, выходит! — рассмеялся Воротин.
— Смешно тебе. Когда мы сдавали пушнину и тут же получали крупу, муку и материи, мы были хозяевами. А теперь магазин под боком, там все за деньги жены покупают и посматривают на нас сверху. Тебе смешно! Своим магазином ты им власть большую дал, а нам это не смешно.
Воротин хохотал безудержно, смеялись и охотники.
— Хорошо, Холгитон, закроем магазин.
— Нет, Бориса, не надо, привыкли уже, — смеялся в ответ Холгитон. — Пусть верховодят маленько женщины. Нам ведь тоже есть выгода, часть денег-то у нас, а водка рядом, не надо к тебе так далеко ездить.
Смеялись все. Один приказчик, не понимавший по-нанайски, молчал и сосредоточенно подбивал на счетах итоги.
— Мясо еще в тайге есть, — сказал Калпе, когда наконец примолкли уставшие от смеха охотники. — Завтра поедем за ним. За пушнину и за это мясо возьмем деньгами.
— Обожди, не спеши, — остановил брата Пиапон и обратился к Воротину: — Весной уток, гусей будешь принимать?
— Буду, обязательно буду.
— Заключим тогда договор. Дробь, порох сейчас отпускай на всю бригаду. Может, ружья хорошие где прячешь?
— Пиапон, неужели ты железо нюхом чуешь?
— Чую, когда надо. Продай ружья, зачем прячешь?
— Давай, Бориса, ружья, — поддержали своего председателя охотники.
— Я вам продам несколько ружей, остальные оставлю озерским, они не получали...
— Им не надо ружья, они палками бьют уток и гусей, — закричал кто-то.
— Не уговаривайте. Летом получу еще, тогда продам.
Пиапон не стал уговаривать, знал, Воротин не такой человек. Охотники накупили припасов, попрощались с тигром и выехали домой продолжать праздник возвращения из тайги. Большинство охотников, не сговариваясь, направили упряжки к деревянному дому в середине Нярги. Это был магазин интегралсоюза, который Воротин назвал женским клубом. Но на дверях магазина висел замок.
— Время еще дневное, почему закрыт? — возмутились охотники.
Кто-то тут же сходил к заведующему. Пришел высокий русский и объяснил, что ему не велено открывать магазин. Кто не велел? Председатель сельсовета.
— Ах, этот паршивец Хорхой! Отлупить его!
Тут появился сам Хорхой и закричал:
— Водку не получите! Сначала все идите в школу!
— Зачем в школу? Учиться, что ли?
— Там увидите! Всем в школу, потом магазин откроем.
Обещание Хорхоя подействовало, не стали его охотники лупить, разошлись по домам. Там быстро разобрали упряжки и ринулись в школу. Тянуло их туда любопытство да желание поскорее покончить с неведомыми делами и попасть в магазин, где уж можно будет отвести душу, как кому пожелается. К удивлению охотников, в школу пропускали только тех, кто возвратился из тайги. Дети, женщины и несколько мужчин стояли за дверями, заглядывали в окна. Знакомое всем помещение было перегорожено белым материалом, за которым слышались шепот и смешки.
— Собрание не собрание, что такое — не пойму, — ворчал Холгитон.
Пиапон тоже не знал, что на этог раз собирается выкинуть Лена Дяксул. Кроме нее, пока в Нярги никто ничего нового не выдумывал. «Она верховодит женщинами, комсомольцами, сельсоветом, она что-то выдумала». Пиапон еще не встречался с ней после возвращения из тайги. При желании он мог бы еще утром поговорить с ней, но было как-то неловко признаваться, что, будучи в тайге, не притронулся к карандашам и бумаге, не прочитал книжку, которую она велела прочитать. Лена хорошая девушка, прямо молодец, научила его грамоте. Теперь он читает, правда медленно, и так же медленно пишет, но без ошибки пишет свое имя.
Из-за белого занавеса бочком вылезла Лена, оглядела охотников, улыбнулась.
— С возвращением вас! С выполнением плана... Занавес взметнулся, как подол халата у игривой девчонки, и дети, гоноши, девушки, стоявшие за ней, хором пропели:
— Поздравляем! По-здра-вля-ем!
— Ты смотри, чего придумали, а! — воскликнул на всю школу Холгитон. — Ишь, чего придумали!
Лена взмахнула тоненькой рукой, и хор запел: пели о красавице тайге, об Амуре широком. Завороженные песней, охотники делали вид, что не замечают стоящих за детьми девушек.
— Хорошо! Очень хорошо спели! — сказал Холгитон.
Дети расступились, и вперед вышла замужняя дочь Холгитона Мима. Старик от удивления потерял дар речи, он глотнул воздух широко открытым ртом, пытаясь что-то сказать. Мима запела песню ягодниц, которую никогда никто не слышал раньше.
— Грех! Перестань петь! — наконец вырвалось у Холгитона. — Я согрешил в тайге, хватит этого! Перестань петь, грех большой, забыла, что ли! Где муж? Что он смотрит? Перестань, говорю!
Мима пела, нарочно закинув голову, чтобы не видеть отца и других строгих охотников, чтобы легче было пропускать мимо ушей их брань. Она долго отказывалась петь, потому что нанайкам не разрешалось петь, по старым обычаям они могли изливать душу только над покойниками. Уговорила ее все же Лена, пообещала защитить. Пела Мима звонким голосом, и хор подпевал ей с таким весельем, что примолкли охотники, поддержавшие было Холгитона.
— Хани-на рани-на! Хани-на рани-на! — неслось с импровизированной сцены.
Голос Холгитона звучал уже без угрозы, он скорее уговаривал дочь:
— Перестань, слышишь, перестань петь, грех...
— Сам перестань кричать! — прикрикнул кто-то сзади. — Слушать мешаешь!
Пиапон тихонько подтолкнул в бок старика, мол, не раздражай других, не мешай слушать. Песня замолкла, и Мима бегом укрылась за спины юношей. Вперед вышла Лена.
— Мы знаем, что делаем, — спокойно проговорила она. — Знали, что вы будете протестовать, знали, что нарушаем древний обычай. Но теперь, когда рушатся один за другим обычаи, мы решили нарушить еще один, который запрещает женщинам петь. Скажу честно, мы немного побаивались вас и тебя, отец Ншю. Мы ведь не знали, отец Нипо, что ты тоже нарушил самый главный закон тайги — убил тигра.
Лена кивнула головой, и занавес закрылся. Охотники молчали. Молчал и Холгитон. Что он мог возразить учительнице? Ничего. В таком случае единственный выход — молчание.
Первый концерт для охотников продолжался недолго. Юноши фехтовали на палках, боролись два мальчика, и хотя финал борьбы был заранее известен, охотники смеялись от души. Потом мальчишки делали пирамиды, и не известно, до какой высоты поднялась бы пирамида из их упругих тел, если б не потолок.
Расходились охотники, восхищенные увиденным. На улице вспомнили про обещание Хорхоя и побрели в магазин. Магазин был открыт, и женщин не было. Охотники встали в очередь. Это была, пожалуй, единственная очередь с начала открытия магазина, когда стояли одни мужчины. Поэтому в очереди не шумели, не галдели, даже переговаривались вполголоса. Зашумели охотники дома, за праздничными столами. Попраздновав два дня, они вновь ушли в тайгу за мясом. А Пиапон, проводив их, поехал в Малмыж к Борису Воротину заключать договор на весеннюю дичь.
Заведующий малмыжским интегралсоюзом находился на складе и торговал мясом. Пиапон не поверил своим глазам. Мясо, которое охотники сдали государству, Воротин продавал малмыжцам. Что это такое? Почему Воротин продает им мясо?
Пиапон поднялся в склад, окинул взглядом кучу мясных туш — убавилось мясо, немного, но убавилось.
— Почему ты продаешь мясо? — спросил Пиапон.
— Что прикажешь делать? — улыбнулся Борис Павлович, не догадываясь, какие мысли скребут сердце Пиапона.
— Какое ты имеешь право продавать это мясо?
— Такое же право, как ты сдавать это мясо мне.
Борис Павлович все еще ничего не понимал.
— Не тебе я сдаю! Я государству сдаю!
Борис Павлович внимательно взглянул на Пиапона, на его рассерженное лицо, примирительно сказал:
— Да, ты сдаешь государству.
— Почему тогда государству мясо не передаешь?
— А куда? Где это государство?
— Почем я знаю куда. Ты должен знать...
Пиапон задумался. И правда, где это государство? Все говорят: государство, государство, план государственный. А где оно, это государство? Никогда Пиапон не задумывался раньше над этим, он на слово верил тем, кто повторял бесконечно это слово, это их дело знать, что такое государство.
— Ты сам знаешь, чего меня спрашиваешь?
Стоявшие в очереди женщины молча прислушивались к переговорам, улавливали только знакомые русские слова, но суть спора до них не доходила.
— Государство — это ты, я, эти женщины, их мужья...
— Какое они государство, когда в колхоз не идут!
— Есть еще много людей, которые не колхозники, но работают на наше государство. У тебя в Нярги учительница, завмаг не колхозники. В городах рабочие...
— Ты не заговаривай зубы, ты объясни, почему государственное мясо самовольно продаешь?
— Не самовольно. Я государственный человек и продаю государственное мясо людям, которые составляют государство.
Не мог Воротин по-другому объяснить Пиапону, что такое государство. Если начнет он говорить о политической власти, то новые незнакомые понятия и совсем запутают Пиапона.
— Чего повторяешь, государство, государство... Объясняй толком, — попросил Пиапон.
— Государство — это ты, я, они. Это запомни.
— Я, ты, они... Смешно! Я государство?
— Да.
— А что, если я мясо тогда обратно заберу?
— Бери.
— И заберу.
— Плати деньги и забирай.
— Деньги платить за свое мясо?
— Это уже не твое, тебе за него государство деньги выплатило...
Все перепуталось в голове Пиапона, он махнул рукой и вышел на улицу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Как ни уговаривали Пота с Идари Нину Косякову остаться в Джуене еще на год, она сумела убедить их, что ей еще необходимо поработать с амурскими и горинскими нанайцами. Осенью она переехала в Болонь, поработала там зиму, а летом перебралась в Нижние Халбы.
Идари, оставшись без опытной наставницы, кое-как вела хозяйство детских яслей. Женщины нехотя помогали ей.
— Ты наша, ты не будешь нас судить, — говорили они, — чего нам тебя слушаться. А новое — хлопотное дело.
Идари понимала их: много забот ложится на женские плечи, все хозяйство на них. После побега Токто Пота нес обязанности председателя сельсовета и председателя колхоза и лишь в середине зимы избавился от первой должности. Он помогал жене, старался держать женщин в послушании, потому что от них многое зависело в установлении новой, «культурной жизни», как говорила Нина Косякова.
— Колхоз — это повышение жизненного уровня, понимаете? — растолковывала она. — Это значит, больше будете денег зарабатывать. Но, независимо от денег, не получится у вас новой жизни, пока не научитесь культурно жить. Женщины должны прежде всего избавиться от грязи. Откуда у вас глазные болезни? От дыма. Откуда столько всяких болячек у детей и взрослых? От грязи. Откуда легочные болезни? Заражаетесь. Через трубки, через немытую посуду. Я вас учила, как вы должны следить за чистотой в доме...
Идари посещала землянки неряшливых женщин, стыдила их, ругала. Разговаривала она с их мужьями, но те отмахивались от нее. Тогда за дело принимался Пота.
— Хорошо, что твоя жена такая понимающая, — огрызались некоторые мужья. — А что сделаешь с моей? Побьешь, так ты судить будешь, штрафовать начнешь, а это убыток. Что сделаешь? Сам разговаривай с ней.
И Пота разговаривал с неряхами, стращал всякими карами, но ничего не мог добиться. Что-то надо было предпринять такое, чтобы люди расшевелились, как тогда, когда приехала Нина Косякова. Слышал Пота, что она после года работы в Нижних Халбах переехала в отдаленное таежное село Кондон. Он ездил в Вознесенское, советовался с секретарем райкома, с председателем райисполкома, те обещали помочь и тут же жаловались на обширность района, на нехватку кадров. В амурских стойбищах организовывались медицинские пункты, открывались школы, магазины, а в Джуене ничего этого еще не было.
— Зачем вы разделились на два колхоза? Маленькое стойбище, а вы разделились, — говорили районные начальники. — Объединить надо колхоз, всех озерских собрать в Джуене, тогда и школа, и магазин, и медпункт будут.
Где Поте думать было об объединении, когда его колхозники стали разбегаться. Трудное время переживали Пота с Идари, когда пришло письмо от Богдана с фотокарточкой. Долго разглядывали они сына, которого не видели уже столько лет. Изменился, конечно, сын, дело не к молодости идет, а к старости. А вот Гэнгиэ расцвела, помолодела, стала еще красивее.
— Поженились, наверно, — предположил Пота.
— В письме не говорят ничего, — возразила Идари. — Она ведь бесплодная.
— Да, если поженятся, не жди внуков.
— Почему он не приезжает хотя бы погостить? Другие приезжают, а он нет.
— Тебе же говорили, он книгу пишет.
Идари разглядывала знакомое и в то же время отдаленное временем лицо сына, а на душе ни радости, ни осуждения. «Книги пишет. Каким надо грамотным быть, чтобы самому писать книги. Большой человек. Матерью-то хоть назовет, когда вернется?»
— Кем он теперь стал? — задумчиво проговорила она, ни к кому не обращаясь.
— Кто его знает. Вернется, скажет.
Все джуенцы побывали у Поты, все держали в руках фотокарточку.
— Вот почему Гэнгиэ сбежала...
— Как она одета... Халаты, наверно, и не носит.
— Не может этого быть, лучше нанайского халата нет одежды...
На следующий день в Хурэчэне тоже говорили о Гэнгиэ, о Богдане и необычной бумаге, на которой, как живое, остается человеческое изображение. Из озерских нанайцев, пожалуй, один лишь Токто видел такое изображение.
— Гэнгиэ с Богданом рядом, — передавали ему вернувшиеся из Джуена охотники. — Поженились они.
Токто не хотел ссориться с названым братом из-за Гэнгиэ, хватит того, что его эта светловолосая заставила покинуть Джуен и поругаться с Потой. Хватит. Если женился Богдан на Гэнгиэ, пусть живут. Хорошо и то, что она не досталась чужому. А Богдана он никогда не считал чужим, относился всегда как к сыну, потому что он родился в тот миг, когда перестало биться сердце его дочурки.
— Хватит вам талдычить! — прикрикнул Токто. — Какое ваше дело, поженились они или нет? Если сошлись, пусть живут...
Эти слова дошли до Поты с Идари и прозвучали как приглашение к примирению. Но помирились они только в год заезка, так назвали охотники 1932 год.
В январе тридцать второго года районное начальство вместе с интегралсоюзом объявили о строительстве заезка в Болони.
— Загородим нанайское море! Штанами будем вычерпывать рыбу! Покажем нашу колхозную силу!
В строительстве заезка участвовали все колхозы от Сакачи-Аляна до Нижних Халб. Были заготовлены сваи в тайге и вывезены на берег. Весной в Болони собрались рыбаки со всего Амура. Это был невиданный доселе праздник! Никогда еще не собиралось столько нанайцев в одном месте, даже на самом большом касане. Весь берег у стойбища, острова были усеяны белыми берестяными хомаранами. Прибыли обещанные два катера, понтон с «бабой», баржа со стальными сетями. Закипела работа. Да такая веселая, дружная работа, что даже те, которые отказывались вступать в колхоз, приезжали поглядеть на сооружение заезка. Многие, охваченные всеобщим азартом, приступали к работе, и их, с согласия рыбаков, тут же принимали в колхоз.
Пота с джуенцами расположился на каменистом берегу, рядом с хомаранами няргинцев. Приехал со своими охотниками и Токто. Прежде чем раскинуть свой хомаран, он зашел к Поте, молча обнял его, Идари и сказал:
— Забудем, что было, плохо тогда получилось.
— Зря ты тогда так, — вздохнул Пота, — зря.
— Озлобила меня эта светловолосая.
— Она права была.
— Мне дела нет до нее. Покажи бумагу, где Богдан с Гэнгиэ.
Фотокарточки у Поты не было с собой, и он предложил подняться к отцу Гэнгиэ, Лэтэ Самару. Токто тут же помирился с Лэтэ, долго рассматривал фотокарточку н сказал:
— Пусть. Богдана я люблю как сына.
— Вот мы вместе опять, — сказал Пота. — Вместе живем, вместе работаем. Один колхоз вроде.
— Верно, весь Амур будто в один колхоз объединили.
— Может, мы объединимся?
— Хитрый какой! Поймал на слове.
— Пойми ты, если мы объединимся, все соберемся в Джуене, тогда откроют школу, доктора дадут, магазин будет.
— Почему в Джуене? Почему не на Харпи?
— Далеко от Амура, да и места там низкие, затопляемые.
— А в Хурэчэне?
— Хурэчэн остров, а жить нам не год, не два. Деревья вырубим, тогда за дровами в тайгу станешь ездить?
Токто долго думал и вдруг предложил:
— Давай так, если ты перетянешь людей, то в Джуене будем одним селом жить, а если я, то в Хурэчэне.
— Серьезное дело решаем, а ты...
На протоке кипела работа. С утра до поздней ночи над водой неслось: «Раз, два, взяли! Еще, взяли! Еще раз!..» Вслед за выкриками грохотала железная «баба», забивая сваи в илистое дно. Два маломощных катера кое-как тащили нагруженные камнями неводники. Много камня требовалось для заезка.
Однажды к Поте заглянул Калпе. Идари, как всегда, радушно встретила брата, хотя теперь жили рядом, в нескольких шагах.
— Это почему от тебя пахнет катером? — спросила она.
— Ездил на нем в Малмыж к пароходу, думал, встречу сына. Писал, обещался приехать.
Кирка учился во Владивостоке в медицинском техникуме.
— Все приезжают на лето, только наш Богдан не едет.
В другой раз Калпе явился в измызганной соляркой и маслом одежде.
— На катере работаю, учусь машиной управлять, — заявил он и показал в доказательство масляные пятна на одежде. Лицо его выражало восторг, он походил на мальчишку-охотника, впервые свалившего крупного зверя и извозившегося от радости в его крови.
— Мне говорили, кто на катере работает, меньше рыбаков денег получает, — сказал Пота.
— Что мне деньги! Мне мотор надо научиться понимать, я об этом столько лет мечтаю. Давным-давно, еще когда с отцом искали тебя, тогда еще думал о машинах. О пароходе думал. Потом ездил в Хабаровск на пароходе, от машины глаз не отводил. Всю жизнь мечтал, а ты говоришь, деньги. Мне мотор, машины нужны!
С каким, удовольствием произносил Калпе слова: мотор, машина, катер. Он их просто смаковал!
К середине лета поперек протоки встала шеренга свай. Колхозники глядели и удивлялись: неужели это сделано их руками? Год назад они, пожалуй, и одну сваю всем колхозом не смогли бы забить. К спуску стальных сетей прибыла водолазная команда. Впервые увидели рыбаки водолазов, ощупывали медные шлемы, поднимали и прикидывали, сколько весит «обутка» водолаза с толстой свинцовой подошвой, спорили, сколько пуль и дроби можно было бы изготовить из водолазного снаряжения. Когда водолаз впервые полез в воду, на берегу собралась толпа. Нашлось столько охотников помогать, что отбоя от них не было. Пота и Калпе все же попали на лодку водолазов.
— Если не крутить помпу? — спрашивал Калпе у бригадира.
— Задохнется водолаз, — отвечал тот охотно.
— Если груз свинцовый не надеть?
— Вверх тормашками всплывет. Ногами кверху...
— Научиться можно на водолаза?
— А чего же? Можно.
— Меня возьмешь?
— Возьму, мужик ты ладный, хотя и в годах.
Так Калпе перешел с катера в водолазную бригаду.
— Он, как мальчишка, не работает, играет, — говорили про него рыбаки. — Кирка его куда серьезнее, лекарственные травы собирает, нанайское лекарство русским хочет привезти. Он молодец, добьется своего, будет нашим доктором. А отец — мальчишка!
Пота не осуждал своего друга юности. Зачем? Если бы с него кто снял заботы, он и сам пошел бы в водолазы. А забот у Поты много. В секрете от всех он в Джуене строил две землянки и при каждой встрече с Воротиным уговаривал его открыть в Джуене магазин. Борис Павлович отказывался, у него не было грамотных продавцов.
— Стыдно тебе, Борис, — сказал однажды Пота. — В Болони ты открыл магазин, в Нярги открыл, а у нас не хочешь. Колхоз называется «Интегральный охотник», а ты...
— И верно, — засмеялся Борис Павлович. — Интегралсоюз не помогает «Интегральному охотнику». Ладно, подумаем. Ты заканчивай землянки.
К концу лета Воротин подыскал продавца и стал перебрасывать в Джуен груз для магазина.
В это время на заезке творилось что-то невообразимое: к стальным сетям подходили максуны и начинали прыгать так, что вся протока закипала. Вся она в пене, в брызгах, а над пеной будто висят серебряные максуны. Такого никто еще не видел! Радовались в первые дни рыбаки, когда маленькими неводами за притонение вытаскивали десятки, сотни центнеров рыбы. А рыба все подходила и подходила, днем и ночью шумела и гремела протока — глаз не сомкнешь. И тут стало известно колхозникам, что Болонский и Малмыжский рыбозаводы и интегралсоюз не могут справиться с добытой рыбой, хранилища забиты, соли недостает. Растерялись рыбаки и обработчики: что делать, куда девать рыбу?
— Выпустить надо, — советовали старики, — погибнет рыба. Грех губить столько рыбы.
Районное начальство не разрешило открыть заезок, приказало удерживать рыбу до глубокой осени, а когда начнутся заморозки — выловить и заморозить. Заезок не открыли, и рыба продолжала биться у железной сетки.
— Под заезок ямы роют, — сообщил однажды Калпе; ему уже доверяли спускаться под воду. — Погибает рыба, надо выпустить часть.
Но приказ есть приказ, не открыли заезок. Как-то утром сторож нашел две распоротые сетяные полосы, рыба рекой выливалась через проемы. В другой раз в других местах нашли проемы, кто-то ночью проделывал эти проходы рыбам.
— Вредители! Враги советской власти. Шаманское охвостье...
В Болонь приехали милиционеры, следователи. Был среди них и Дубский. Начались допросы. Подозревали тех, кто шаманил и был близок к шаманам. Кто же мог вредить, кроме них, они выступали против колхозов, вот и не хотят, чтобы люди показали колхозную силу, единство.
В начале сентября озерские нанайцы выехали на кетовую путину, а когда возвращались домой, Пота всех удивил, заявив, что охотникам незачем покупать продовольствие и товары на зиму в Малмыже или в Болони, они все могут приобрести в Джуене.
— Ты чего обманываешь людей? — усмехнулся Токто. — Или уже заманивать их начал?
— Зачем заманивать? Если хотят, пусть едут. Магазин у нас открыли.
Не поверил Токто названому брату, поехал в Джуен. В новой землянке над дверью такая же вывеска, как в магазинах Болони и Малмыжа. Зашел Токто в землянку — все верно, магазин как магазин, на одних полках всякие материи, на других — съедобное. Были даже большие и желтые круги мыла, Воротин их называет сыром и говорит, что готовят их из молока. Как-то он при охотниках вырезал кусок и съел. Потом дал попробовать охотникам. Токто попробовал и выплюнул вслед за другими. Рядом с огромным желтым куском сыра стояли банки с невиданными ягодами. Токто пробовал их, ничего, понравились. Русские называют их помидорами.
За прилавком стоял невысокого роста русский.
— Что будете покупать? — спросил он.
— По-нанайски не разговариваешь? — в свою очередь спросил Токто. — Как же собираешься работать?
В дверь ввалились харпинские охотники с женами.
— Смотрите, такой же магазин, как в Болони!
— Вот так Пота! Видели? Открыл какой магазин.
— У нас когда откроют? Токто, ты должен знать...
Токто этого не знал, упрашивал он Воротина открыть в Хурэчэне магазин, да получил отказ. Подошла Кэкэчэ и прошептала на ухо:
— Внукам хочу купить на штанишки да сладости еще.
— Покупай.
— А как покупают?
— Подойди, скажи, что надо, и деньги подай.
— Одна я не смогу, ничего не понимаю. Подойди ты.
Но Токто не хотелось слушать упреки от своих колхозников, он подсунул жене деньги и вышел. Кэкэчэ растерянно мяла в руке деньги, она никогда ничего не покупала.
— Дай мне вон ту материю, внукам хочу штанишки сшить, — сказала она, указав пальцем на штуку сукна.
Продавец понял, положил сукно на прилавок, взял метр, показал Кэкэчэ, сколько будет метр сукна, спросил, сколько ей требуется. Кэкэчэ показала три пальца. Продавец отмерил три метра. Потом он взвесил конфеты.
— Смотрите, мать Гиды всю жизнь будто в магазинах что-то покупала, все понимает, — смеялись женщины.
— Ничего не понимаю, он сам догадывается, что мне надо, — смущенно отвечала Кэкэчэ. Она подала деньги и пошла к выходу.
— Обожди, может, у тебя не хватает, он подсчитает сейчас, — остановили ее охотники.
К удивлению Кэкэчэ, продавец вместо одной бумажки вернул ей целых пять и несколько монет.
— Что так? Почему? — спросила Кэкэчэ охотников.
Но охотники, хотя всегда имели дело с продавцами, сами мало что понимали в денежном обращении.
А тем временем Токто встретился в Потой.
— Видел, брат, твой магазин, — сказал он. — Хороший магазин, понравился охотникам. У меня в Хурэчэне тоже будет магазин.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Государство. Что же это такое — государство? Пиапона теперь постоянно преследовало это слово. Он сердцем своим понял советскую власть, эта власть стала на место царской, она народная власть. Если была царская власть, то, выходит, существовало и царское государство. Но что такое — это государство? «Государство, — сказал Воротин, — это мы». Тогда так, советская власть — это небо, а мы все под небом — государство?
Как ни рассуждал Пиапон, но ясного ответа не находил. Мыслями своими он делился с близкими людьми, приятелями.
— Сдалось тебе это государство! — отмахивались те. — Что у тебя дел мало, что ты голову ломаешь?!
Дел было невпроворот. Пиапон добросовестно выполнял обязанности председателя колхоза, но мысли о государстве все же не отступали. Таков был Пиапон, ничего не мог он оставить недоделанным, нерешенным. Обратился он к самому грамотному человеку в Нярги — Лене Дяксул.
— Отец Миры, тебе надо сперва крепко знать букварь, научиться быстро читать, потом можно разъяснять, что такое государство, — отрезала Лена. — Это сложный вопрос, чтобы понять, надо знать, что такое политика, экономика...
Вновь непонятные слова — политика, экономика. Пиапон видел их, как ступеньки; одна ступенька — политика, другая — экономика, а там наверху — государство.
Пиапон не обиделся на Лену, нельзя было на нее обижаться, бедная девушка с утра до вечера занималась то с детьми, то с их родителями в ликбезе, а вечером с комсомольцами в кружке художественной самодеятельности.
«Может, на самом деле мне рано знать это, — думал Пиапон. — Когда глазами видишь, руками щупаешь, — все можно понять, всему выучиться. Калпе ведь научился управлять машинами, водолазом стал. А государство не прощупаешь, это только головой, мыслями можно понять. Такое дело».
Пиапон поднялся из-за стола, поразмял затекшую поясницу, посмотрел на бухгалтера и подумал не без гордости: «Когда-нибудь разберусь, разобрался же в бухгалтерских дебетах, кредитах, всяких фондах неделимых, экономиях и прибылях. Разберусь, дайте только время».
Колхоз Пиапона крепко стоял на ногах, в этом была заслуга и русского бухгалтера, приехавшего на работу в Нярги. В добротном рубленом доме в одной половине размещалась контора правления колхоза, в другой — сельский Совет. Молодой председатель сельсовета Хорхой, хотя имел хорошего толкового секретаря Шатохина, часто стучал в стенку — это означало: «Дядя Пиапон, погибаю!»
Бросив свои дела, Пиапон шел к нему, потому что чувствовал всегда свою ответственность за председателя сельсовета. Ему говорили: хватит с тебя колхозных дел, зачем ты суешься в сельсоветские, школьные, комсомольские дела? Но Пиапон не мог мимо пройти, если видел неполадки, он обязан помочь молодым, он за все в ответе перед советской властью. Однажды ему надоела беготня из одной конторы в другую, он взял да прорубил дверь в стене. Теперь Хорхою не надо стучать, он появляется с озабоченным или с растерянным, смотря по обстоятельствам, видом в дверях и просит Пиапона о помощи. У Хорхоя теперь тоже дел по горло, все на его шее: школа, магазин, ликбез, да к тому же он еще и секретарь комсомольской ячейки. Это только в Нярги, да на его сельсоветском участке еще три поселка: рыббаза, Корейский мыс и Шарго.
— Время обеда, наверно, — сказал Пиапон. — Есть захотелось.
Бухгалтер вытащил карманные часы, взглянул на них и ответил:
— Да, время, Пиапон Баосавич, — усмехнулся и добавил: — Можно настенные часы купить, деньги нашлись бы. Приятно слушать, как они тикают. К тому же намек колхозникам, в конторе люди работают по часам, всем надо привыкать к ним.
Пиапон вспомнил бесконечные разговоры о часах, о работе по их показанию и усмехнулся.
— Ладно, купить так купить. Пусть люди привыкают.
— Привыкнут, это дело времени. Вот о чем я хочу поговорить, Пиапон Баосзвич. Наше сельское хозяйство приносит нам ежегодно убытки...
«Будет приносить, — подумал Пиапон. — Зачем заставляют огороды сажать? Овес лошадям нужен, его можно сеять. Чумиза людям нужна, огурцы едят, но зачем столько картошки, капусты, когда люди еще не привыкли к ним? А сколько труда требуют они?»
— Каждый год мы покупаем семенной картофель, овес, чумизу — все покупаем, — продолжал бухгалтер, — сохранить на семена не можем, негде хранить. Убыток? Убыток. Овощи садим на островах, там их затопляет. Убыток... Пока мы не станем продавать сельскохозяйственные продукты, будет убыток.
— Кому продавать? — усмехнулся Пиапон. — Малмыжским или корейцам?
— Тут не до смеха, Пиапон Баосавич. Я сам пока не знаю, что делать. Надо, чтобы интегралсоюз принимал овощи у нас, другого выхода нет.
— Воротину тоже негде хранить их.
— Что тогда делать? Нынче тоже дали план. Теперь еще есть указание: тайгу корчевать, поля расширять.
— Не будем тайгу корчевать. Так и скажем. Зачем убыток?
— Потребуют.
— Пусть требуют, прибыли нет — корчевать не будем. Сказали, колхоз сам хозяин, гак чего заставляют нас заниматься невыгодным делом. Колхоз наш называется «Рыбак-охотник». Это понятно им? Только под овес, чумизу можно расширить поле. Так я думаю.
Пиапон вышел из-за стола, считая разговор оконченным. Бухгалтер нахлобучил старую кепчонку. В это время вошел Полокто.
— Обожди, не уходи, — сказал он брату. — Ждал, чтобы без других поговорить.
— Сколько лет нам не о чем было говорить, — устало проговорил Пиапон.
— Сейчас есть, — Полокто сел на табурет.
— Ты все живешь по-старому, имеешь трех жен, в доме у тебя законы большого дома, в колхоз не вступаешь и других не пускаешь, сыновей не пускаешь.
— Что со мной сделает твоя советская власть? Насильно в колхоз возьмет? Жен отберет?
— Придет время, заставит уважать свои законы.
— Угрожаешь?
— Нет, предупреждаю.
Пиапону всегда было трудно разговаривать со старшим братом, а когда он стал исполнять обязанности председателя сельсовета, а теперь колхоза, — стало еще труднее. Мелочность Полокто всегда претила Пиапону, а его стремление обогатиться, стремление возвыситься над сородичами вызывали негодование.
— Считай, что у меня две жены, одна на днях уходит к родителям. — Полокто выждал и добавил: — Чего не спрашиваешь, которая?
— Меня не интересуют твои семейные дела, мы с тобой теперь связаны только по-родственному.
— Этого мало?
— Мне мало.
— Да, тебе, конечно, ты дянгиан. Ты большие деньги получаешь, партизанский паек получаешь.
Зависть собакой грызла Полокто, он давно приглядывается к брату, давно завидует ему и как лучшему охотнику и как признанному вожаку односельчан. Он завидовал его уму и даже его сердечности, но следовать за ним не пытался. Он понимал, что брат его представляет совесть сородичей, понимал, что ничего ему он не может противопоставить, и потому искал свой путь. Если Пиапон — совесть сородичей, то он должен олицетворять богатство односельчан, богатство выше ума и благородства, думал он своей худосочной головой. Но и разбогатеть он не сумел. Тогда взял третью жену — как-никак хоть этим он будет отличаться от других сородичей. Няргинцы вступали в колхоз, он отказался. Смотрите, люди, Полокто совсем другой человек, у него свое в голове. Колхозники шли в тайгу охотиться. Полокто шел на заработки в леспромхоз...
— Мне надо пойти поесть, — сказал Пиапон. — Я на работе нахожусь. Ты не колхозник, какие у нас дела? Твои нападки слушать не хочу. Ты хотя и не подчиняешься советским законам, но живешь на нашей земле и обращайся к председателю сельсовета.
— К этому сопляку идти по житейским делам?
— Он председатель, народ ему доверил. Пиапон поднялся.
— Обожди, отец Миры, — каким-то сдавленным голосом сказал Полокто. — Тяжело мне.
— Когда тяжело, тогда идешь ко мне, тогда советуешься? Сейчас жена уходит — ты ко мне. Чем я тебе помогу? Если уходит к родителям, пусть уходит, меньше тебя будут ругать.
— Что ты говоришь, брат? Зачем так? Майда умирает.
И вдруг Полокто всхлипнул, мелко затряслись его плечи. Пиапона словно кто-то ударил по голове; оглушенный и ошеломленный, он медленно сел на место. «Как же так? Как это так? Какой я злой... Его призываю, а сам... Сам-то лучше ли...» Пиапон несколько лет не заходил к старшему брату, не знал о его домашних делах. Слышал он, что Майда больна, но не интересовался ее состоянием. Когда Полокто сказал об уходе одной из жен, он подумал о самой младшей. Не вспомнил о Майде, не вспомнил, что ни у Майды, ни у Гэйе давно уже нет родителей, и если скажут про них, что уходят к родителям, надо понимать, что они покидают солнечный мир и уходят в потусторонний, где и встретятся с родителями...
— Умирает... отмучилась... жила бы еще, может быть, если б не я.
«Жила бы? — Пиапон все не мог опомниться, к нему медленно доходил смысл слов Полокто. — Майда жила бы еще, если б Полокто не отбивал ей легкие...»
— Жила бы, — повторил Пиапон, взглянув на брата злыми глазами. Растерянности как не бывало, была только ненависть к этому лицемеру.
— Сам ее убил, чего плакать, — сказал он жестко, — думаешь, пожалею? Скоро и Гэйе за ней уйдет, ей еще больше достается. Не человек ты, братом стыдно назвать тебя.
— Ругай, мне легче слушать твою ругань... Боль и злость утешают. — Полокто рукавом вытер глаза, встал. — Пойдем, она тебя зовет.
— Зачем? — удивился Пиапон.
Он за всю жизнь с Майдой перебросился, может быть, десятком слов, и вдруг это приглашение.
— Попрощаться хочет.
Майда лежала на отдельных нарах возле дверей. Она исхудала, на лице кости да желтая кожа. Пиапон сел возле нее на табурет.
— Здравствуй, мать Ойты, — сказал он тихо.
— Здравствуй, отец Миры, — ответила Майда и зашлась в кашле. Откашлявшись, она долго приходила в себя, тощая грудь ходила ходуном, прозрачные длинные пальцы теребили халат.
— Ты не ругай его больше, — тихо проговорила Майда, успокоившись. — Такой уж он, теперь не изменишь. Встретимся там, и там будет такой. Что сделаешь... Не сердись на него... Позвала... хочу передать тебе последние слова твоей матери. Никогда никому не говорила... Про себя держала. Когда он бил меня, думала... вот из-за этого все...
Майда замолчала. Она набиралась сил.
— Она умерла во время грома... Вы искали Поту и Идари, убить собирались... Она сказала, чтобы вы пощадили Идари, сказала, там проклянет вас, если убьете... Потом сказала... ошиблись они, не так поженили вас, тебя и отца Ойты... надо было по-другому, наоборот. Понимаешь? Ты должен был на мне жениться...
«Тогда Дярикта теперь умирала бы», — подумал Пиапон.
— Это хотела передать тебе... Не могла я унести с собой последние слова твоей матери, должна была передать... да и мне легче стало...
— Спасибо, мать Ойты.
— Любима я была твоей матерью.,. Тебя она любила... Кто знает, как жили бы, если б не ошиблись... теперь что... Ты не ругай его... он очень несчастный человек. Несчастный он, будет еще несчастнее... так она сказала. Без любви на земле не живут... он никого не любил, его никто не любит... несчастный.
Майда умерла на следующий день, в последний мартовский день. Стояла редкая тихая погода, она была такая, может быть, оттого, что хотела проводить светлого, солнечно ласкового и тихого человека. Во всяком случае, такого мнения придерживались все старики Нярги.
В большом и людном доме стало еще многолюднее, приехали братья Майды из Джоанко, родственники из соседних стойбищ — все хотели попрощаться с умершей. Женщины сидели рядом с покойницей на нарах, вышивали последнюю ее обнову, в которой она отправится в дальнюю дорогу, откуда никто никогда не возвращается. Тут же сидела и плакала Гэйе.
— Теперь вся его злость на меня одну падет, — говорила она между причитаниями. — Раньше хоть поровну делили, теперь одна я.
Молодая жена Полокто с женами Ойты и Гары хлопотали по хозяйству. Когда молодая соперница принесла суп в старой миске и поставила в изголовье покойницы, Гэйе сказала:
— Сказала я тебе, ставь ее любимую тарелку. Ту, самую красивую, единственную.
— Он не разрешает, он ведь тоже любит эту тарелку.
Женщины переглянулись — надо же так, пожалел тарелку! Какая бы она ни была красивая, разве не стоит она Майды? Пусть тарелку возьмет с собой Майда, если она любила.
— Принеси тарелку, — сказали женщины.
Младшая жена отнесла миску с супом обратно, но тут же вернулась.
— Не дает. Он там, возле посуды.
Женщины знали, что им делать. Если жадный Полокто не отдает покойнице-жене любимую ее тарелку, остается один-единственный выход — разбить тарелку: покойникам в потустороннем мире не достаются целые вещи, им нужны разбитые в мирской жизни вещи.
— Пусть при покойнице побьет, — сказала Гэйе и сползла с нар.
Она пошла за перегородку, подошла к шкафчику с посудой. Тут сидел за столом Полокто с братьями Майды.
— Чего тебе? — спросил он, глядя на Гэйе недобрыми, пьяными глазами. — За тарелкой, что ли?
— Да, за ней. Эта тарелка ее. Она любила ее.
— Потому мне останется.
— Нет, не останется, она будет ее.
Братья Майды не могли разобраться, о чем идет разговор, старший взял Полокто за руку, притянул к себе.
— Обожди, чего ты горячишься, — заговорил он. — Сейчас зачем горячиться? Умерла она, тихая была, надо потому тихо. Слушай, повернись сюда.
Стоило Полокто повернуться, как Гэйе открыла шкафчик и схватила заветную тарелку. Полокто перехватил ее за руку, и в этот момент Гэйе с силой швырнула тарелку на пол.
— Сука! Ты всегда наперекор мне!
Полокто ткнул кулаком в бок Гэйе, и она мешком свалилась в угол.
— Полокто! Аоси! Затем ты так? — закричали братья Майды, все еще не разобравшись, в чем дело.
— Сдохнешь от жадности. Подохнешь, — прошептала Гэйе. — Он нашей сестре пожалел положить ее любимую тарелку. Мелочник! Живи один, оставайся тут один. Похороним мы ее и все уйдем от тебя. Ты даже не знаешь, почему этот дом стоит. Он стоит, потому что она держала его, подпирала плечами. Теперь она ушла, и дом твой разрушится...
Гэйе тяжело поднялась, подолом халата вытерла лицо. Братья Майды примолкли, опустили головы.
— Все мы уйдем из этого дома, сыновья твои уйдут, внуки с ними уйдут. Ты за всю жизнь никому ничего хорошего не сделал.
Полокто молчал, он сел за стол и опустил голову; слова Гэйе больно били по сердцу, они были справедливы, и это больше всего испугало его. В последние годы, особенно после его третьей женитьбы, дети перестали с ним разговаривать. Жили они в одном доме, со стороны семья выглядела спаянной, дружной, работящей, но никакой дружбы не было в большом доме Полокто. Дом держался на доброте и ласковости Майды, она заставляла мириться сыновей и внуков с гневным Полокто. Гэйе, ползая по полу, подбирала самые крохотные осколки тарелки, потом подмела пол, просеяла мусор, нашла самые маленькие кусочки фарфора. И раньше чем Гэйе подобрала последний осколочек тарелки, о скандале в доме покойницы узнало все стойбище.
— Скупердяй! Росомаха!
— Жаднюга! Чего он скопил дома?
— Раньше другое дело, разбогатеть многие мечтали, теперь богатых, наоборот, ненавидят. Как думает он жить?
— После этого я к нему в дом не зайду!
На другой день пришедшие на похороны няргинцы стояли на улице, ожидая выноса гроба, они не хотели заходить в дом, где не уважают покойника. Пиапон выносил тело Майды, третьим забивал гвоздь на крышке гроба. Он с гадливостью смотрел на плачущего брата, не сказал ему ни слова утешения. Возвращаясь после похорон, зашел в дом брата только потому, что этого требовал обычай. Выпив чашечку водки, он посидел рядом с Холгитоном, который тоже ради покойницы зашел в этот дом, и ушел в контору, хотя было уже поздно.
«Ошиблись родители, — думал он, шагая в контору. — Вся наша жизнь в ошибках, навряд ли кто прожил, не ошибавшись. А надо жизнь строить так, чтобы меньше было ошибок. Как бы я прожил с Майдой, если б родители нас поженили? Тут они тоже ошиблись, я любил совсем другую, которой тоже уже нет в живых».
Пиапон подошел к конторе и увидел в окно бухгалтера с кем-то посторонним. Это оказался знакомый ему инструктор райисполкома. Они поздоровались.
— Я передал наш разговор о посевной площади, — сказал бухгалтер.
— Корчевать тайгу придется, — заметил инструктор.
— Не будем! — отрезал Пиапон.
— Надо. Ты не горячись, выслушай. Пришло постановление крайисполкома привлечь нанайские колхозы к новым отраслям хозяйства. Ты сам знаешь, одной рыбной ловлей и охотой не проживешь.
— Наш колхоз называется «Рыбак-охотник».
— Знаю, что скажешь дальше, но тебе надо добиваться, чтобы колхоз больше приносил доходов, чтобы люди стали больше зарабатывать. Надо людей приучать к культуре, к новому хозяйствованию. С этой целью крайисполком предлагает выращивать и содержать свиней и крупный рогатый скот. Денег нет на приобретение? Крайисполком дает ссуду на льготных условиях. Все предусмотрено. Нынче весной надо приобретать скот. А чем коров, свиней будешь зимой кормить? Картошка потребуется, свекла. Вот почему надо посевные площади расширять. Корчевать придется тайгу. Поучитесь у русских, у корейцев.
— Коровы на мясо пойдут?
— Зачем на мясо? Прежде всего от них молоко требуется.
— Куда девать это молоко?
— Своим колхозникам продавать по дешевой цене...
— Нанай не пьют молока.
— Научатся, дай срок. Молоко будешь сдавать в интегралсоюз.
— С народом надо поговорить.
— Давай завтра и поговорим. Собери народ с утра.
Утром няргинцы собрались возле конторы. Инструктор райисполкома разглядывал колхозников, одним улыбался, другим кивал головой, он здесь бывал не раз и знаком был со многими, Ему отвечали дружеской улыбкой. Он выждал момент, когда все стихли, и громко выкрикнул:
— Товарищи туземцы! Наша партия и правительство...
Дальше он не мог продолжать и долго не мог понять, в чем дело.
— Чего обзываешься! Зачем обзываешь!
— Мы не туземцы! Мы нанай, советские люди!.. Только тогда дошел до инструктора смысл выкриков, которыми его остановили. Он обернулся к Пиапону.
— Туземец — это плохое слово, — сказал Пиапон, — нас оно оскорбляет. Ты грамотный человек, сам должен знать. Люди не хотят, чтобы ты их обзывал.
— Как обзывал? Так в официальных бумагах пишется...
Инструктор обвел колхозников взглядом, никто больше не улыбался ему.
— Друзья, извините меня, — громко, чтобы услышали все, сказал инструктор. — Я не хотел оскорбить вас. Вы меня давно знаете...
— Знаем, ты хороший человек, только больше не обзывай.
— Не буду, друзья, и другим передам, чтобы больше не употребляли этого слова...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Болонь — по-нанайски самое глубокое место. Единственная протока соединяет озеро Болонь с Амуром, она так глубока, что до дна не достанешь никаким шестом. К весне на берегу протоки осталось много невывезенной рыбы, хотя всю зиму вывозили ее и машинами и санями. От знаменитого заезка остались только свайные пеньки. А как гордились совсем недавно болонцы этим грандиозным, по тем временам, сооружением! Для них сплошным праздником обернулось строительство заезка. Подумать только, весь нанайский люд собрался в Болони! Праздник прошел, наступило похмелье. Сидели болонцы на берегу, отворачивали носы от ветерка, несшего отовсюду гнилостный запах.
— За Нэргулом озеро совсем обмелело, не проедешь.
— А рыба все же заходит в озеро.
— Куда денется? На нерест, на жировку поднимается.
— А зачем столько надо было погубить рыбы? Кто виноват?
— Надеялись все поймать, все вывезти.
— Охо-хо! Если так будет, на Амуре не станет рыбы...
Погибло рыбы — пропасть, и кто-то должен был нести за это ответственность. Первыми понесли наказание засольщики рыбозаводов, у которых попортилась засоленная рыба, потом директора, не сумевшие подготовиться к большой рыбе; даже соли не завезли, сколько требуется.
Приехал в Болонь Казимир Дубский. Ездил он как ученый-этнограф, собирал материалы для будущих научных трудов, но в кармане, вместе с паспортом, носил удостоверение сотрудника НКВД, и на боку у него красовалась кобура пистолета. Этнограф довольно прилично говорил по-нанайски, расспрашивал о старых обычаях, законах, интересовался и рождением и похоронами, записывал родословную болонцев, присутствовал на камланиях шаманов, на утренних молениях солнцу. Интересовался он всем, и повсюду совал свой нос, хотя сам понимал, что этим смущает людей.
— Не обращайте, не обращайте на меня внимания, — просил он мягко охотников, бивших поклоны солнцу.
— Смелее, смелей давай! — подбадривал он оробевших шаманов.
— Не стесняйся, это для науки, — говорил он беременной женщине, расспрашивая о таких подробностях, которые она даже от мужа скрывала.
Казимир Владимирович был ласков со всеми, добр, но настороженность у охотников не проходила.
— Простые люди не носят такое оружие, — резонно говорили они. — Зачем ученому оружие? В старое время разве мало было ученых? Они без оружия ходили...
Как бы между этими этнографическими делами Казимир Владимирович интересовался и заезком, ответы болонцев записывал в отдельную тетрадку. Почему-то его особенно при этом привлекала личность Бориса Воротина.
— Бориса хороший человек, — отвечали охотники. — Честный человек, это самое главное. Сердце его большое.
— И у здорового дерева червинки водятся, — замечал походя Дубский. — Червинки точат дерево. Вы сами лучше меня это знаете. Ну, вспомните еще что-нибудь о Воротине? С кем он больше бывал. С директорами рыбозаводов бывал?
— Как не бывать? Вместе работают.
— Разговоры он какие вел, не помните?
— Разве запомнишь...
Из Болони Дубский поехал в Хулусэн. Стойбище потеряло прежнюю славу, хотя священный жбан сохранялся у Яоды, сына Турулэна, и в силе был шаман Богдане Из Хулусэна разъехались больше половины жителей. Получилось это так. Хулусэн в свое время прикрепили к няргинскому Совету, а когда началась коллективизация, желающие вошли в няргинский колхоз «Рыбак-охотник». Потом в няргинскую школу-интернат забрали учиться ребятишек, и родители вслед за ними переехали кто в Нярги, кто в Болонь. Теперь в стойбище проживало около десяти семей.
Казимир Владимирович знаком был с великим шаманом Богдано, и встретились они теперь как приятели.
— Обещал приехать к тебе, вот и приехал, — сказал Дубский.
— Будь гостем, всегда я рад гостю.
У Богдано умерла жена, и теперь в доме хозяйничали две пожилые женщины. Они поспешно стали готовить еду и вскоре поставили перед гостем и шаманом низкий столик.
— Как живу, сам видишь. Всю жизнь прожил для людей, — жаловался Богдано. — Своего что имею? Фанзу только. Жена умерла. Детей нет. Один остался. Хорошо, люди не забывают, все еще приглашают.,.
— Ты позволь мне тебя звать ама — прими меня сыном, — неожиданно для себя выпалил Казимир Владимирович и подумал: «Так будет лучше».
— Как же я могу тебя сыном назвать?
— Приемным сыном можно?
— Приемным? Приемным почему нельзя. Можно.
Дубский знал все обычаи, знал, как растрогать старого человека, будь он даже великим шаманом. Он встал на нарах на колени и трижды коснулся лбом холодной циновки.
— Зачем так, сын? Зачем? — засуетился Богдано, он обнял приемного сына за шею, поцеловал в щеки. — Женщины, водку подайте! — повелел он.
Все произошло так быстро и неожиданно, что даже Казимир Владимирович не мог поверить в происшедшее. Он, Казимир Дубский, будущее светило этнографической, антропологической и археологической науки, приемный сын великого нанайского шамана! Да разве думал он об этом вчера или сегодня утром. Все получилось экспромтом, здорово получилось. Теперь Казимир Дубский обогатит этнографию по части шаманизма! Только надо действовать точно, не спеша, дабы не отпугнуть старика.
— Выпьем, ама, чтобы ты прожил еще столько же лет, — проникновенно сказал Казимир Владимирович.
— Выпьем, сын, хотя я знаю, столько не проживу.
Ама — отец (нанайск.).
Богдано проследил, как Дубский опрокинул в рот крошечную чашечку, и медленно, маленькими глотками выпил свою водку. «Знаю я, зачем лезешь в сыновья, — подумал он. — Еще при той встрече я ожидал этого. Ладно, будем играть в прятки. Ты хитер, я тоже немало жил на земле. Посмотрим, что выйдет».
— Ама, мне ничего не надо от тебя, я буду к тебе изредка заезжать, когда время будет. За свои шаманские секреты не бойся...
— Какие у меня секреты, сын? Нет от тебя никаких секретов. Мне скоро уходить надо, зачем мне все с собой брать?
— Как хочешь, ама, это твое дгло. Скажи, почему мало теперь приезжают молиться священному жбану?
— Некогда людям, в колхозах всякие работы придумывают.
— Что тогда, колхозы — это плохо?
— Почему плохо? Люди раньше жили все вместе, родами жили, вместе ловили рыбу, охотились. Потом начали они расходиться по другим стойбищам, роды стали распадаться. Люди не так дружны, как прежде. А теперь колхозы их собрали, не по родам, а все же собрали вместе. Чего плохого? Пусть только дружно живут.
— О заезке что думаешь, ама?
— Заезок — это плохо. Нельзя обманно ловить рыбу в воде, зверей в тайге. Грех это. Так я думал. Потом я увидел, как люди работали там, дружно работали, радостно. Когда людям радостно, грех против них идти. Я помолился за их успех. Да зря помолился. Их обманули, этих людей. Заставили их погубить рыбу.
— Кто заставил?
— Ты сам знаешь кто, зачем спрашиваешь?
— Что ты думаешь? Советская власть виновата?
— И власть советская виновата.
— Кто еще?
— Дянгианы виноваты.
— Воротин тоже виноват?
— Кто это? Тот, что в Малмыже пушнину принимает? Он ведь главный там, он тоже виноват.
— Хорошо. Ты говоришь, колхоз хорошее дело...
— Хорошее. Только плохо, что они тайгу вырубают. Тайга их кормила, а они вырубают. Где звери будут жить? Заезки строят, рыбу губят. Зачем так делают? Зачем людей заставляют делать то, чего они не хотят? Кому коровы нужны? Нынче их заставят коров покупать, так мне няргинские рассказывали. Людей нельзя заставлять все время трудиться, они износятся быстро. Молиться даже некогда.
— Значит, все же колхоз не совсем хорошо?
— Да, не совсем хорошо.
— Ама, в Мылках русские начали город строить. Что ты об этом думаешь?
— В Мылках? Город строят? Нельзя по всему Амуру города строить, тайгу всю уничтожать! Где нанай зверя будут добывать? Где станут рыбу ловить?
Старого Богдано ошеломило это известие. Никогда не думал он, что русские на Амуре станут еще строить города, хватит того, что построили Хабаровск, большие села раскинулись по Амуру. Зачем еще город. Богдано бывал в Хабаровске, все ему там не понравилось, все было отвратительно. А тут еще один город, причем там, где живут большинство нанай.
— Я шаманить буду! Болезни напущу!
— Ты тогда пойдешь против власти, ама, — мягко остановил разошедшегося старика Казимир Владимирович. — Нельзя так делать. Я должен тебе сообщить, что шаманам нынче и навсегда запрещается шаманить. Будут отбирать и уничтожать все бубны, янгпаны, сэвэнов. Начинается борьба с шаманами.
— Кто же тогда людям помогать будет?
— Доктора лечить будут.
— Ха! Доктора! Они внутренние болезни не умеют лечить, знаю я. Рассказывали мне, как трубкой выслушивают. Если живот болит, что услышишь? Как живот бурчит?
Казимиру Владимировичу не хотелось пока лишаться старика, а если он будет так резко выступать против советской власти, горячие головы могут быстро его приструнить. Сначала надо разузнать все секреты старика, вытянуть их и сделать достоянием этнографической науки.
— Ама, не горячись. Я тебя нашел, я не хочу потерять, поверь мне. Не говори так резко при посторонних, мало ли что могут они подумать.
«Верно говорит, совсем ум потерял, — подумал старик. — Неужели он и вправду сыном моим хочет стать? Нет, глаза его нечестные, хитрости, злости в них много».
— Ладно, сын, не буду, — сказал Богдано. — Выпьем давай. Чтобы ты познал всю нанайскую мудрость, шаманскую тоже, я тебе все расскажу. Я знаю законы тайги и рек, дома и амбара — все знаю. Сказки знаю, легенды помню. Выпьем, сын.
Дубский выпил, закусил вареной утятиной.
— Где ты нанайский язык выучил? — спросил Богдано.
— Ездил по Амуру, жил среди ваших, вот и выучил.
— Умный ты. Не каждый это может...
Казимир Владимирович не стал больше пить, сослался на работу. От Богдано пошел он к Яоде Заксору, содержателю священного жбана. Яода недоверчиво, с подозрением разглядывал его, а заметив пистолет, совсем перепугался.
— Сколько людей нынче молиться приезжало? — спросил Дубский.
— Не помню, разве упомнишь, — забормотал Яода.
— Я не спешу, вспоминай.
— Раньше много приезжало, нынче меньше десяти было.
Дубский закурил папиросу, предложил Яоде.
— Ладно, я все знаю. Люди тебе платят деньги за то, что молятся жбану. Мало ты заработал. На что живешь?
— Рыбу ловлю, охотой занимаюсь.
— В колхоз не вступаешь?
— Мы здесь, а колхоз там.
Дубский не стал больше расспрашивать трусливого Яоду, записал легенду о появлении жбана, родословную хозяина дома. Потом обошел все соседние фанзы, сделал кое-какие записи и вернулся к Богдано. Шаман и на самом деле рассказал ему много любопытного, едва хватило двух тетрадок, чтоб записать.
— Ама, говорят, ты целый день мог сидеть за столом и не выходил из дома по малой нужде. Когда тебе хотелось, ты подсаживал на колени ребятишек, и они за тебя бегали. Верно это?
— В молодые годы кое-что умел.
— Ама, это так интересно! Если бы мне удалось как-нибудь понять и написать об этом, это было бы, как говорят русские, громом среди ясного дня. А еще рассказывают, ты на рыбалку ездил на соломенных собаках.
— Ездил. Кто же это видел? Я думал, никто не видит.
— Видели, рассказывают. Ты из травы вязал собачек, запрягал их и выезжал. Быстро, говорят, ездил.
— По молодости увлекался.
— Ама, ты должен мне кое-что показать. Ты вспомни, как это делал, позже покажешь. Ладно?
— Если удастся вспомнить, — ответил Богдано, а сам подумал: «Этого ты не увидишь, молодой еще, чтобы меня обхитрить».
«Ну вот, капканы, силки расставлены! Будет богатая добыча! — ликовал Казимир Владимирович. — Узнать бы механику этих уловок, написал бы такую статью! Фурор! Надо только закрепить свои позиции. Что бы такое сделать?»
Утром Казимир Владимирович уезжал.
— Ама, береги себя, я скоро вернусь, — сказал он на прощание. — Береги. Когда сюда приедут молодые люди отбирать бубен, ты скажи им, что я, твой сын, не велел. Иначе головой будут отвечать. Так и скажи.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Раньше, увлеченный учебой, стремлением познать как можно больше, Богдан редко обращал внимание на ленинградскую погоду; заниматься ему приходилсь в аудиториях, в библиотеках, в музеях. Если днем небо заволакивали тучи и в залах библиотеки наступали сумерки, студенты просто включали свет. Редко Богдан грелся на солнце, это случалось только летом, когда северяне выезжали за город на летние каникулы. Но после пасмурной зимы ранней весной он все же вспоминал о солнце. С приездом Гэнгиэ все изменилось в жизни Богдана. Железный распорядок дня, недели был разрушен и уже никогда не восстанавливался. Каждый вечер теперь Богдан прогуливался с Гэнгиэ и стал ощущать, как угнетающе действуют пасмурная погода, дожди и сырость. Но чаще он чувствовал это не сам, а как бы через Гэнгиэ.
— Сколько дней нет солнца, ты считал? — спрашивала Гэнгиэ.
Богдан пытался вспомнить, когда он в последний раз видел дневное светило, и не мог.
— Как надоели дожди...
После занятий Богдан обычно находил Гэнгиэ в комнате отдыха, где она проводила время с новой подругой ульчанкой Полей. Беседа их могла продолжаться час-другой, и Богдан не мог понять, о чем только они могут говорить столько времени, если не о книгах, о науках, о любви. Богдан искоса поглядывал на Полю, считая ее виновницей такого бездельного времяпрепровождения. Столько надо Гэнгиэ выучить, чтобы догнать однокурсников, а они говорят о вышивках, о приготовлении впрок ягод и черт знает еще о какой ерунде.
— Гэнгиэ, ты совсем мало думаешь об учебе, — говорил Богдан, когда они оставались наедине. — Сколько времени у тебя уходит зря. Понимаешь?
— А ты понимаешь, что мы женщины? — обворожительно улыбалась в ответ Гэнгиэ, чуть прищуривая свои косульи красивые глаза; зубы ее сахарные так белели, что Богдану всегда хотелось зажмурить глаза. Он не находил ответа и говорил:
— Болтай, мне-то что? Тебе будет стыдно, если отстанешь. Учти, среди нанай никогда не было отстающих.
— Вот хорошо-то, что сказал. Я одна среди нанай буду отстающая.
— Перестань, Гэнгиэ, зачем так...
Богдан не мог с ней спорить, и это Гэнгиэ поняла с первых дней и использовала как могла. Это было чисто женское кокетство. Гэнгиэ была прилежная курсантка, за полгода она одолела букварь, на втором семестре уже читала довольно прилично, считала без ошибок. Ее преподаватель Саша, или, как теперь его звали, Александр Валентинович Севзвездин, был доволен и часто хвалил ее, ставил в пример. Учиться Гэнгиэ было тяжело, потому что она несла двойную нагрузку. Богдан взялся учить ее русскому языку, и кроме курсовых заданий она выполняла задания Богдана. Обучалась она сразу по двум алфавитам: утвержденный и выпущенный нанайский букварь был латинизирован, а русский язык она изучала по русским буквам.
— Будешь грамотная, а русского языка не будешь знать, какой позор, — твердил Богдан. — Ты должна хорошо знать русский язык. На этом языке написаны тысячи книг, и ты их должна прочитать. На этом языке разговаривал Ленин, написал свои труды. Ты должна познакомиться с ними. А самое главное, русский язык — это язык дружбы, спаянности. Ты понимаешь, что я говорю? Язык этот сближает народы, укрепляет их дружбу. С тобой вместе приехал парень-нивх. Он умеет говорить по-русски и сразу же подружился со многими. А с кем он стал бы дружить, если не знает языка самоедов, вогулов, тунгусов и не говорил бы по-русски? Мне жалко вон того парня-саами, он не говорит по-русски, и его никто не понимает, кроме преподавателя. Он, бедный, ходит среди нас глухим и немым...
Заниматься Богдан с Гэнгиэ уходили в пустые аудитории, чтобы им никто не мешал. Богдан стоял у доски и объяснял значение слов, решал задачи. У доски он чувствовал себя учителем, но стоило ему подойти к Гэнгиэ, сесть рядом, как его охватывала робость, он начинал волноваться и путаться. Гэнгиэ тоже охватывало беспокойство. Говорили они мало, больше сидели молча. О чем говорить, зачем говорить, когда все сказали их сердца? Они любили друг друга, давно любили, встретились теперь, объяснились, но сблизиться так и не могли... Это было странно, это было невыносимо трудно — любить и мучиться! К их сближению было столько преград!..
Уткнувшись в грудь Богдана, плакала Гэнгиэ, а он гладил ее мягкие волосы, накручивал на пальцы и думал, думал до головной боли. «Свободна ли Гэнгиэ? Могут ли они любить друг друга? Не могут: Гида — друг, названый брат, Гэнгиэ — его жена». Думал Богдан и видел перед собой скорбное лицо Токто, доброе, морщинистое — Кэкэчэ. «Что ты делаешь, сын, как тебе не стыдно?» — будто слышал он голос матери. «Грязная эта любовь!» — резал отец.
Богдан гладил волосы любимой и думал.
— Мы никогда не сможем быть вместе, — сказала как-то Гэнгиэ. — Здесь можем, а там нет.
— Да, не сможем. Мы ведь встретимся там с ними...
Богдан любил Гэнгиэ, это видели все его друзья. Они узнали и о ее прошлом, они сочувствовали, но сами не знали, как поступить. Даже Михаил перестал подтрунивать над Богданом и не упоминал о споре с Яковом.
— Перестань, Богдан, мучиться, — сказал он однажды с каким-то ожесточением. — Смотреть противно. Женись — и все! Будь что будет, потом разберемся.
— Тебе хорошо, тебе не смотреть потом в глаза матери и отца...
— Она же сбежала от него, сама сбежала, и не к тебе, а учиться приехала сюда. Вы случайно встретились...
— Ничего себе случайно, она все время знала, что я в Ленинграде.
— Да наплевать на все! Любишь — женись.
Незаметно подошло лето. Студенты стали разъезжаться по своим краям. На Амур уезжал Михаил.
— К моему приезду чтобы поженились, — сказал он на прощание. — А я узнаю, как ваши там поживают.
Студенты-северяне на лето выезжали в Петергоф, где дирекция института арендовала для них школу. Богдан бывал несколько раз в этом изумительном царстве фонтанов. Когда он в первый раз привел Гэнгиэ и показал ей Большой каскад, она ахнула и спросила:
— Эти изображения все из чистого золота? А откуда берут столько воды? Кто это все сделал?
Гэнгиэ зимой довольно часто посещала музеи, была не раз в театре имени Пушкина, в Мариинке смотрела оперу и балет. В музеях ее смущали обнаженные фигуры, в балете не нравилось, что люди танцевали полуголые и делали слишком уж рискованные прыжки. Но вскоре она немного обвыкла, примирилась с музейными и театральными условностями. Теперь ее уже не смущали обнаженные скульптуры петергофских фонтанов, ее изумила вода, бьющая из всех щелей, кувшинов, разинутых ртов жаб и животных. Поразил ее могучий Самсон, раздирающий пасть льва, и мощный высокий фонтан, вокруг которого в небе распылялась вода и радуга опоясывала это водяное дерево.
— Красиво! И это видели только цари да богатые? Такое только для них одних?
Богдан усмехнулся:
— Ты теперь политически подкованная, тебя такой сам Ленинград делает. А в Джуене ты думала о бедных и богатых?
— Думала о торговцах.
— Но торговцы не имели таких дворцов, не имели фонтанов, не ели из золотых тарелок. Были цари, которые для России много сделали. Слышала про Петра Первого? Краем уха? Я же тебе показывал в Летнем саду домик Петра Первого. Забыла? Ну и короткая память у тебя, как заячий хвост.
— Я букварь запомнила, читать, писать, считать училась, и незачем мне всякое о царях знать. Бедных мучили, а сами в золоте купались. Буду еще я их запоминать!
— Будешь, Гэнгиэ, потому что для того, чтобы хорошо понять настоящее, надо знать прошлое. Пока ты не видела дворцов и всяких украшений царей, ты не ругала их. А теперь — совсем другое дело...
Они отошли от Большого каскада и тихо побрели по аллее. Богдан не раз бывал в Петергофе и знал все фонтаны. Он повел Гэнгиэ к «Грибку».
— Это фонтаны-шутихи, — объяснил Богдан. Он забрался под «Грибок», сел на скамейку.
— Это, наверно, царя... — Гэнгиэ хотела еще что-то сказать, но в это время с краев «Грибка» забили тугие струи, похожие на стеклянные палочки.
— Ой, хорошо! Здесь-то не замочит! — кричала Гэнгиэ.
— А как выйдешь? Замочит ведь, — засмеялся Богдан.
— Что, до вечера будет идти этот дождь?
— И до вечера, и всю ночь, сколько ты будешь тут сидеть.
Богдан сквозь струи воды смотрел на уткнувшегося в газету человека и мысленно уговаривал его прекратить шутку, потому что ему не хотелось попасть под струи воды. Будто услышав его мольбу, человек с газетой правой ногой подтянул к себе рычаг, и стеклянные палочки, как по чьему-то мановению, исчезли. Богдан выпрыгнул из-под «Грибка», а Гэнгиэ удивленно рассматривала дырочки, откуда только что били струи. Несколько стеклянных палочек ткнулось ей в лицо.
— Фу! Фу! Какой хитрый грибок! — хохотала Гэнгиэ, отряхиваясь от воды. — Вот вернемся домой, будем рассказывать, и никто не поверит.
— Почему не поверят? Мы фотокарточки покажем, с собой возьмем.
И тут впервые Богдан вспомнил, что он не посылал фотокарточки ни родителям, ни деду Пиапону. Какой позор! Это называется, он вспоминает их, любит! Надо немедленно сфотографироваться и отправить домой. Он подхватил Гэнгиэ под руку, и они зашагали к фотографу. Тот был на месте.
— Нам, чтобы был виден Самсон и Большой дворец, — попросил Богдан.
— Будет сделано, молодые люди, — ответил фотограф.
После фотографирования Гэнгиэ указала пальцем на карточки в рамках и спросила:
— Мы с тобой так же получимся? Вдвоем?
Через несколько дней они получили фотокарточки и с письмом выслали в Нярги, Болонь, Джуен.
— Как ты думаешь, обрадуются? — спросила Гэнгиэ.
— Не знаю.
— А я знаю, они решат, что мы поженились.
Богдан удивленно уставился на Гэнгиэ: он не подумал об этом раньше. «А, пусть, — махнул он рукой. — Подумают так подумают! Что теперь поделаешь?» И вдруг ему пришло в голову, что, может быть, эти фотокарточки сами решат за них вопрос, который они не могут решить с Гэнгиэ. Но хорошо ли живому человеку, с горячей молодой кровью, перекладывать дело, касающееся его жизни, на какие-то безжизненные фотокарточки? Это ли не безнравственно? Это ли не стыдно? Доколе же он, Богдан, будет трусить, бояться того, как взглянут на него родители и Токто с Гидой и что скажут они при встрече? Чего ждать?
— Гэнгиэ, пусть они там что хотят думают, — сказал Богдан. — Я люблю тебя, слышишь! Пусть что хотят говорят!
Он обнял Гэнгиэ, прижал к себе.
— Пусть, все равно, — прошептала она. — Я приехала к тебе, ты должен был догадаться. Может, я тебе не люба?
— Любимая! Я тебя каждую ночь вижу, обнимаю...
...Вернулись они поздно, встретила их у дверей Полина, хотела что-то сказать, но, заметив возбужденное лицо подруги, горящие огнем глаза, повела Гэнгиэ в класс, где разместились девушки. Подруги торопливо разделись, юркнули под холодные одеяла.
— Поля, я тебе что-то скажу, — прошептала Гэнгиэ.
— Знаю, что скажешь, — ответила Полина. — Ты выходишь замуж.
— Ты шаманка?
— По лицу твоему видно.
— О, Поля, как я счастлива! Я влюбилась в него на Амуре, потеряла и разыскала на краю света. Он тоже ждал меня... У нас сердца на расстоянии разговаривали.
— Радуюсь я, Гэнгиэ, счастливая ты.
— А ты такая красивая, чего молодых не подпускаешь к себе?
— Я долго ждала, не дождалась. Мне сказали, что он погиб в крепости Чныррах, а я все ждала. Он партизаном был.
По просьбе Гэнгиэ Полина рассказала о своей короткой любви к храброму командиру партизан Кирбе. Влюбились они при первой же встрече, когда Кирба пришел в село Богородское и сформировал там партизанский отряд. Каждый вечер, пока отряд стоял в селе, встречались они, встречались тайком, чтобы не знали болтливые соседи. Расставались тяжело, Кирба обещал возвратиться к ней, как только партизаны освободят Николаевск-на-Амуре. Город освободили, наступила весна, а Кирбы все не было. Потом она услышала, что он погиб при взятии крепости Чныррах, но не поверила этому и продолжала ждать. Десятый год она ждет.
Утром за завтраком Гэнгиэ спросила Богдана:
— Когда ты партизанил, в Богородске был? Кирбу знал?
— Да. Он был моим другом.
— Твоим другом? — переспросила сидевшая за одним с ними столом Полина. — Почему я тебя не видела?
— Не знаю почему. Я был в отряде, в Богородске принимал желающих в отряд.
— Он погиб, правда это?
— Да. Он погиб при взятии крепости Чныррах. Ты была знакома с ним? — Богдан взглянул на женщину, и его словно молнией ударило. Полина! Ее звали Полина! Да, он говорил — Поля, самое красивое имя! Богдан прикрыл глаза, потер лоб.
— Вспомнил, Полина, — сказал он, — вспомнил. Перед боем мы проговорили всю ночь, он говорил о тебе, так говорил, что мне не пересказать. Голос был у него такой. Когда он упал, я поднял его и понес к доктору Храпаю, думал, доктор всемогущ, сумеет оживить. Так был уверен... Я даже помню его могилу, если даже все дома разрушат в Чныррахе, я все же разыщу его могилу...
— Ну вот, Гэнгиэ, я тоже встретилась с ним на краю земли, — сказала Полина, поднялась из-за стола и вышла из столовой.
— Вот где я ее встретил, — проговорил Богдан, глядя ей вслед. — Пароход, на котором я возвращался из Николаевска домой, не зашел в Богородское, и потому я не мог ей передать о гибели Кирбы. К тому же я не знал ее, никогда не видел, знал только, что зовут ее Полиной. Теперь я буду писать.
— Что писать?
— Воспоминания буду писать. Как партизанил.
В институте студенты выпускали журнал «Тайга и тундра», где печатали первые художественные произве—дения своих товарищей, статьи о кооперации, изменении форм хозяйства на Севере. Богдана не раз упрашивали написать воспоминания о партизанских боях, но он работал над созданием грамматики нанайского языка и не мог выполнить заказа редколлегии.
— Теперь буду писать, — повторил он.
Лето прошло удивительно скоро. Влюбленные Богдан с Гэнгиэ не заметили, как подошла пора занятий в институте. Возвратился Михаил с ворохом новостей, и первый вопрос, который он задал Богдану:
— Побрить мне голову? Отдать Яше рубашку?
— Пока ничего не известно, — засмеялся в ответ счастливый Богдан.
— Да? Человеком будь, Богдан. Ради товарища ты можешь жениться? Как я покажусь Людмиле Константиновне с бритой головой?
Но Михаил недолго смешил земляков, перешел вскоре к серьезному разговору.
— Нам надо быстрее выучиться, ребята, — сказал он. — Трудно приходится там, на Амуре. Колхозы еще слабые, председатели неграмотные, хозяйствуют кое-как. А теперь еще им надо заниматься земледелием, коров, лошадей выращивать. Я проехал по стойбищам, посмотрел, как люди живут. Лучше, даже хорошо живут. С прошлым даже сравнивать не хочу. Хорошо живут, но хотят жить еще лучше. С охотой принимаются за новое хозяйство, овес сеют, картошку садят. Ничего, скоро научатся овощи есть, молоко пить. В каждом стойбище говорят, надо свой, нанайский район создать, как раньше было...
Михаил весь вечер рассказывал амурские новости, угощал друзей юколой и соленой рыбой. Он побывал у всех родственников своих товарищей и привез приветы, письма.
— Да, ребята, засиделись мы в Ленинграде, — сказал Богдан, когда стали расходиться по комнатам. — Хорошо здесь, но надо домой. Там наши основные дела.
А вскоре друзья поздравили Сапси-Сашу, он выпустил вместе с Сашей Севзвездиным тоненькую книжку «На Амуре».
— Ты у нас писатель! — сказали друзья и сами удивились. «Писатель? Это у нас, у нанай, у которых только что и есть одна книга — букварь?» Но слово было сказано, и Сапси-Саша получил еще одно прозвище — «писатель».
— Эй, писатель, твой собрат по перу в гости к нам идет, — сообщили однажды студенты.
В этот день гостем северян был седоголовый, ироничный ирландец Бернард Шоу. В институте очень часто бывали именитые гости, все иностранцы, приезжающие в Ленинград, желали взглянуть на советское чудо, на северян.
Острослов Шоу встретился со студентами, разглядывал их, будто прощупывал, настоящие ли это северяне, прошел по аудиториям, комнатам, побывал в библиотеке, где с благоговением держал в руке буквари на северных языках.
— Теперь я еще лучше понял советскую власть, — сказал на прощание Шоу.
— Слышал, партизан? — обратился Карл Лукс, сопровождавший гостя, к Богдану. — Это говорит известный во всем мире писатель. Объективно говорит. Это уже победа, наша, большевистская победа.
Карл Янович повел Богдана к себе в кабинет.
— Богдан, я приглядываюсь к тебе и думаю, почему ты сдаешь позиции, почему записываешься в отстающие?
— Не понимаю вас, Карл Янович, — удивился Богдан.
— Ты один из первых пошел в партизаны воевать за советскую власть, первым поехал учиться, почему сейчас ты не первый? У нас партийная ячейка, она может принимать в члены партии. Знаешь это?
— Да, но я не думал...
— Надо думать. Вернешься домой, руководить людьми будешь, не зря ведь учишься на факультете советского строительства. Ты должен вернуться домой коммунистом. Ты достоин этого высокого звания. Уже есть несколько студентов членов партии, тебе тоже пора вступать. Я дам тебе рекомендацию, знаю тебя.
— Вы, Карл Янович?
— Да, я, — усмехнулся Луке. — Трудно сейчас вступать, принимают самых проверенных, но, думаю, тебя — партизана, должны принять. Пиши заявление.
— Я еще подумаю, Карл Янович, что-то скоро так...
— Боязно? Эх ты, партизан! Ну, думай, думай.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Председатель Няргинского сельсовета Хорхой вернулся из районного центра после полудня. Наскоро пообедав, он ушел в контору Совета, пробыл чуть больше часа и возвратился домой. Хорхой — председатель, каждый его шаг виден людям.
— Только вернулся домой и уже куда-то едет, — разнесся слух, когда к вечеру Хорхой выехал из стойбища.
— Не один, а с женой на лодке.
— Куда это он с Калой? На рыбалку?
— На рыбалку мужчины на оморочке ездят.
— Куда тогда на ночь-то глядя?
Хорхой сидел, как положено мужчине, когда он едет на лодке с женой, на корме с коротким веслом. Он не слышал, что говорили про него в Нярги, но знал, что все его видят и все гадают, куда он отправился с женой так поздно. Никто не должен знать, куда он съездил с женой и зачем; привезет он на дрова сухой плавник, утром один съездит и снимет сеть, и будут в стойбище говорить, что Хорхой хороший, заботливый муж, ездит с женой за дровами. Вот какие наши новые дянгианы!
— Отец Воло, куда мы едем? — прервала жена размышления мужа.
— За дровами.
— За дровами? Могла бы я с детьми съездить.
— Не твое дело!
— Как не мое? Сегодня репетиция, ликбез, я же...
— Аха, тебя там не будет, да? Этого боишься?
— Чего бояться? Никому не сказала, не предупредила...
— Это его не предупредила?
— Кого его?
— Я все знаю. Замолчи.
Удивленная Кала замолчала. Странный какой-то разговор ведет муж, давно так не разговаривал. О чем он? Кала родила ему троих детей, старшему, Володе, или, как в стойбище зовут, Воло, уже двенадцать лет, мужчина. Ссорились они редко, побил он ее раза два. С кем этого не бывает, погорячился, все же мужчина. Но с тех пор как стал председателем — грубого слова не сказал. Кала гордилась мужем, потому что ни у кого не было в стойбище такого красивого, умного мужа, как ее Хорхой. К нему приезжают со всех стойбищ, из района, даже из Хабаровска. Дянгиан ее Хорхой, все его уважают, даже Пиапон и старик Холгитон. Видный человек ее Хорхой. Лодка миновала остров Чисонко, проехала под обрывистым крутым берегом; здесь всегда, большое течение, и Кала гребла со всей силой, позабыв о муже, о неприятном разговоре с ним, руки ее заныли в суставах. Хорхой прижимал лодку к обрыву, где слабее было течение, и считал стрижиные гнезда. Лодка так медленно продвигалась, что он успел сосчитать все дыры в глинистом обрыве. Дальше потянулись тальники, за ними большой залив, где няргинцы выставляли на ночь сети.
— Устала, — проговорила Кала, когда заехали в залив.
— Это тебе не с чужими мужчинами ночи проводить, — со злобой сказал Хорхой, чувствуя, как напрягаются мускулы, как учащенней забилось сердце.
— Ты чего это, отец Боло?
— Чего? Это ты мне расскажешь.
Хорхой пристал к берегу, Кала вытащила лодку и встала, ожидая продолжения разговора.
— Рассказывай, с кем ты ходишь, когда нет меня?
— Ни с кем не хожу. С чего ты взял?
— Знаю все, я был бы плохой председатель, если бы не знал, что в стойбище делается. Говори!
— Нечего мне говирить.
— Позавчера ты гуляла с мужем Мимы?
— Нет. Не гуляла. Была на ликбезе, на репетиции.
— Ликбез, репетиция! Под этим делом распутничаешь?
Хорхой размахнулся и ударил жену. Он даже не заметил, куда, то ли в лицо, то ли в ухо: у него потемнело от злости в глазах, будто кто прикрыл их черной тряпкой.
— За что, отец Боло?
— За то! За то! За это!
Хорхой бил жену, не щадя кулаков, он вымещал на ней боль, стыд, которые перенес в районном центре. В Вознесенске собрались на исполком председатели всех сельсоветов. После исполкома, оставшись одни без начальства, они повели разговоры о своих делах, много говорили о женщинах. Председатель Болонского сельсовета рассказывал о девушках и молодых женщинах, которые ходят в школу на женсоветы, репетиции, ликбезы, чтобы встретиться с возлюбленными.
— Если какие и пользуются этим, то на всех нельзя валить, — возразил председатель Джуенского колхоза Пота Киле. — Так мы можем хорошее дело совсем испортить. Надо пресекать грязные разговоры, а кто занимается развратом, вызвать в сельсовет и крепко поговорить. Может, даже всем народом судить. Иначе нельзя. Что же, тогда мы не будем своих дочерей и жен отпускать в школу? Что народ скажет?
— Так я же не о себе, — возразил болонец.
— Это всех касается, может, наши дочери и жены тоже не святые. Вот сейчас мы на исполкоме говорили о шаманах, нам велели с ними бороться. Кто будет бороться? Старики, что ли?
— Комсомол должен бороться, — вставил слово Хорхой.
— Правильно...
— Ты уж там комсомолом правишь, — едко сказал болонец и полоснул Хорхоя острым взглядом. — Сам распустил их. У нас в Болони столько говорят о ваших, уши коробит...
Хорхой не придал значения словам болонца, усмехнулся и сказал:
— Мало ли что говорят, о ваших тоже говорят. Зачем сплетни собирать.
— Сплетни? Эх ты! Не знаешь даже, что твоя жена делает, а говоришь — сплетни.
Будто кто ножом ударил Хорхоя, он побледнел, не мог ничего ответить — такая боль сдавила сердце.
— Эх ты, сплетник! — выкрикнул Пячика Гейкер.
— Что же ты так, откуда тебе это известно? — спросил Пота. — Ты и правда худой человек.
Пота вышел из дома с Хорхоем, начал расспрашивать о матери, дядях и тетях, о всех родственниках. Но мысли Хорхоя были далеко, потому он отвечал рассеянно, невпопад.
— Вы от Богдана письма получаете? — спросил Пота.
— Да.
— Вот радость-то, сын родился у них. Слышали?
— Да. Радовались.
— Понимаю я тебя, Хорхой, не бери близко к сердцу эти сплетни. Это грязные люди разносят. До нас тоже дошли слухи, будто муж Мимы пакостник, да кто этому поверит? Мима умная хорошая женщина, активистка, вот люди грязные хотят ее унизить и мимоходом грязью обливают и других. И тебя тоже грязнят... Пота, сам не зная того, подсыпал соли на свежую рану Хорхоя, и тот решил расправиться с Калой. Возвращаясь домой, до мелочей продумал, как и где произведет он этот самосуд, чтобы никто не знал.
— Сознаешься? Сколько раз ты с ним?..
— Не виновата я перед тобой... Зачем бьешь, отец Воло? Никогда я тебе не изменяла, сердце можешь мое вырвать, никогда...
— Врешь! С мужем Мимы ты...
— Не было! Не было... как могла... я же всегда с Мимой вместе хожу в школу...
— Это правда?
— Правда, отец Боло. Спроси Гудюкэн, вместе ведь живем... спроси...
Гудюкэн, дочь Агоаки, жила с мужем в большом доме, слыла активисткой. Конечно, Хорхой мог у нее спросить, но зачем? Это унижает его как председателя Совета. Мог он расспросить и Миму, тем более что знает, как она крутилась с Киркой до замужества, но эти женщины сразу раскусят, в чем дело, и разнесут слух о ревности Хорхоя, чего доброго, узнают об избиении Калы, тогда не оберешься беды. Узнает дядя Пиапон — что тогда будет! Хорхой не хочет, чтобы народ узнал, как он избил жену.
— Говоришь, всегда вместе возвращаешься с Мимой и Гудюкэн?
— Да, вместе.
— Узнаю я, все узнаю! Если ты с ними в сговоре, тоже узнаю.
— Как же так, отец Боло? Как в сговоре с Мимой могу, если ты говоришь, будто я с ее мужем?
«Верно, чего-то я запутался», — подумал Хорхой, опускаясь на борт лодки. Кала лежала у его ног на мокрой от росы траве и всхлипывала. Хорхой достал дрожащей рукой трубку и закурил. Затяжка за затяжкой, и он успокаивался, прошла дрожь, бившая все тело, сердце меньше ныло.
— Вставай, чего лежишь, — сказал он.
— Не могу, голова болит, все тело...
— Какая нежная стала, других мужья ежедневно бьют и то ничего, ходят.
— Привычные они...
— Привычные, — передразнил Хорхой, помогая жене подняться. — Вымой лицо.
Кала наклонилась над водой, увидела свое отражение и тихо всхлипнула. Прохладная вода приятно освежала горящее огнем лицо.
— Слушай меня, — сказал Хорхой. — Что здесь случилось, никто не должен знать. Я человек, сама знаешь, какой, не хочу, чтобы всякое говорили обо мне. Поняла?
Кала кивнула головой, вытерла лицо подолом халата.
— Предупреждаю тебя еще раз: услышу такое — выгоню. И еще. Если кто узнает, что я тебя побил, — не будешь ты со мной жить. Поняла?
— Да.
Удовлетворенный, Хорхой сел на свое место, избитая жена — за весла. Они выставили сеть. Набрали сухого тальника и поздно вечером возвратились в стойбище. Утром на рассвете Хорхой съездил за сеткой и, довольный уловом, погодой, громко запел сочиненную тут же песню. На берегу его встретила Агоака, самая старшая женщина в большом дом, которую Хорхой побаивался с малых лет. Песня застряла в горле рыбьей костью, Хорхой откашлялся. Оморочка его еще не уткнулась носом в мягкий песок, когда Агоака спросила:
— Что ты сделал с Калой?
— А что случилось? — в свою очередь спросил Хорхой, изобразив на лице встревоженность.
— Я тебя спрашиваю.
— Откуда я знаю, я, вот видишь...
— Все вижу! Отвечай, что ты с ней сделал? Ты ее избил вчера?
— Я? Да ты что, тетя...
— Жалко, рано еще, народу мало, а то бы я тебя сейчас, на берегу, при всем народе отлупила твоим же шестом...
«Этого не хватало, — не на шутку испугался Хорхой. — Откуда она узнала? Неужели Кала разболтала?» Он вытянул оморочку и быстрым шагом пошел к дому. Встретил жену в дверях и все понял — лицо Калы было в синяках и кровоподтеках. «Вот дурак! Зачем в лицо бил?» — запоздало упрекнул он себя.
— Что ты сказала матери Гудюкэн?
— Толстый тальник упал, не убереглась.
— Так и говори всем. На людях не показывайся, в магазин не ходи.
Магазин — это рассадник сплетен, здесь они рождаются и отсюда разносятся по всему стойбищу и дальше. Нравилось это место всем женщинам, сюда они приходили, если даже нечего было им покупать. Сшила модница новый халат — шла в магазин, надо же похвастаться обновой. У сплетницы на кончике языка новая сплетня — она в магазин. У третьей новость — тоже тут как тут. Соберутся женщины в углу и талдычат до тех пор, пока за ними не прибегут из дому. Не любил Хорхой магазин. Сам по себе магазин — хорошее дело, если бы там не рождались сплетни.
Перед завтраком мужчины большого дома обычно усаживались рядышком на нарах и выкуривали по трубке. Часто никто не произносил ни слова, просто сидели бок о бок и курили. В это утро молчание нарушил Калпе.
— Раньше в доме за такое — разговора никто не затевал, — сказал он. — Теперь будут говорить во всем стойбище, на рыббазе, кирпичном заводе, в корейском поселке. Такое время. А Хорхой — председатель...
— Что я? — спросил Хорхой.
— Никого не обманешь, все понимают, — мрачно проговорил Улуска.
— Я не бил жену.
— Своим детям говори, они еще малы.
— Хорхой, выслушай меня, — продолжал Калпе. — Новая жизнь — это борьба со старым. В жизни борьба и внутри самого человека — борьба. Биение сердца человека по-новому перестраивается. Это не я придумал, это мне однажды сказал мой старший брат, отец Миры. Запомни это. Ты председатель Совета, ты перестраиваешь людское сердце на новый лад. Вот так. Должен перестраивать. А вместо этого что делаешь? Сам-то ты как?
— Я не бил Калу, — упрямо повторил Хорхой.
Жены поставили низкие столики, подали еду и позвали мужей. Хорхой прошел на свое место, сел. «Сердцебиение на новый лад перестраиваем, — подумал он, — а спим на общих нарах, едим за этими неудобными столиками. Новая жизнь. Пора дом построить да отделиться, на глазах меньше будем».
После завтрака пошел он на работу, дорога — мимо магазина.
«Хотя бы сегодня не работал», — почему-то мелькнула внезапная мысль, а ноги уже потащили в магазин. Открыл дверь — ну, конечно, женщины уже собрались. Все оглянулись на Хорхоя.
— Бачигоапу! — бодро выкрикнул он. — Вы что, каждый день на халаты покупаете?
— Чего не покупать, магазин рядом.
— Ты жене бери, не скупись, председательские деньги получаешь.
— В старое время, сынок, материи мало было, — сказала старуха, жена Оненка, — виноватый на суде узкими полосками рвал материю, вытирал стыд с опозоренного лица и раздавал людям. Так было раньше.
«Уже узнали», — с тоской подумал Хорхой.
— Теперь много материи, можно целыми кусками вытираться, — улыбнулся он через силу. — Ты хоть утиралку-полотенце имеешь или подолом халата все вытираешься?
— Подолом, подолом...
— На днях болонский доктор нагрянет, опять обойдет все дома, опять будет ругаться за грязь, сердиться. Тебя обязательно спросит, где полотенце.
— Ничего, сынок, ты к этому времени нам раздашь по большущим кускам материи, вот и будет у меня утиралка.
«Старая сука!» — выругался про себя Хорхой, изображая улыбку на лице.
— Потом доктор спросит, где простыни? Это не смогу я купить. А утиралку, так уж быть, я тебе подарю, чтобы не размазывала по лицу грязь подолом.
— Не надо над старухой насмехаться, — вдруг рассердилась Оненка. — Я не нищая! Грязная, да не нищая. Муж зарабатывает, сама тоже буду зарабатывать, вот поеду на ту сторону землю копать. Грех берешь на себя.
— Не сердись, пошутил, — удовлетворенно проговорил Хорхой.
Он вышел из магазина и подумал: «Так тебе, старая карга! Получила!» В конторе находился один Шатохин, все посетители, приходившие по утрам посидеть в кругу, покурить и поболтать, шумно говорили за перегородкой в колхозной конторе.
— Ишь, встревожились, о решении исполкома толкуют, — сказал секретарь, — жалко им шаманов. Чего встревожились? Ведь это уже не первое решение...
— Тогда объявили, да не боролись. Теперь другое совсем, вот как. Уничтожать надо сэвэнов, рубить священные деревья, отбирать у шаманов бубны и янгпаны.
Хорхой прошел за перегородку, поздоровался.
— Хватит, солнце уже высоко, пора на работу, — сказал Пиапон. — Никто за вас не будет землю рыть, овес сеять. Пока на ту сторону переезжаете, солнце в зените будет. По дороге наговоритесь. Давайте выезжайте, женщины уже на лодках сидят.
Колхозники гурьбой вышли из конторы.
— Народ с трудом привыкает к земле, непривычно, — словно оправдывая сородичей, сказал Пиапон бухгалтеру. — Но ничего, привыкнут.
— Время нельзя упускать, — заметил бухгалтер.
— Годо знает. Молодец он, все понимает. Железо дашь — что хочешь сделает. В моторах разбирается. А в земле всю жизнь, наверно, копается. Ну, Хорхой, как дела? — обернулся Пиапон к племяннику.
— Все хорошо.
— Тебе хорошо, а народ волнуется. Шаманов потрошить начнешь? С чего начнешь?
— Людей надо непугливых.
— Шаманы — люди уважаемые, старые. Вот и думай.
— Думаю. Против стариков тяжело идти, но с шаманами бороться надо.
— Не знаешь, у корейцев есть шаманы?
— Не знаю.
— А что будешь делать с русскими на рыббазе, кирпичном, которые иконам молятся?
— Не знаю.
— Вот тебе на! Если русским разрешается молиться иконам, то почему нанай нельзя молиться священным деревьям, тороанам, пиухэ? Тоже не знаешь?
Вот всегда так — попробуй поговори с дедом! До разговора кажется, все понятно, а поговоришь с ним — оказывается, ничего не ясно. Привычка у него — ставит и ставит вопрос за вопросом, мол, думай, шевели мозгами. Какое Хорхою дело до русских, корейцев, когда сказано с шаманами бороться.
— Ты один из хозяев священного жбана, что будешь делать со жбаном?
— Я не хозяин, мне он не нужен.
— Мы, Заксоры, все хозяева. Что будешь делать? Он священный, к нему приезжают люди молиться со всего Амура. А с дедом, великим шаманом, что?
— Пусть не шаманит.
— Так скажешь — и все? А если не послушается?
— Сам тогда виноват.
— Думай, Хорхой, тебе трудное предстоит дело. Наверное, самое трудное дело, потому что все шаманское это не бубны, не сэвэны, а глубже. Это в головах людей, в их мозгах крепко сидит.
Хорхой перешел на свою половину думать над словами деда, потом махнул рукой.
— Порушим разом — и все! Не будет бубен, священного жбана, священных деревьев, и в людских головах ничего не будет. Ничего не останется, забудут.
Срочных дел в сельсовете не было, и Хорхой с Шатохиным сели за шахматную доску. Хорхой совсем недавно узнал об этой увлекательной игре, играл неважно, но увлеченно.
К полудню из Малмыжа подошла лодка. Ее первым заметил Шатохин.
— Из района, наверно, — предположил он, пряча шахматы.
Вместо ожидаемого начальства из лодки вышел будущий фельдшер — Кирка.
— Ты чего нынче так рано? — удивился Хорхой.
— Раньше сдал экзамены, — улыбнулся Кирка.
Хорхой подхватил чемоданчик и мешок двоюродного брата, недавнего мужа своей матери, и зашагал к большому дому.
— Хорошо тебе, Кирка, в городе живешь, все городское носишь. Забот нет таких, как тут.
— Ты бы хоть день на моем месте побыл, человек. Знал бы, сколько приходится заниматься, одной латыни сколько запоминать. Забот мало!
Хорхой не знал, что такое латынь, но не в его привычках переспрашивать, показывать свое невежество.
— Кирка, доктор наш! — всхлипнула Агоака, обнимая и целуя племянника. — Твои все на той стороне, землю копают, — тут она взглянула на Хорхоя. — Аха, теперь мы тебе покажем, теперь у нас доктор есть.
Она схватила Кирку за руку и потащила на летнюю кухоньку, где варила полдник Кала.
— Посмотри, Кирка, что это с ней, — попросила она.
Кирке не стоило труда определить побои, хотя он еще не познал всей медицинской премудрости. — Кто это тебя так побил? — спросил он Калу.
— Молчи, не говори, — потребовала Агоака. — Это большой тальник на нее нечаянно упал.
— Тетя, зачем обманываешь? Такие синяки остаются только от кулаков. Голову даю наотрез.
— Это Хорхой ее побил. Эй, Хорхой, иди сюда. Ты еще будешь говорить — дерево, да?
Хорхой молчал, перед медицинским освидетельствованием он не мог устоять, верил он докторам, даже студентам-медикам верил.
— Эх ты, председатель! Эх ты, комол! Какой же ты Совет? Ты хуже отца Ойты, моего старшего брата. А ты? — она повернулась к Кале. — Ты чего его выгораживаешь? Он тебя бьет, красы лишает, а ты выгораживаешь! Стыд какой. Позор! А еще в ликбез ходишь! Я тебя, Хорхой, не оставлю так, я сейчас же пойду к отцу Миры. Все расскажу, открою твою душонку поганую.
Хорхой молчал, ему стыдно было перед Киркой, боялся он и своей тети Агоаки, которая не однажды давала ему в детстве трепку. Боялся он и Пиапона, боялся его проницательных глаз, тихого голоса. Что будет, если он потеряет расположение деда? Как тогда ему жить и работать в Нярги?
Агоака выполнила свои угрозы, Пиапон узнал о поступке Хорхоя. При встрече сказал:
— Ты опозорил комсомол, ты позоришь советскую власть. Какими глазами будешь на людей глядеть? Как с ними будешь разговаривать? Что тебе скажут те, которых ты осуждал? Скажут, чего же ты нас-то наказывал, когда ты такой же, как и мы. Подумай, будут ли тебя люди уважать...
Больше Пиапон ничего не добавил.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
На берегу среди нескольких оморочек Кирка безошибочно узнал оморочки Хорхоя, Пиапона, соседей, но отцовской не было. Значит, он переехал на тот берег. «Не лог на лодку сесть, — подумал Кирка. — Обычай, тоже мне, на оморочке только ездить мужчине». И вдруг усмехнулся своим же мыслям: «Ворчун! Сам оморочку ищешь, на лодке не хочешь ехать». На лодках и оморочках были весла, маховики, сиденья — столкни и выезжай. Но чужое нельзя брать без спроса, даже у двоюродного брата или деда Пиапона.
Кирке не хотелось видеть испуганного, совсем расстроенного Хорхоя, похожего на ту утку под дождем, название которой он носит.
— Эй, Хорхой, квохта под дождем, — сказал Кирка, встретив его возле дома. — Ты ее гак любил, а кулаки поднял. Пьяный был, что ли? Заревновал, наверно.
— Теперь что говорить, — махнул рукой Хорхой. — Ты тоже не вовремя подвернулся. Доктор. Не мог сказать, что дерево, а то кулаки, кулаки.
— Не мог, у нас это строго. С первого дня учебы об этом твердят. В нашем деле обмана не может быть, мы за жизнь людей отвечаем.
— Грамотные становитесь.
Кирка не понял, что этим хотел сказать Хорхой, да это его и не интересовало.
— Дай оморочку, на тот берег съезжу.
— Мне бы сейчас куда уехать, далеко-далеко, чтобы больше ничего не слышать, не знать.
— Но ты не хорхой, не улетишь и не нырнешь под воду, тебе придется отвечать. Не завидую тебе.
— Ты виноват, если бы не ты, все поверили бы...
— Он избил жену, а я виноват. Хорош ты! Людей не обманешь, они все равно узнали бы. Ты сейчас лучше думай, как ответ будешь держать. Ну что, даешь оморочку?
— Бери.
Кирка побежал было на берег, но, вспомнив, что одет в выходной костюм, вернулся и стал переодеваться.
— Иди, поя, поешь, — обращаясь, как к маленькому, позвала Агоака. — У моря-то, как рассказывал, рыба чужая, невкусная. Отведай нашей, этот паршивец - драчун утром поймал. Что бы тебе вкусное приготовить, а? Я приготовлю.
— Да все вкусное, тетя, не надо ничего отдельно готовить.
— Ты там городское ешь, вас, докторов, наверно, особой пищей кормят, чтобы грамота подавалась лучше...
— Теперь в Нярги столько грамотных, они что, едят другую пищу?
— Да, много нынче грамотных. Даже вот прикрывающая негодяя мужа Кала уже бекает.
— Как это бекает? — засмеялся Кирка, взглянув на смущенную Калу.
— В школе по вечерам Лена их обучает. Готовим мы здесь еду, а она в бумаги уткнется и бе-е-е, ме-е-е. Побекает, и слышу — слово получилось. В нашем доме теперь все заболели этой болезнью, отец твой, мать, моя Гудюкэн с мужем, это я про старших говорю, дети само собой учатся. Смешно мне бывает, когда твой отец просит помощи у детей. Ой, смешно! Бекает, бекает, бедный, только слово не складывается, тогда он к детям. Эти-то мальки учат родителей! А еще смешнее, когда они садятся за столики писать. Тут уже я вдоволь, с запасом на год, смеюсь. Так смеюсь, ноги не держат меня, трубка из рук вываливается. Садятся они, положат бумажки, какие найдутся, берут палочку-карандаш, наклоняются, и все обязательно высунут языки. Ты бы поглядел на них! Все высунут языки, как усталые собаки, только что слюни не текут. Потом ведут палочкой в одну сторону, а языки у них почему-то в другую сторону, не слушаются, что ли. Я нахохочусь, потом говорю им: зачем вам палочки, бумага, языком пишите, на чем хотите. Отвечают, ты неграмотная. Верно, я неграмотная. Поздно мне учиться, а другой раз так хочется рядом с ними языком поводить. Ох, заговорилась я с тобой. На тот берег собрался, что ли? На днях наши собираются там хомараны ставить, чтоб не ездить туда и обратно. Пусть живут там. Ешь, ешь. Да, еще одна новость! Богдан-то наш ребенка заимел, родился у них сын. Все джуенские говорили, будто его жена бесплодная, а он сделал ребенка. Вот мужчина! Я всегда говорила, Богдан — это мужчина. Тот, кого задали при большой любви, всегда вырастет мудрым, сильным, удачливым. Так, доктор? Как у вас говорят?
Кирка засмеялся, кивнул головой, чтобы удовлетворить словоохотливую тетю.
— Вот так, неграмотная я, а понимаю в жизни. А что было бы, если грамоте обучена была?
— Профессор вышел бы. Самый ученый человек.
— Да. Мог бы и выйти. Как назвал, пропес? Слово-то какое умное. Хорошо, что ты на доктора учишься, лечить нас будешь. С Богданом-то письмом разговариваешь?
Кирка, к своему стыду, ни разу не написал Богдану, в его памяти он остался серьезным, недоступным человеком, с которым не поговоришь о житейских делах.
— Не писал я, — сознался Кирка.
— В следующее лето он возвращается на Амур. Не узнать его. Прислал твердую бумагу со своим изображением. Жена рядом. Красавица! А ты не женился?
Агоака тут же прикусила язык — ох, какая она к старости стала забывчивая! Слишком еще свежи в памяти людей его женитьба и жизнь с Исоакой. Вот неловко получилось!
— Ты чего его не кормишь? — набросилась она на Калу, чтобы как-то скрыть смущение. — Хочешь, чтобы отощал? Силы от побоев убавилось? — и обернулась к Кирке: — Что тебе на вечер приготовить?
— Не надо, тетя, ничего не готовь. Может, я даже не вернусь, поеду куда-нибудь сети ставить, там переночую. Соскучился по Амуру, понимаешь?
— Кто куда ни уезжал, все так говорят. Но я никогда никуда из Нярги не уезжала, разве что в Болонь да в Малмыж, но это все рядом, все на Амуре. Вот мать Богдана тоже скучала в первое время там, на Харпи. Теперь пообвыкла. Да, еще новость ведь есть. Тетя твоя умерла, мать Ойты, отмучилась бедная. Теперь дом отца Ойты как на сильном ветру шатается. Собрались все разбегаться, одного старого оставят с молодой, думаю. Это вдвоем-то им жить в таком большом доме? Да там со скуки подохнешь! Даже Гэйе угрожает уйти, да куда ей одинокой-то деваться? Замуж за старика разве? Молодость виновата, в молодости родила бы детей, теперь бы жила, как люди живут. А так, бездомная...
— Тетя, спасибо тебе за еду, поеду я, — сказал Кирка.
— Ты как русский стал, спасибкаешь за еду. Смешно мне в первый раз было, спасибо за еду, надо же! Голодного ведь накормила, за что спасибо? Если утопающего из воды — тоже спасибо, что ли?
Кирка засмеялся и пошел на берег. Там постоял, подумал — ехать на тот берег или сразу податься на дальние озера; на той стороне мать с отцом, но там же и Исоака с Мимой, а с ними ему не хотелось встречаться. С Исоакой ему не избежать встречи — они живут в одном доме. Старая женщина никогда не напоминала о прежней близости, не начинала разговора, но тем не менее Кирка всегда испытывал большую неловкость при ней. А Мима — первая любовь, первая боль. Кирка был обижен на нее, когда она откровенно издевалась над ним после его женитьбы на Исоаке. Она не говорила обидных слов, она все высказывала глазами, поведением своим при неожиданных встречах, а встречаться приходилось часто, Нярги — не город. Она презирала Кирку. И было за что презирать, Кирка понимал, а сердцу не укажешь, оно любит, оно и обижается. Отношение Мимы резко переменилось, когда он стал студентом. Она стала ему улыбаться, и глаза излучали такой же призывный свет, который Кирка видел во время прежних тайных встреч на осенней путине. Во Владивостоке, стоило ему вспомнить Амур, свое стойбище, как тут же откуда-то ударял этот свет, ударял внезапной молнией. Первая любовь!
— Ты не смотри так на меня, — как-то при встрече в прошлый свой приезд попросил ее Кирка.
— А что? — словно выдохнула Мима. Какой был у нее голос — ой! Разве забудешь такой голос!
Мима стала настоящей женщиной, а когда девушки превращаются в женщин, к ним приходят ум и хитрость. Поняла Мима, что она все еще сушит сердце Кирки, стала откровенно искать встречи, а при встречах улыбалась еще милее, и глаза ее горели этим дьявольским светом. Разговор начинала она, говорила обо всем, что взбредет в голову, смеялась даже тогда, когда было Кирке совсем грустно — хоть утопись. Ей что, она замужем, муж видный, хороший человек, есть у нее дети — ей легко, она вошла в привычный житейский круг, из которого часто до могилы уже не выходят, и ей ничего не стоит мучить неустоявшееся, ищущее любви сердце Кирки. Она ведь не вспомнит те трепетные ночи, не забьется ее сердце так, как оно билось тогда. У нее все уже устоялось. А может, она тоже помнит, любит?..
Кирка столкнул оморочку; он решил в первый же день покончить со всеми сомнениями, чтобы потом жить спокойно, заниматься любимой рыбной ловлей и сбором лекарственных растений. Направив нос оморочки чуть наискосок сильному течению, он что есть силы принялся грести маховиком. Легкая лодчонка уточкой подпрыгивала на небольшой волне, и, несмотря на все старания гребца, ее сносило течением вниз. Кирка мерялся силой с амурской водой. Но кто же, кроме безумцев или влюбленных, гребет против течения на середине реки? Смотрели с берега на него няргинцы, и каждый по-своему рассуждал о нем. Только один Хорхой завидовал ему, потому что понял: ему самому неплохо было бы сейчас поспорить с амурским течением, чтобы отвлечься и забыть о неприятностях.
Кирка не переборол течения, его отнесло далеко вниз от косы, где он думал пристать. За островом на озере Ойта оморочка легко заскользила с волны на волну.
Огородники отдыхали после обеда и, заметив издали оморочку, гадали, кто бы мог ехать к ним в такое позднее время. Первым узнал Кирку его друг Нипо.
— Чего ты врешь? — накинулась на него Далда. — Ему еще рано приезжать.
— Обожди, я еще не стар, глаза еще видят, — успокаивал Калпе жену, всматриваясь в приближавшуюся оморочку. — Да, это наш сын, — сказал он, узнав Кирку.
Далда с дочерью побежали на берег, по колено забрели в воду и, вытащив лодчонку на берег, с обеих сторон обняли Кирку.
— Не задушите, нам оставьте!
— Вот женщины! Обязательно надо всплакнуть.
— Доктор! Больных у нас нет.
Под смех и шутки друзья вытащили Кирку из оморочки. Калпе обнял сына, поцеловал.
— Ты уже не охотник, — сказал он. — Ты насквозь провонял всякими лекарствами, звери тебя учуют прежде, чем ты их увидишь.
— По рукам, папа, сегодня едем с ночевкой, посмотрим, кто кого, — улыбаясь, предложил Кирка.
— Это куда же? На рыбалку? Хитрый, рыбы не чуют твой запах.
— А что? Поехали за мясом, — поддержал друга Нипо.
— Нет, работы много, — возразил Гаде, которого назначили бригадиром на полевых работах..
Кирка поздоровался со всеми, кивнул Исааке, встретился глазами с Миной и опустил голову.
— Давай рассказывай о себе, о море, городе, — требовали отовсюду.
— Я познакомился с одним моряком, — начал Кирка. — Это человек, который на кораблях по морю плавает. Хороший человек, много плавал, много новых земель, народов видел. Интересно рассказывал. Говорит, что не может налюбоваться морем, а я не могу никак представить, как можно его любить. Десять дней едешь — кругом вода, месяц едешь — кругом вода. Можно с ума свихнуться.
— А мы в тайге живем месяцами — ничего, — сказал Кирилл Тумали.
— Сравнил! В тайге каждый раз новое встречаешь, кругом деревья, ключи, звери, птицы, а там вода, да еще соленая.
— Моряки любят это море, — продолжал Кирка. — Ездил я с ними на катере, волна была чуть больше нашей амурской, но мне так плохо было, вспоминать не хочется.
— На Амуре тоже болеют этим,а там море.
— Ты о себе рассказывай.
— Чего о себе рассказывать? Учусь. Знаете, что сперва я учился на подготовительных курсах, которые организованы для нас, северян, а сейчас на доктора учусь. Все подробно рассказывать, вам страшно будет.
— Не пугай, не маленькие.
— Да не пугаю, сам сперва так боялся, что вечером один в комнате не оставался, спал при свете. Ладно, слушайте. Стоит большой каменный, дом, в этом доме учатся будущие доктора. Есть там подвал, холодный, темный и страшный. В подвале лежат покойники. Ничего?
— Рассказывай, чего там!
— Не надо, дети же тут!
— Испугались? А нам надо их изучать, мертвых. От какой болезни кто умер. Это еще ничего, об этом нам рассказывают. Главное, нам потом приходится их резать. Пальцы резали, кость отделяли. Потом руки, ноги, с осени начнем изучать внутренности...
— Хватит тебе! Перестань! — завопили женщины.
— Дети рядом!
Калпе взял сына за локоть, посмотрел в глаза, и Кирка понял, что отцу неприятно про это слышать.
— Нет, папа, я не резал много, внутренности не трогал, мы простые фельдшера, а те, которые хирургами будут, те режут, каждую часть тела изучают, все внутренности. Такая работа...
Далда поставила перед сыном чашку с супом, кружку чая. Кирка стал хлебать суп.
— Все, пошли на работу! — приказал бригадир Годо.
Колхозники засобирались, поднялись один за другим и побрели в тайгу. Далда с Мару и Калпе с зятем остались. Кирка улыбнулся сестренке и сказал:
— Второй у тебя будет тоже сын.
— Откуда знаешь?
— Просто так говорю, племянника хочу.
Кирка вспомнил, как отец копил пушнину, чтобы купить ему жену, и как пропил ее на ярмарке. Потом собирался Мару продать, а на вырученные деньги ему привести жену, но все это стало ненужным, когда Исоака по закону левирата перешла ему в жены. Мару вышла замуж по любви, вез тори.
— Ты опять лекарственные травы будешь собирать? — спросила Далда. — Мы с Мару кое-что собрали.
— Буду, обязательно буду.
— Пошли, пошли, нехорошо, все ушли на работу, — заторопился Калпе.
Кирка пошел осматривать колхозное поле, лоскутками разбросанное по тайге. Он ходил от одного лоскутка к другому, бродил по тайге в поисках нужных ему трав. С малых лет Кирка был приучен к таежной жизни, знал все съедобные ягоды, травы, коренья, знал, какие растения помогают избавиться от рези в животе, от головной боли; знал, чем останавливают кровотечение. Это были необходимые знания таежного жителя. А теперь ему требовалось проникнуть в тайны знахарей, и в этом ему помогали все: мать, отец, сестра и друзья. Помогали и сами знахари, делясь секретами изготовления лекарств. Какова их действенная сила, Кирка должен был проверять сам на себе. Кроме трав знахари широко пользовались желчью медведя, кабана, струей кабарги. Кирка в первое время принимал все рецепты знахарей, даже самые смехотворные, в которые сам не верил. А теперь он только выискивает травы, цветы, коренья, которыми когда-либо пользовались его сородичи. В берестяной коробке уже лежал неплохой гербарий этих лекарственных трав. Делился Кирка своими мыслями с преподавателями техникума, они его поддерживали, хвалили, но, занятые своими делами, не проявляли большой заинтересованности. Понял это Кирка и потому хранил свой гербарий дома, в Нярги. Понимал он и другое: что ему, с его небольшими знаниями, нельзя использовать на практике лекарственные травы. Он надеялся встретить среди преподавателей такого же энтузиаста, каким был сам, и с его помощью приготовить новое лекарство.
...Когда Кирка нашел саранку и начал раскапывать ее клубень, рядом хрустнул прутик.
— Бачигоапу, — услышал он голос Мимы.
Он поднялся, встретился с ней глазами. Она улыбалась.
— Ты зачем здесь? — спросил строго Кирка.
— По своим делам. Захотела и пришла.
— Мне что, тебе же хуже.
Кирка присел на корточки и продолжил свое занятие.
— Ты вечером придешь в школу? — спросила Мима.
— Не знаю.
— Приходи, у нас интересно.
«Нет, родная, у нас ничего не выйдет, — думал Кирка. — Если даже ты сохранила любовь, нам уже не вернуть прошлое, у тебя дети, его дети»...
— Едем с ночевкой? — спросил Калпе, когда Кирка вернулся на его поле.
— Сетка у тебя есть?
— Есть, с собой. Острога есть.
— Нет, сын, я тебя не отпущу, — воспротивилась Далда, — только вернулся, должен переночевать дома.
— Он таежник, рыбак, соскучился по делу.
— Нет, папа, он будет ночевать дома, — заявила и Мару.
— Куда зовешь? Встречу, что ли, не хочешь справить? — это был последний и самый решающий довод Далды.
— Верно, верно, встречу надо справить, — засмеялся Калпе и подмигнул сыну. — Все деньги у нее, не дает мне, — пожаловался он. — Магазин рядом. А все же мы за талой сейчас отправимся.
Калпе обошел огородников, забрал у них сети и выехал на озеро Ойта устраивать гон.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Все важные дела решаются утром — это закон жизни Пиапона, принятый им в молодые годы и безукоризненно выполняемый всю жизнь. Раньше это выполнялось само по себе, тогда все дела начинались с утра, да и были они привычные, укоренившиеся: охота, рыбная ловля. А теперь Пиапону приходится думать о большом хозяйстве. Это тебе не о семье и не о большом доме заботиться, здесь куда сложнее.
На счету появились деньги — ссуда для приобретения скота, и Пиапону надо посоветоваться с людьми. Попытался он поговорить с огородниками, но те отмахнулись, заявив, что председатель колхоза пусть сам решает, каких коров покупать, а они их только издалека видели и потому даже не могут отличить быка от коровы. Что поделаешь, если не хотят советоваться? Надеялся Пиапон на бухгалтера, думал, он разбирается в коровах, но тот родился в городе и тоже разбирался в коровах не лучше огородников.
К кому же обратиться Пиапону, как не к грамотным людям? Поговорил с племянником — Киркой.
— Я будущий людской доктор, — объяснил Кирка. — В коровах понимаю столько же, сколько в астрономии. Дед, для этого есть коровий доктор, ветеринаром называют его.
Молодец Кирка! Вот что значит грамоте выучиться. Все в нем изменилось: и поведение, и разговор не тот, слова новые произносит без запинки! Разве сравнишь его с Хорхоем? Надо побольше молодых посылать учиться, даже тех, которые женаты: ничего, проживут без жен год-два, зато вернутся обновленными людьми и жены будут любить еще крепче. Чем больше грамотных будет, тем легче будет колхозом управлять. А пока приходится советоваться с бухгалтером, кассиром, с Леной да старым Холгитоном.
Пиапон вошел в школу, огляделся. Парты сдвинуты, сор не убран — поленились после репетиции прибрать за собой.
— Лена! Ты встала? — гулко прогудело в пустом классе. — Неси сюда свою железную землю.
— Доброе утро, отец Миры, — поздоровалась Лена, появляясь в дверях своего закутка с глобусом в руке. — Что так рано на занятия?
— Надо спешить, ты же уезжаешь.
— Я еще немного задержусь. Ладно, пока я там кое-что прибираю, разыщите в Америке реку Амазонку.
— Обожди, дочка, мне тоже некогда, я зашел к тебе посоветоваться, Для колхоза надо покупать коров, а в них никто не разбирается. Ты хоть понимаешь?
— А чего не понимать?
— Ты хоть доила их?
— Нет.
— Тогда, выходит, тоже не понимаешь, — вздохнул Пиапон. — В каждом деле свое понятие, дочка. Когда мы лошадей стали покупать, русские, которые похитрее, подсовывали нам больных или загнанных лошадей, а то и старую. Вот как. Я не хочу, чтобы мне подсунули старых дохлых коров или старого быка. Значит, ты не понимаешь в коровах?
— Нет, не понимаю, отец Миры.
— Ну что поделаешь. Вот Америка, нижняя и верхняя, — Пиапон ткнул в глобус. — Теперь покажи, где эта река. Как ты назвала?
— Амазонка. А Америка Северная и Южная, сколько раз повторять! Вот Амазонка, самая крупная, самая многоводная река на земле.
— Больше нашего Амура?
— Намного больше.
— Неужели есть реки больше Амура?
Пиапон проследил за указательным пальцем Лены, которым она водила по глобусу, и сказал:
— Короткая.
— Так это же на глобусе. Вот Амур, еще короче.
— Ну, ладно, дочка, пойду я, дел много.
Пиапон погладил шершавыми ладонями глобус, крутанул его и вышел из школы. Глобусу Пиапон не верил, не мог он представить, что земля круглая и вертится. Закрывал он глаза и видел голубой большой шар, и шар этот крутился. Но как ни прикреплял к нему Пиапон дома, людей, собак — не могли они удержаться на гладком шаре, все летело в тартарары! Горы рушились, реки выливались! Другое дело — карта. Когда Лена показала ему карту — все встало на место. На плоской карте все было понятно. Пиапон без разъяснений сам в ней разбирался. Разбирались и другие охотники, потому что на карту они смотрели как на свою землю, только с облаков. Это было всем понятно, ясно как день и ночь.
Пиапон вошел в новый дом Холгитона. Большая семья была уже на ногах. Пиапон взглянул на недавнее приобретение старика — настенные часы-ходики. Они отчаянно стучали, маятник ходил ходуном: к гирьке — продолговатой чугунной шишке — кто-то привязал еще два болта, круглое кольцо-прокладку и стограммовую гирьку. Стрелки ходиков показывали три часа. Пиапон усмехнулся и спросил стоявшего рядом Нипо:
— Сколько времени они показывают?
— Спроси у него, — Нипо указал на отца.
— Сколько надо, столько показывают, — буркнул Холгитон. — Сейчас утро? Тогда, выходит, утро.
— Часов семь сейчас.
— Какая разница — семь, десять или три? Идут часы — хорошо, смотри, как идут, очень бодро, намного быстрее, чем шли.
— Ну и врут, вперед забегают, — сказал Нипо.
— Вперед забегают? Так это мне и надо! — засмеялся довольный Холгитон. — А то стучат, как полудохлые — так да так, так да так — медленно очень, хочешь не хочешь — заснешь. Такие они только тебе, лентяю, годились. Теперь смотри, как идут, большая палочка прямо на глазах движется, а раньше как шла?
— Они слишком быстро идут, — сказал Пиапон.
— Ты тоже это говоришь? Ты же не такой лежебока, как Нипо! Быстро идут? Это же хорошо! Наша жизнь сейчас быстро идет, и часы пусть быстро бегут. Тебе что, жалко?
— Ничего не жалко, только часы на то и часы, чтобы правильное время показывать.
— Правильное — неправильное...
Пиапон чуть было по старой привычке не плюнул на пол с досады.
— Советоваться пришел, — сказал он, — коров будем покупать.
— Часы правильно показывают, — усмехнулся Холгитон. — Жизнь быстро идет, вчера не было коров, сегодня покупать будем. Чего советоваться? Велели тебе покупать, иди покупай. Жирных выбирай, мясо их вкусное, когда жирное.
— Да не на мясо коровы, ты что, забыл?
— Помню, на молоко. Тогда выбирай коров с большим выменем, они тебя не подведут, по ведру будут давать молока. А почему ты Митропана не попросишь, он ведь все понимает.
— Придется просить, другого выхода нет.
В это же утро Пиапон выехал в Малмыж к своему другу и советчику Митрофану Колычеву. Нашел он Митрофана хмурым, расстроенным.
— Ты не заходил в Интегралсоюз? — спросил Митрофан поздоровавшись.
Пиапон не заходил, прошел мимо.
— Бориса арестовали. Воротина.
— Как арестовали? Бориса? За что? Растратил?
— Говорят, за заезок, за погубленную рыбу.
— При чем он, Борис? Разве он главный был?
— Главный не главный, а вот арестовали.
— Неправильно это. Если так, то и нас всех надо арестовать, мы не открыли заезок, не выпускали рыбу. Борис не виноват.
— Расследуют, если не виновен — не посадят. Мы с тобой ничем ему не поможем. Подождем. Ты проездом в Малмыже?
— К тебе приехал. Помоги коров для колхоза купить, сам знаешь, у нас никто не понимает, какая корова лучше, какая хуже. Вот и пришел просить тебя.
Митрофан поморщил лоб, подумал.
— Самые лучшие коровы у Ворошилина, — сказал он подумав, — породистые, удойные.
— Это у Григория, сына умершего Пеопана?
— Да, Феофана. Хорошие коровы.
— Он же отказался в колхоз вступать, и ты предлагаешь у него купить?
— А что?
Митрофан ничего не понимал, он смотрел на друга, пытаясь по выражению лица догадаться о его мыслях.
— Григорий кулак. Против советской власти он. В колхоз не идет. И ты хочешь, чтобы я колхозные деньги отдал ему? Заграбастает деньги и будет жить да поплевывать на тебя, на твой колхоз, на нашу власть. Не быть этому! Пусть подыхает со своими коровами.
— Чего горячишься? Не покупай его коров, никто тебя не заставляет. Где тогда купишь? В Вознесенске? Тамбовке? Славянке? Троицком? В любом русском селе купишь, но купишь только у единоличников. Понял?
— Я куплю только в колхозе.
— В Синде, наверное, продают.
— Вот это хорошо. В Синде есть несколько моих знакомых, вместе партизанили. Поехали в Синду, поможешь коров купить, встретимся с друзьями-партизанами.
Митрофан подумал, сколько дней он должен отсутствовать, прикинул, какие дела следует сделать до выезда, и согласился. Отказать Пиапону он не мог. На другой день Пиапон, Митрофан и бухгалтер выехали в Синду. Сели они на пароход в Малмыже, доехали до Троицкого, там пересели на другой пароход, следовавший по протоке, на которой стоят большие нанайские стойбища и русские села.
Митрофан знаком был со многими синдинцами, он быстро договорился с председателем колхоза о покупке трех коров, быка-производителя и двух телок; синдинцы давали две халки для перевозки скота.
Встретились после этого Митрофан и Пиапон с друзьями-партизанами, вспоминали комиссара Шерого, командиров Мизина, Глотова, доктора Храпая. Пиапон особенно обрадовался Тихону Ложкину, с которым прошел путь от Малмыжа до Де-Кастри. После уничтожения отряда полковника Вица они расстались в Мариинске, Пиапон возвратился домой, а Тихон ушел с Глотовым в Николаевск.
— О-хо-хо, Пиапон! Лиха хлебнули мы, — рассказывал Тихон. — Сколько хлебнули — ой да ну! Верили мы в Яшку-то Тряпицына, вроде наш был, паря, да не тот оказался. Расстрелял ведь нашего командира-то Мизина! Вот гад! Многих честных людей поцокал. Эхма!
Тихон Ложкин недолго пробыл в Николаевске, вскоре отряд Павла Глотова расформировали. Синдинец попал в батальон, который под командованием Лапты назначили в Де-Кастри для охраны бухты. Так Тихон вновь оказался в Де-Кастри. Партизаны тогда ничего не знали о прошлом своего командира, верили Лапте, потому что он был приближенным Тряпицына, а тому они слепо верили, загипнотизированные его обаянием и безрассудной храбростью. В июле в бухту вошли японские военные корабли, высадили десант. Открылся де-кастринский фронт. Хорошо вооруженные японцы вытеснили партизан, через тайгу пробились к озеру Кизи и по берегу озера направились в Мариинск, на Амур. Партизаны с боями отступали одни в Мариинск, другие под командованием Лапты через тайгу в село Циммермановку. Здесь Лапта получил новое назначение — командиром всех партизанских отрядов от Мариинска до Хабаровска. Лапта почувствовал полную свободу, он захватил пароход «Соболь», вывесил на нем черный флаг анархистов.
В июле пришло сообщение из Керби о суде и расстреле Якова Тряпицына, Нины Лебедевой и других главарей контрреволюции. К этому времени до партизан дошли слухи о прошлом предательстве их командира. Будучи схваченным калмыковцами, он выдал подпольщиков Хабаровска. И когда Лапта призвал партизан идти на Керби, чтобы отомстить большевикам за Тряпицына, отряд разделился на сторонников большевиков и на сторонников анархиста Лапты.
Тихон Ложкин, возненавидевший Лапту за смерть Мизина, ушел в тайгу со сторонниками большевиков. Отряд решил пробиваться в Амурскую область, чтобы соединиться с Красной Армией.
— Ты был, когда убивали Лапту? — оборвал рассказ Тихона Пиапон.
— Был. Мы вышли из тайги в нанайское стойбище. А там пароход «Соболь», сам Лапта. Коцнули его там...
Пиапон не раз слышал о смерти «большого Тряпицына» в стойбище Бичи. Он никак не мог понять, откуда появился этот «большой Тряпицын», когда настоящего Тряпицына расстреляли в Керби. «В него много раз стреляли, — рассказывали бичинцы, — в грудь стреляли. Он упал на песок, думали, убит. Пароход, на котором он приплыл, ушел. Партизаны тоже ушли в тайгу. Подошли мы, хотели прибрать, похоронить, а он открыл глаза, смотрит на нас. Дышит тяжело, из ран в груди пузыри с кровью. Не жилец, думаем, скоро помрет. Он сел, туда-сюда посмотрел — ничего нет, ни парохода, ни партизан. Оружия тоже нет. Попросил закурить. Дали закурить. Смотрим, курит. Сильный был человек, большой телом, вот мы и назвали его «большой Тряпицын». Три дня прожил он, курил, пил воду, потом умер».
— Стойбище называется Бичи, — сказал Пиапон.
— Верно, Бичи! — обрадовался Тихон. — Откуль тебе известно?
— Люди рассказывали.
— Правильно, что коцнули, туда ему и дорога, ироду. Я ведь пешим доковылял до Благовещенска, в Красной Армии воевал. Погнали потом япошек и всяких американов к морю-окияну. Прямо ой да ну! Вернулся, отстроился. Беляки-то в войну всю Синду пожгли. Отстроились. А ты как, председателем колхоза, значит? Молодец, Пиапон, партизан! А где твой друг, как его, запамятовал. Тот, который... вспомнил. Токто где?
— В Джуене, тоже председателем, только сейчас он на реке Харпи другой колхоз организовал.
— А племяш твой Богдан, он где?
— В Ленинграде учится.
— Глянь-ко! Аж в самом Ленинграде! Молодец, правильно воевал, дорогу будто туда пробивал. Вот тебе и гольд-нанаец, в Ленинграде учится. Хорошо.
Тихон искренне радовался за Богдана, хлопал Пиапона по плечу, по спине и говорил, не давая другим высказаться.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Секретарь няргинского сельсовета сразу стал своим человеком в стойбище. Родился он в Вознесенске, окончил там церковноприходскую школу, участвовал в гражданской войне, а когда призвали мало-мальски грамотных помочь нанайцам, он согласился работать секретарем сельсовета в Нярги. Нанайский язык он выучил с детства и говорил без акцента.
— Я нанай, — говорил он. — Из рода Шатохиных. В Вознесенске больше половины села Шатохины, как в Нярги Заксоры.
Так его и звали — Шатохин, забыв про имя.
— Сатохин, тебя Хорхой ищет!
— Сатохин, Пианол говорит, помоги.
Шатохин был настоящим таежником, он не отставал от няргинцев ни на рыбалке, ни на охоте, за что снискал еще большее уважение. Няргинцам казалось странным, что он, русский, не держит корову, отвык от привычных для всех русских занятий.
— Нанай ты или русский, — качал головой Пиапон, — не поймешь. Если ты не хочешь себе выращивать овощи, то хоть покажи нанай, научи.
— Не занимался я этим, — отмахивался Шатохин. — Да на кой черт мне эта морока!
— Плохо, а еще секретарь сельсовета, — грустно говорил Пиапон.
Молодые няргинцы тянулись к общительному и веселому Шатохину, он научил молодых охотников играть в шашки, потом в шахматы. Его партнерами по шахматам были Хорхой, Кирилл да Кирка.
— Кирка, ты городской человек, грамотный, ну зачем ты так стараешься, — уговаривал его Шатохин, проигрывая каждый раз, к радости Хорхоя.
— Так тебе, так! — потирал руки Хорхой. — А я думал, ты лучший игрок на земле. Зря думал. Кирка, ты научи меня, как его побеждать.
— Научишь тебя, лентяя.
Шатохин же, лишившись авторитета знатока шахмат, напротив, принялся за разбор и изучение своих же партий, охотно ломал голову над задачами, которые помнил Кирка. От него он впервые узнал, что есть шахматные учебники.
— Вот так, Кирка, век живи, век учись, — говорил он. — Завидую я вам, молодым, столько познаете, столько нового видите. Мне бы сейчас молодые годы.
В шахматы Шатохин проигрывал Кирке все партии, но в шашки он играл гораздо лучше.
— Давайте, ребята, настоящее соревнование устроим, а? — предложил Кирка. — Играть по кругу, кто выиграет, получит какой-нибудь подарок.
Хорхой с Шатохиным нашли какие-то неизрасходованные сельсоветские деньги и приобрели в магазине какую-то вещь — приз. Что они купили — никто не знал, кроме них. Слух о призе дошел до пожилых охотников, и те в один голос заявили, что хотят принять участие в турнире. Пришлось Кирке их включать в списки участников, а Шатохину готовить дополнительные шашки и доски. Теперь в школе стало по вечерам многолюдно и шумно. Девушки и женщины не мешали шашистам, они укрывались в комнате учительницы.
Шашечный турнир закончился, несмотря на многочисленность участников, быстро. К удивлению няргинцев, победу одержал Кирилл Тумали. Он играл не хуже Шатохина, но никто не ожидал его победы.
— Моя была победа, Кирка виноват, подставил ногу, — оправдывался Шатохин, которого прочили в победители.
— Победитель Кирилл! — объявил торжественно Хорхой. — Он получает подарок!
Хорхой вытащил сверток, развернул, и все увидели новенький патронташ, в его гнездах золотом горели латунные патроны, в придачу к ним — банка мелкого пороха и мешочек дроби.
Счастливый Кирилл подпоясался патронташем, позвал жену из комнаты учительницы, похвастался победой. Потом подошел к Кирке и спросил:
— Ты нарочно проиграл мне?
— Стал бы я проигрывать, — засмеялся Кирка. —Кому не охота заиметь такой красивый патронташ.
— А я думал, ты нарочно «зевнул» пешку.
Кирилл засмеялся, хлопнул приятеля по плечу. Кирка ответил тем же. Посмеявшись, он сказал:
— Зря ты жену сюда водишь, она ходит последние дни. Нельзя ей волноваться.
— Ничего не будет, нанайские женщины живучи. Вон зимой, в мороз, в чоро рожают. Ребенок умирает, а она живехонька. Моя воду носит, дрова рубит — ничего.
— В чоро будет рожать?
— А где еще?
— Может, в Болонь отвезешь, к фельдшеру, там у него и комната для родов есть.
— Нет, она не хочет даже слышать, мать с отцом тоже против. Нет, с ними не договоришься.
— Тогда пусть хоть дома рожает, а не в чоро.
— Как старики, мне-то что? Скажу им.
В этот вечер Кирка встретился с Мимой. Из школы он ушел последним, вышел на берег, чтобы выкурить папиросу, помечтать наедине с Амуром. Дня три назад он проводил Лену Дяксул, она уехала в свое стойбище, где будет работать с мужем, окончившим техникум народов Севера. Он до сих пор был немного влюблен в учительницу, которая так внезапно и круто изменила его жизнь. Кирка всегда будет помнить ее, потому что она освободила его от постыдного брака с Исоакой, она настояла, чтобы он уехал учиться на фельдшера во Владивосток.
После отъезда Лены Кирка загрустил. Несколько раз он порывался съездить в Болонь к фельдшеру Бурнакину, с которым был знаком, хотел немного попрактиковаться у него; принимать больных в Нярги он не решился, слишком была большая ответственность. Лечил он привезенными с собой мазями только ребятишек, которых с весны до осени мучили болячки. Несколько раз он заводил разговор с их родителями о чистоте в доме, о заразе, распространяемой различными насекомыми. Женщины насмешливо слушали его и отвечали: «В вашем большом доме тоже много мух, грязи вдоволь, детишки тоже в болячках...» Посрамленный Кирка проглатывал обиду и больше не заводил разговора о гигиене. В большом доме он наводил порядок, требовал чистоты, лечил всех больных, результаты сказывались медленно.
— Наверно, я не вернусь в Нярги работать, — обмолвился он как-то Хорхою. — Все тычут мне, был, мол, таким же, и мать такая-сякая, тети, сестры... Тяжело слушать, обидно. Не столько мои советы слушают, сколько думают, как бы похлеще ответить. Что толку от такой беседы?
— Испугался? Говорил я тебе, тяжело в родном селе работать, здесь тебя с детства знают, все грехи твое помнят, — отвечал Хорхой. — А главное, тут все твои родственники. С ними еще хуже.
Хорхой сам переживал немало насмешек, прямых укоров, обидных нападок со стороны осужденных недавно им мужей. Прав был Пиапон — люди смеялись над Хорхоем, и ему стыдно было им глядеть в глаза.
— Ничего, переживем, — продолжал Хорхой, — старикам недолго еще жить, когда останутся одни наши сверстники да моложе нас, тогда легче станет.
Кирка расхохотался, он смеялся долго, до слез, и стало ему после этого легче, будто освободился от какой-то тяжести.
— И мне будет хорошо, — сказал он отдышавшись. — Молодые редко болеют, работы будет мало. Потом наши сверстники к этому времени научатся жить чисто и опрятно...
...Она появилась неожиданно. Кирка курил, сидя на лодке, вспоминал свои нелегкие беседы с Хорхоем, слушал стукоток шаманского бубна на другом краю стойбища.
«Хорхой ругается с ними, запрещает камлать, а они и знать не хотят, — подумал он. — Конкуренты докторов, тоже мне. Как говорит Хорхой, скоро они уйдут в буни, добровольно уступят свои позиции. Уйдут они, и наступит приволье, ни шаманов, ни болезней, лежи да поплевывай в потолок. Смешной Хорхой...»
— Давно я стою рядом, — раздался голос Мимы над ухом.
Кирка вздрогнул от неожиданности.
— Ты уже не охотник, разве охотники бывают такие глухие?
— Задумался я.
— Все равно должен слышать.
— Я не ожидал тебя и вообще никого не ожидал.
— Сердишься? Не надо, Кирка, не сердись, я просто хочу немного с тобой посидеть.
— Тебя муж ждет.
— Нет его дома, он на рыбалке с ночевкой.
Кирка выкурил папиросу, каблуком вдавил окурок в мокрый песок и сказал:
— Мима, нехорошо получается, ты ведь сама чувствуешь, что нехорошо...
— Боишься или на самом деле я противна стала?
— У тебя двое детей...
— Эх ты, доктор, говоришь, роды принимал, а сам не знаешь, сколько женщина носит в себе плод любви.
— Знаю, Мима, знаю, что дочь — моя, но пойми, ты замужем, у тебя семья, я не могу разрушать твою жизнь. Если мы будем с тобой встречаться — это плохо, узнают люди, пойдут толки, все падет на тебя. Мне ничего не будет, я уеду, а тебе придется отвечать. Я не хочу, слышишь, Мима, не хочу, чтобы женщины измывались над тобой, не хочу твоего позора. Понимаешь ты это? Не хочу, потому что я тебя люблю, всегда вспоминаю, слышу твой голос, вижу твои глаза... Не хочу, Мима, твоего позора!
Мима долго молчала, сидела на лодке не шелохнувшись.
— Я тоже тебя люблю, Кирка, — сказала она наконец. — Во сне часто вижу, дочурку больше люблю, чем сына, она очень похожа на тебя... А я не догадывалась, что ты знаешь... Ты не думай, что Мима такая-сякая, сама приходит, назойливая... Я просто люблю тебя одного. Ревновала к Иосаке, потом к учительнице. Глупо, понимала сама, да не могла ничего с собой поделать. Все не так в жизни, все не так. Кирка, ты ведь не прав. Я понимаю, ты за меня беспокоишься... Если узнают о нашей встрече, муж изобьет меня, отец поругает, женщины в магазине будут судачить. Все так. Пройдет время, и все забудется — разве это в первый раз происходит в Нярги? Женщина изменила мужу, муж — жене, это обычно... Но ты забываешь о себе. Ты первый грамотный человек из Нярги, ты первый доктор. Если узнают о нас, тебе будет хуже, тебе не простят, твой поступок не забудут. Этого ты не знаешь, а я знаю, потому не ищу с тобой встречи. Тогда, в тайге, встретились случайно, сейчас нарочно вышла к тебе, но я тоже не хочу твоего позора, милый.
Мима встала и пошла к дому. Она ушла тихо и так же бесшумно, как пришла. Кирка повалился на дно лодки и глухо застонал.
— Любимая! Мима! Умница Мима! Как несправедливо жизнь поступила с нами!
Гром бубна смолк на краю стойбища, на востоке чуть поблекли звезды. Кирка вылез из лодки, умылся прохладной водой и побрел по ласковому песку. Утром его разбудил отец, он добыл крупного амура.
— Вставай, тала есть! Амуры стали в озера проходить, точи острогу.
— А в бригаду не берешь? — спросил Кирка.
Полевые работы кончились, рыба отнерестилась, и Калпе с бригадой вновь начал добывать амурский частик.
— Хочешь, поехали, места в неводнике хватит.
— Кирка, не уезжай из стойбища, — попросил Хорхой. — Когда ты будешь рядом, мы легче будем себя чувствовать.
— Что такое?
— Жена Кирилла не может родить со вчерашнего вечера.
«Вот почему шаманили», — вспомнил Кирка.
— Смешно получается, родить такой труд, — сказала Агоака. — Из-за этого Кирка должен сидеть в стойбище? Врешь ты все, ты хочешь, чтобы он с тобой, бездельником, играл в эту игру, которая на досках. Не слушай ею, Кирка, поезжай на рыбалку, кушай печеных карасей, ешь талу и уху. Не связывайся с ним, еще научит будущую жену избивать. Это он умеет.
— Тетя, ты меня заставишь застрелиться! — выкрикнул Хорхой, выбегая на улицу.
— Кто бы застрелился, да не ты! Ишь, напугал. Застрелится. Ружье-то забыл как держать, поржавело так, что не выстрелишь. Бездельник!
— Стоите вы друг друга, — засмеялся Калпе, потом спросил сына: — Как же ты будешь роды принимать, разве тебе разрешается?
— Когда человеку трудно, — разрешений не спрашивают.
— Тебя не пустят к ней.
— Это другое дело. Если не пустят, ничего не смогу сделать.
Кирка не поехал с бригадой отца на рыбалку. После завтрака он пришел в контору сельсовета. Шатохин поздоровался и спросил:
— Кирилл тебя не звал?
— Нет.
— А шамана приглашал, всю ночь шаманили.
— Что же ты разрешил? Ты же должен бороться с шаманами, так я слышал.
Шатохин вздохнул тяжело.
— Не знаем, с какого конца начать эту борьбу. Сидим, не трогаем этих шаманов, а они плодятся. Не трогаем их, а народ все равно уже ворчит, знает, что тронем.
— Не все же ворчат.
— Самые уважаемые, почитаемые люди — старики. Попробуй подними на них голос, все стойбище обрушится на тебя. А шаманы — старики.
— Бубны будем отбирать и сжигать, — заявил Хорхой.
— Надо с чего-то начинать, — опять вздохнул Шатохин и предложил: — Пока тишь да благодать, партишку, что ли?
Он вытащил шахматную доску, стал расставлять фигурки.
— Скоро дед вернется, — не обращаясь ни к кому, сказал Хррхой. — Коров привезет...
— Паутов проклятых соберется, — в тон ему продолжал Шатохин. — По стойбищу будут ходить коровы, бык будет реветь, собаки гам подымут...
— Ты что, Шатохин, правда, не любишь скот? — спросил Кирка.
— Правда.
— Родители занимались, а ты почему не любишь?
— Они привязывают человека к дому, к хозяйству, а мне люба свобода, чтоб я мог охотиться, рыбачить.
— Сейчас мог бы завести коровенку.
— В молодости не имел, сейчас не хочу. Давай начнем...
Кирка сделал с десяток ходов и вдруг заметил красивую жертву — ферзя. Рассмотрев этот вариант, он отдал ферзя за коня. Шатохин охнул и мигом схватил ферзя.
— Зевнул! Ну, теперь берегись, Кирка!
Кирка молча сделал тихий ход пешкой, потом пожертвовал коня за пешку, и тут только Шатохин заметил неизбежный мат.
— Как же так, Кирка, неужели нет выхода?
— Мне кажется, нет. Давай разберем...
В это время в контору вошел побледневший, осунувшийся Кирилл. Он мельком взглянул на доску и сел. — Кирилл, шамана позвал, почему не хочешь доктора звать? — спросил Хорхой.
— Старики все решают, — устало проговорил Кирилл.
— Может, Кирка посмотрит?
— Не хотят. Она слышать даже не хочет.
— Болонского доктора позовем.
— Болонского тоже не пустят. Дверь на крючок закроют.
— Только шаману верят?
— Да. Только ему...
— Я арестую этого шамана, на ночь здесь запру, — сказал Хорхой.
— Если с роженицей что случится, тогда что тебе скажут? — спросил Шатохин. — Ты это подумал?
— Чего думать? Шаман будет арестован, не к кому будет обратиться, они согласятся на помощь доктора.
— Пока шаман для них единственный помощник, если арестуешь его, лишишь помощника, а с роженицей произойдет беда — тебе плохо будет, хуже чем жену свою...
Шатохин, не закончив своей мысли, замолк.
— Хватит о жене! — закричал Хорхой. — Когда это кончится? Жена да жена, жена да жена...
— Не кричи, Кириллу самому надо думать. Очень плохо с ней? — спросил Кирка Кирилла.
— Плохо, — пробормотал Кирилл, — криком кричит. Чертей гоняли ночью. Она сильная, терпеливая, а стерпеть не может, сильно плохо. Позвал бы я тебя, да отец с матерью, сам понимаешь...
Кирилл ушел. В сельсовете воцарилась тишина. В шахматы играть никому больше не хотелось. Вечером, когда шаман, рыбачивший в колхозной бригаде, вернулся в стойбище, Хорхой пригласил его в сельсовет. Шаман пришел усталый, невыспавшийся и злой.
— Если ты пойдешь еще раз к Кириллу, — сказал Хорхой, — я тебя арестую и отправлю в район. Судить будут тебя.
— Разве я виноват? Пусть судят. Ты не пошел бы, если бы тебя на помощь позвали?
— Чем ты помогаешь? Почему она не рожает?
— Как могу, так и помогаю, тебе не стану рассказывать.
— Не ходи, сказал я.
— Как же не пойду, если позовут? Думаешь, мне легко? Всю ночь шаманить, потом день рыбу ловить, легко?
— Никто тебя не заставляет.
— Говорю тебе, зовут.
— Не ходи, откажись, позовут доктора.
— Если меня зовут, выходит, я нужнее доктора.
— Хватит! Если пойдешь еще раз, отберем у тебя бубен, все отберем и арестуем, — сказал Хорхой. — Умрет роженица, тюрьмы тебе не избежать.
— Чего ты меня пугаешь? Из-за людей я мучаюсь, сна не знаю. В тюрьму пойду. Не пугай.
Шаман зло сверкнул глазами, плюнул на пол и вышел.
— Собака! — выругался Хорхой. — Еще плюется.
— Неужели он сам верит так в свою силу? — удивился Шатохин.
— Верит, конечно! Надо за доктором послать. Сейчас же надо отправить сильных молодых гребцов.
Через час от няргинского берега отошел легкий трехвесельный неводник и стрелой устремился по течению. После полуночи он возвратился с болонским фельдшером. Хорхой с Шатохиным и Киркой не ложились спать, пошли к дому Кирилла, откуда доносился звух бубна. Дверь фанзы была заперта изнутри. На стук вышел отец Кирилла.
— Я шамана позвал, — заявил он, — не хотел он, я его умолил. Он не виноват, если хотите его арестовать, то прежде возьмите меня.
— Доктор приехал из Болони, женщину надо спасать, — перебил его Хорхой. — С шаманом мы успеем поговорить.
— Чего ее спасать? Отпустят злые духи — сама родит. Не отпустят, тогда кто спасет?
— Пропускай, доктор осмотрит.
— В темноте как осмотрит? В темноте одни шаманы могут, доктора ничего не сделают.
— У тебя лампы нет? — спросил Шатохин.
— Нет, мы жирником пользуемся.
— Я из сельсовета принесу лампу, — сказал Шатохин и исчез в темноте.
В фанзе не разговаривали, шаман не камлал, слышны были только стоны роженицы. Кирка будто видел ее прикушенные, побелевшие губы, расширенные от боли зрачки.
— Коллега, поможете мне ее осмотреть, — сказал фельдшер Бурнакин, человек уже в возрасте, предрасположенный к полноте. Он добродушно глядел в темноте на Кирку и чуть улыбался.
— Согласен, — ответил Кирка.
— Видно, тяжелый случай, коллега. Которые сутки мучается?
— Третьи, кажется.
— Боюсь, запоздали мы или такой тяжелый случай, когда мы с вами бессильны.
— Что, шаман один сильный? — беззастенчиво спросил Хорхой.
— Зачем так полярно противоположно ставить вопросы? Мы всегда считали шаманов и считаем своими врагами, они мешают нам работать.
— Я им покажу, как мешать, — пообещал Хорхой.
Возвратился Шатохин с большой десятилинейной лампой. Все вошли в фанзу, зажгли лампу. В фанзе находилось около десятка мужчин и женщин — родственников и соседей. Люди зажмурились от яркого света. Роженица лежала у двери на наскоро сколоченном топчане. Одета как все роженицы, в лохмотья, под ней охапка сухой травы. Шаман сидел на нарах и курил трубку, не обращая внимания на поднявшуюся суету. Доктор попросил всех покинуть фанзу, надел белый халат, вымыл руки и подошел к топчану. Женщина смотрела на него широко открытыми, усталыми и влажными глазами, губы ее были слегка приоткрыты, но не обкусаны, как представлял Кирка. Она тяжело дышала. Бурнакин долго осматривал и ощупывал ее, дал выпить какой-то порошок и отошел. Он не промолвил ни слова. «Хоть бы успокоил», — подумал Кирка. Он с первого взгляда на роженицу понял, что это то самое, о чем говорил Бурнакин, когда фельдшер не в силах что-либо сделать. Бурнакин вымыл руки, снял халат и положил его в портфель. Все он делал медленно, будто нарочно для чего-то растягивая время. Наконец открыл дверь и пригласил в дом Кирилла и его родителей.
— Осмотрели мы, можете шаманить, — сказал он.
Удивленный Кирилл уставился на него застывшими глазами и переспросил хриплым голосом:
— Ты сказал, шаманить можно?
— Да.
Бурнакин перешагнул порог. Кирилл взял за руку Кирку, спросил:
— Что это такое? Почему разрешает?
— Это его спроси. Он доктор...
— Скажи, Кирка, ответь...
Кирка шагнул за порог вслед за Бурнакиным. За ним вышел Кирилл и захлопнул дверь.
— Чего молчите? Говорите!
— Ты охотник, Кирилл, — сказал Бурнакин. — Сам знаешь, когда люди молчанием отвечают.
Бурнакин отвернулся от него и закурил. Кирилл застонал, как тяжелораненый, закрыл лицо обеими ладонями и побрел на берег Амура. Куда он мог пойти со своим горем, если не на Амур?
— Доктор, зачем разрешил шаманить? — спросил Хорхой.
— Молчи, Хорхой, — попросил Кирка.
— Как молчи? Почему молчи? Сам говорил, что шаман враг, и сам разрешает шаманить.
Бурнакин зашагал к сельсовету. Кирка пристроился рядом.
— Воды давно отошли, — сказал Бурнакин. — Только кесарево сечение спасло бы еще...
Хорхой с Шатохиным шли сзади.
— Завтра я покажу этому шаману, — бормотал Хорхой. — До чего дошло, сам доктор ему разрешает шаманить. Шатохин, завтра начнем воевать с шаманами.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
После смерти Майды притих большой дом Полокто, как все затихает в природе перед бурей. Дети Ойты и Гары тоже будто понимали напряженность в доме или скучали по любимой бабушке, примолкли, даже редко ссорились. Изменились отношения между женщинами. Гэйе и жены Ойты и Гары перестали разговаривать с младшей женой Полокто, не разрешали ей притронуться к чему-нибудь в хозяйстве; привыкшая к работе с малых лет младшая жена Полокто теперь оказалась без дела. Будь она искусной мастерицей, она нашла бы себе занятие. Молчали и мужчины. Вспыльчивый, несдержанный Полокто вдруг превратился в снисходительного доброго отца. Стал он необыкновенно добр к Гэйе, спал с ней чаще, чем с молодой женой.
— Не задабривай, отец Ойты, — говорила Гэйе. — В молодости за такие ночи я прощала тебе многое, а теперь зачем мне это, меня уже не так все тревожит. В этом доме теперь я хозяйка, как я скажу, так и будет. Ты знаешь...
— Я кто?
— Ты хозяин, но теперь я не стану тебя слушаться.
— Гэйе, нам немного осталось вместе жить, зачем ты затеваешь ссору?
— Впервые ты сказал правду, нам на самом деле осталось немного жить.
— Мы скоро уйдем вслед за матерью Ойты.
— Нет, мы разойдемся.
Гэйе почувствовала свою силу и была откровенна. Когда наступила пора взрыхлять землю и сеять семена, она с женщинами и детьми переехала на противоположный берег. За женами последовали Ойта с Гарой. В большом доме остались Полокто с младшей женой.
— Неужели так останемся одни? — спрашивала жена.
— А ты чего не рожаешь? — сердито спрашивал Полокго.
— Не знаю. Мне страшно одной...
Полокто тоже почувствовал тяжесть одиночества, и холодный страх змеей заползал в душу. К старости, к человеческой осени остаться одному, когда, казалось бы, всего он достиг?! У него большой дом, полный внуков и внучек, у него три лошади, наконец, у него было три жены. Все есть у Полокто, даже деньги, о которых он мечтал ночами — половина кожаной сумки серебра и меди. Всего добился Полокто, теперь бы ему жить спокойно, лежать в тепле между двумя женами, ласкать внуков и правнуков. Какая была бы прекрасная старость, если бы не смерть Майды. Будь она жива, все оставалось бы по-прежнему, дети не посмели бы бросить его, старого отца.
Только теперь понял Полокто, кем для него была Майда, теперь только разобрался, что весь дом держался на старшей жене. Заметались у него мысли в голове, как рыбы в ловушке. Распадается большой дом, распадается по его вине. Как тут пожалуешься, на кого? Какую попросишь помощь? Пиапон ответит, сам виноват, сам исправляй. А как исправлять? Удержать Гэйе? Удержишь ее, пожалуй, была она беспутной в молодости, осталась такой к старости. Что ей надо, зачем ей надо уходить из большого дома? Кто ее возьмет, старую? Худо-бедно, но прожили ведь немалую жизнь, и зачем ей покидать мужа? Бестолковая женщина. Надо удержать ее, не отпускать из дома, тогда, может, дети и внуки останутся. Нет, внуки уйдут, тут ничего не поделаешь. Нашло поветрие на молодежь разъезжаться по свету на учебу. Тут ничего не поделаешь, не удержишь. Это все колхоз виноват, потому что даже Калпе, дурак, на старости лет бросил рыбалку и охоту, пошел учиться на моториста. Колхоз виноват. Может, сыновья тоже из-за этого колхоза хотят дом покинуть? А что, если самому вступить в колхоз, может, и сыновья тогда останутся? Вступить в колхоз? А как лошади? Расстаться с мечтой, утопить мечту жизни в Амуре? Нет, Полокто еще не такой дурак, он что-нибудь еще придумает...
— Чего ты боишься, не бойся, — успокоившись, стал уговаривать молодую жену Полокто. — Ничего, большой дом стоял и будет стоять. Гэйе не уйдет, ей некуда уходить, дети и внуки тоже не покинут меня. Спи. Пока я живой, все будет как было...
В эту ночь на противоположном берегу бессонница одолела и Гэйе. Она сидела в темном хомаране и курила трубку за трубкой, думала о том же, о чем думал Полокто. Гэйе никуда не могла уйти из дома Полокто, она только пугала мужа, мстила ему, воспользовавшись сумятицей в семье. Никакой властью она не пользовалась в доме, не была хозяйкой, какой была Майда. Просто знала, что Ойта с Гарой рано или поздно покинут большой дом: они самостоятельные люди, старшие их дети уже поженились. Не станут они зариться на лошадей отца, уйдут в колхоз, потому что, кроме них, в Нярги уже нет единоличников, совестно им слушать, как их обзывают кулаками. Уйдут они из дома, и Гэйе останется с Полокто и его молодой женой. Как будет она жить с ними? Куда ей деться, куда уйти?
Гэйе боялась одиночества, как боялась своей старости. Слушала она храп Гары и думала, что хорошо было бы, если бы кто-нибудь из сыновей Полокто забрал ее, когда будут покидать большой дом: она привыкла к их детям, полюбила их детей. Жила бы она с ними, нянчила бы малышей, вышивала, помогала бы хозяйкам. Это было бы куда лучше, чем жить в пустом большом доме.
Так и не уснула Гэйе в эту ночь. Утром, когда проснулся Гара, она спросила:
— Когда уходишь из большого дома?
— Дом надо построить сперва, на улице не станешь жить.
— Говорят, в колхоз вступаешь?
— Верно.
Гара разговаривал со старшим братом о вступлении в колхоз, советовались они и с Пиапоном.
«Вступайте, фанзы построим всем колхозом, — ответил им Пиапон. — Если отец не разделит лошадей, оставьте ему, посмотрим, что он с ними будет делать».
— Вы умнее отца, чего же ждете? Только меня с собой заберите, я ведь все же бабушка вашим детям, — напомнила Гэйе.
— Бабушка, это верно. Только ты очень вредная.
— Вредная я для твоего отца, а не детям.
Гара ничего не ответил. Этот короткий разговор подхлестнул его заставил поспешить с осуществлением своего решения. Они с Ойтой в этот жз день вернулись в Нярги, встретились с отцом.
— Мы вступаем в колхоз, — заявили они.
— Вступайте, — к удивлению братьев спокойно ответил Полокто. — Я вас не держу.
— Когда идешь в чужой дом, надо с собой что-то нести.
— Несите.
— А что понесем? — спросил Гара. — Хозяйство надо разделить.
— Чего делить? Дом по бревнышкам?
— Нет, лошадей, — заявил Ойта.
— Лошадей, сын, не буду делить. Остальное все поделим. Два невода у нас, отдам один. Сети разделим на троих. Деньги разделим на троих, на них купите лошадей.
— Кому нужны твои деньги?
— Будут нужны, помянете мое слово.
— Нет, — одновременно ответили братья, — лошадей поделим.
— Лошадей не стану делить. Как дом станем делить?
— Живи в нем, мы как-нибудь, — спокойно сказал Ойта.
— Оставим тебе и твоих лошадей, — поддержал брата Гара.
— А где собираетесь жить?
— Где придется.
— Но я вас не гоню из дома, зачем уходить-то.
— Не можем, мы колхозники, а у тебя вон сколько лошадей да денег, ты богач, — усмехнулся Гара.
— Ты чего? — вдруг вскипел Полокто. — Решил поиздеваться, собачий сын? Над отцом издеваться решил? Я тебя, паршивец, породил, вскормил, а ты на старости решил плюнуть мне в лицо? Я тебе ничего не дам, ни сетей, ни лодок, ничего не получишь! Все отдам Ойте, а ты ничего не получишь! Над отцом издеваешься, гад! Собачий сын!..
В гневе Полокто преобразился, стал прежним, молодым и горячим; он неожиданно для самого себя размахнулся и ударял Гару в ухо. Гара пошатнулся, схватился за ухо и выбежал из дома.
— Мне ничего не надо твоего, — заявил Ойта и вышел вслед за братом.
— И ты такой! Ты тоже собачий сын, такими вас мать сделала. Уходите! Уходите в свой колхоз, он вам дороже отца! Твари, сучьи дети!
Долго еще ругался разгневанный Полокто, долго клял и бранил сыновей последними словами. В углу прижалась молодая жена и со страхом смотрела на него.
— Ты чего там спряталась? — накинулся на нее Полокто. — Они уезжают, а мы не можем уехать? Собирайся сейчас же, уезжаем немедленно.
— Что собирать?
— Что? Что? Все собирай. Нет, не все, бери самое нужное. Быстрее, быстрее шевелись!
Проворная женщина собралась быстро, и лодка Полокто вскоре уже качалась на амурской волне. Полокто сидел на корме, он несколько остыл и сам удивился своему решению. Куда он выехал — сам теперь не знал. Лодка плыла вниз по течению, и Полокто стал думать, куда бы ему заехать. В Малмыже, в Болони, в Туссере, в Нижнем Нярги нечего делать. Может, в Мэнгэн к отцу жены? А что? Скажет — в гости приехал. Счастливая мысль!
Вечером Полокто был в Мэнгэне. Тесть радушно встретил зятя.
— Тебе хорошо, по гостям разъезжаешь, — сказал он, — а нам переезжать надо. Колхоз в Туссере будет, вот и переезжаем туда, все вместе будем жить. Это даже хорошо, когда все вместе, люди сближаются. Да, у нас печальное дело, твоего друга Американа милиция забрала. Говорят, он ходил к орочам и продавал горсть фасоли за соболя. Вот как.
— Фасоль за соболя? Да кто поверит? — изумился Полокто.
— Да, так рассказывают. Так разбогател. Говорят, он обманывал орочей, избивал их, жен отбирал. Вот. А водку он доставал у хунхузов, с которыми в дружбе был.
— Хунхузы ведь далеко.
— Он ездил к ним. Наши-то сейчас только признались, что лодками привозили водку из Хабаровска. Там они на островах прятались, а ночью к ним приезжали с водкой какие-то люди, с которыми Американ говорил только по-китайски. Вот так. Забрали нашего Американа, а мы жили рядом и ничего не знали. Милиция далеко, но все знала. Удивительно.
— Деньги его тоже забрали?
— Нет, денег не нашли. Но у него много было денег, он нам показывал шкатулки, полные золотых. Ох, много было их, глаза наши слепли. Он их закопал где-то, даже милиция не знает где. Никто не знает. Американ не вступал в колхоз и нас отговаривал, теперь я понял почему. Ему, богатому, зачем колхоз? Вот и ругался он с вашим зятем, Пячикой-то — нашим председателем, которому Пиапон-то, твой брат, без тори отдал дочь. Вот я и думаю, копил он деньги, копил, богатым стал, а зачем? Чтобы закопать в землю, что накопил?
— Не знал он, что советская власть придет.
— Какая бы власть ни была, к чему богатство? Пить, есть — в достатке, и хватит. Вот. Как там Пиапон живет? Вот умный человек...
Полокто не терпел, когда при нем расхваливали брата.
— Живет, умничает, что с ним будет, — ответил он жестко.
— Ты в колхоз не вступил еще?
— Дети вступили, а я подожду.
— Твое дело.
Известие об аресте контрабандиста Американа ошеломило Полокто. Всю свою жизнь он верил слухам о талисмане богатства, якобы найденном Американом на берегу реки, подтверждал это и его друг Гайчи. На самом деле все это оказалось брехней, просто ловкач Американ надувал людей, а прикрывался этим талисманом.
Тесть собрал последние вещи и на второй день стал переезжать в Туссер. Полокто, подумав, выехал в Джуен, где, он слышал, не очень-то ладилось с колхозом. Он надеялся найти такое стойбище, где не было бы колхоза и куда он мог бы переехать, бросив большой дом.
Через день он обнимал сестру Идари, Поту и племянника. Здесь он тоже заявил, что приехал в гости.
— Погости, погости, — сказал Пота. — А у меня столько дел, даже к вам некогда заехать. Только в Вознесенске встречаюсь с Хорхоем да отцом Миры. Зря ликвидировали наш Болонский район. Когда районные начальники были в Болони, все было рядом. Правильно люди говорят, что надо восстановить Нанайский район...
«Что он болтает? — думал Полокто. — Хочет себя показать большим начальником, что ли? Неужели не о чем больше поговорить?»
— Сколько уже тянется разговор о школе, — продолжал Пота. — Во всех стойбищах открыли школы, а нам не хватает учителя. Всем хватило, только нам не хватает. Вот и выходит, что джуенские дети неграмотными остаются. Во всех харпинских стойбищах тоже неграмотные. Безобразие. Хорошо, что надоумили умные люди и сами помогли написать письмо в Москву Калинину. Помог старик Калинин, присылают нам учителя. Мы уже строим большую фанзу под школу. Теперь надо ехать в Харпи, собрать всех ребятишек, пусть учатся, нечего оставаться им неучами. Ты слышал? Мы для колхоза купили две лошади, да Токто для своего колхоза купил одну, пешком из Болони вокруг озера идут. Купили мы еще быка и корову. Не отстали от амурских колхозов. Отец Миры сколько коров купил?
— Не знаю, я не колхозник, не мое это дело, — сердито ответил Полокто.
— Никуда не денешься, все равно будешь в колхозе.
«Этот тоже принялся трясти меня, — думал Полокто. — Никуда от этого колхоза не денешься, видно. Если перееду в Хулусэн, что тогда? Оттуда тоже все бегут, один останешься в стойбище, это куда хуже пустого дома».
— Токто бежал из Джуена от русоголовой Нины, а на Харпи пришлось самому колхоз организовывать. Теперь даже лошадь купил. Только школы там не будет, откроют тут, в Джуене. Все равно колхоз Токто переберется сюда...
«Колхоз да колхоз, неужели у него нет других забот? — думал раздраженно Полокто. — С ума свихнулись на этом колхозе. Пиапон в Нярги, Пота тут в Джуене, Пячика в Туссере. Раньше были охотники, рыбаки, говорили об охоте, рассказывали интересные случаи, а теперь колхоз да колхоз, будто свет сошелся клином на этом проклятом колхозе».
— Перестань, может, ага не хочет слушать о твоих делах, — наконец заступилась за брата Идари. — Расскажи о Богдане.
— Да, Богдан-то наш женился...
— Скажи лучше, увел чужую жену.
— Как увел? — возмутилась Идари. — Сидя в Ленинграде, увел чужую жену из Джуена? Ага, у тебя голова не болит?
— Не болит. Знаю о Богдане все, он там, наверно, тоже только про колхоз говорит. Я слушать не хочу.
— Куда денешься? — жестко спросил Пота. — Наступила новая жизнь, ты от нее даже на дне Амура не спрячешься. Я тоже слышал про тебя все. Жизнь пересилит тебя, запомни это. Колхозы скоро крепко встанут на ноги. На месте отца Миры я тебя потом не принял бы в колхоз.
«Так и пойду проситься, ждите, — думал Полокто. — Когда еще встанете на ноги? Одни слова голые, сами себя морочите...»
Ночь только переночевал он в Джуене, наутро выехал обратно в Нярги. «Куда мне из Нярги уезжать? — думал он, сидя на корме лодки. — Родился там, отца, мать похоронил. Жену закопал. Как покинуть его? Нет, мне из Нярги никуда не уехать, буду терпеть все, молчать буду».
Поздно вечером он пристал на своем берегу. Большой дом мрачной глыбой чернел в центре освещенного стойбища. Сердце Полокто гулко застучало, ноги ослабли. Вытащив лодку, он сел на нее и закурил.
— У нас нет огня, — сказала жена.
Полокто молча зашагал домой. Дверь дома была подперта палкой, так делают, когда уезжают из дома надолго. Полокто отбросил палку и вошел в дом. В нос ударило сыростью, нежилым запахом мокрой глины.
— Они ушли, — прошептала молодая женщина.
Ага — брат (нанайск.).
— Пусть, плакать не будем.
— Мне страшно.
— Чего боишься, я ведь рядом.
— Мне страшно, отец Ойты, я не могу здесь ночевать, переночуем на улице, я сейчас накомарник натяну.
— Это еще что? Дом свой, а я на улице буду спать. Что придумала.
— Мне страшно, отец Ойты! Пощади меня, я боюсь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Утром в контору явился бледный, похудевший Кирилл. В конторе уже были Хорхой с Шагохиным и Кирка с Бурнакиным. Они встретили посетителя напряженным молчанием.
— Доктор, помоги, умирает жена, — тихо попросил Кирилл.
— Чего теперь просишь? — зло проговорил Хорхой. — О чем раньше думал? Сколько тебе говорили, вези в Болонь, вези в Болонь, а ты что отвечал? Шамана позвал, пусть теперь шаман тебе поможет! Эх ты, а еще комсомолец! Жену угробил.
Кирилл молчал.
— Ничем теперь я не могу помочь, Кирилл, — сказал Бурнакин. — Прав председатель, надо было сразу ее ко мне привезти, тогда мы еще успели бы ей помочь. Ты знаешь ведь, в селе Пермском молодые люди начали строить город. У них там есть большой доктор, хирург называется, он мог помочь. А ты больше шаманам веришь...
— Все! Хватит жить на этом свете шаманам! — стукнул но столу кулаком Хорхой. — Из-за них люди умирают, которых можно было бы спасти. Все! Начнем с ними воевать.
— Не горячись, председатель, — сказал Бурнакин, — такие дела не делаются в спешке. Ну, отберешь у них бубен, а им разве трудно новый изготовить?
— Я их в милицию отправлю!
— Арестуешь?
— Этого шамана, который погубил жену Кирилла, арестую. Есть решение исполкома бороться с ними.
— Бороться это еще не арестовывать. Бороться нужно убеждением, а для этого у тебя нервов не хватает.
— Не надо убеждать, их надо уничтожать, как уничтожили капиталистов, буржуев и всяких царей с торговцами, попов.
— Попов не уничтожили, председатель, а отделили церковь от государства. Тебе это понятно?
Хорхой ничего не понимал в таких высоких материях, он надеялся на свою интуицию, на свою охотничью убежденность.
— Понимаю, чего не понимать, — с вызовом ответил он. — Правильно сделали. Я тоже так же сделаю, отделю шаманов от людей, всех сошлю в Хулусэн, пусть в этом шаманском гнезде они одни живут. Понял, доктор? Я тоже отделю их от людей.
— Неправильно, председатель, на такое дело тебе по шее дадут, — жестко проговорил Бурнакин. — Ты лучше съезди в Вознесенское, в райисполком, и посоветуйся с начальством.
— Ты не пугай меня, доктор, скажи лучше, нельзя, что ли, всех шаманов в Хулусэн выслать?
— Нельзя.
— Если нельзя, так нельзя, чего-нибудь другое придумаем. А ты сразу — по шее, по шее. Зачем так? Я придумаю.
Хорхой много думал, советовался с Шатохиным, Киркой. После похорон жены Кирилла он собрал комсомольцев и тех молодых, которые готовились стать комсомольцами.
— Плохо мы работаем, совсем ничего не делаем, — заявил он им. — Называемся комсомольцами, первыми людьми, а не идем мы впереди. Наоборот, отстаем, плетемся за стариками, слушаемся их и губим своих жен. До каких пор мы, комсомольцы, так будем жить? Стыдно. Мы потеряли нашего товарища, жену Кирилла. Умерла она потому, что отец и мать Кирилла верили шаману больше, чем Бурнакину. Вот видите. Шаману больше доверия, чем доктору! Стыдно! Сколько еще эти шаманы будут мешать советской власти, мешать советским докторам работать? Долой шаманов! Долой их бубны, гисиолы и янгпаны! Долой всех сэвэнов! Мы сейчас организуем против них боевой поход, будем отбирать всех сэвэнов, соломенных, деревянных, каменных. Я помню, раньше, когда малмыжский поп приезжал, все прятали сэвэнов, и поп их не находил, но от нас не спрячешь. Мы с ними по-советски, по-комсомольски справимся. Все поняли, что я сказал?
— Понятно, — неуверенно ответило несколько голосов.
— Нет, не понятно! — воскликнул Почо, младший сын Холгитона. — Непонятно. Как я пойду против матери и отца старого? Каждый знает, что в каждом сэвэне по одной болезни матери или отца. Как я возьму этих сэвэнов, как сожгу, как накликаю беду на старых родителей? Ведь к ним возвратятся все болезни. Нет, сам я не трону этих сэвэнов.
— Ты не комсомолец! Если ты веришь шаманам, а сэвэнов делали шаманы, ты не комсомолец! — грозно закричал Хорхой.
— Комсомолец не комсомолец, все равно не трону.
— Кто лучше тебя знает, где спрятаны сэвэны? Никто. Потому ты сам должен их вытащить.
— Чужие вытащу, а своих родителей — не трону...
Молодые няргинцы примолкли, многие теперь только поняли, какую беду могли они навлечь на людей, болезни которых надежно охраняли сэвэны; у некоторых старых людей по десятку насчитывается этих сэвэнов. Да и у самих комсомольцев имелись собственные сэвэны.
— Струсили? Чего молчите? — обратился Хорхой к притихшим молодым людям. — Выходит, когда мы вступали в комсомол, то обманывали, верили в эндури, в шаманов и пролезли в комсомол? Ну, пойдете громить сэвэнов? Или мне с Шатохиным и Киркой идти?
— Не горячись, дай людям подумать, — сказал Кирка.
Долго молчали комсомольцы. Хорхой не мог усидеть на своем председательском месте, стал нервно расхаживать возле стола.
— Хорхой, я предлагаю так, — наконец начал Нипо. — Эти болезни, что в сэвэнах, говорят, сразу возвращаются к болевшим, как только что случится с сэвэнами. Я предлагаю сперва проверить, правда это или нет. Возьмем сейчас чьего-нибудь сэвэна и сожжем и будем наблюдать, заболеет хозяин или нет.
— Оградиться хочешь?
— Проверить хочу. У меня есть три сэвэна, тремя болезнями я болел, предлагаю их сжечь. А там посмотрим.
«Приносит себя в жертву, — неприязненно подумал Хорхой. — Мне надо было себя сразу предложить. Нет, нельзя это дело из рук выпускать».
— Не надо твоей жертвы, — сказал он. — Я сейчас выпотрошу всех наших сэвэнов, сам сожгу. Вас всех прошу, чтобы о нашем разговоре здесь ни одна душа не знала, потому что когда вы поверите, что сэвэны обман, просто солома, кусок дерева, тогда мы начнем потрошить всех сэвэнов в стойбище. Я наших домашних сэвэнов буду сжигать тут. Ждите меня.
Хорхой вышел из конторы и бодро зашагал домой, но чем ближе он подходил к дому, тем уже становился его шаг: в глубине души он сам верил в силу сэвэнов, эту веру в него вбивали с пеленок. Дома он подозвал мать в сторонку и тихо сказал:
— Сэвэнов всех возьму, сожгу.
— Ты что это? Чего вздумал? — возмутилась было Исоака.
— Тихо! Я председатель, должен пример показать. Мы с шаманами начнем войну, уничтожим их.
— Ой, сынок, ой, беда какая! Да как же так...
— Тихо. Я забираю всех сэвэнов.
Хорхой вытащил из-под нар две искусно связанные из сухой травы собачки.
— Может, оставишь? — попросила Исоака. — Это же твоего сына, животик болит часто.
— Если заболит, Бурнакина позовем. Плохо будет, повезем в город, который начали строить, там есть большой доктор, хирург называется...
Хорхой вынес травяных сэвэнов на улицу, вслед за ним шла мать. Она за сыном поднялась в амбар. В одном из углов лежали в куче деревянные бурханы, здесь же стоял каменный дюли Баосы, которого старик избивал за то, что он не излечивает его поясницу. Хорхой взял первого бурхана, но мать схватила его за руку.
— Это мой сэвэн, сынок, я животом все страдаю. Не трогай, сын, очень прошу тебя.
— Мама, я председатель, поняла? Я пример должен показать. Ты моя мать, мать председателя, ты тоже должна пример показать. Если заболит живот, терпи, не говори другим. Кирка тебя вылечит.
— Боязно, сын, ох, как боязно.
Хорхой вышвырнул сэвэнов в дверь амбара.
— А эти сэвэны отца.
— Ему они уже не нужны, — и Хорхой с легким сердцем начал швырять сэвэнов одного за другим.
— Эти твои.
— Пусть сгорят, посмотрим, что будет.
— Этого не трогай! У тебя на спине вон какие шрамы от страшной болезни. Эту болезнь никто не излечивает, тебя случайно спасли.
— Если тогда случайно спасли, сейчас меня главный доктор спасет.
Под амбаром лежало больше двадцати сэвэнов, изображавших собак, таежных зверей, птиц, драконов и людей. Любопытные ребятишки боязливо, со стороны разглядывали их. Они знали, что в сэвэнах заключены всякие страшные болезни и притрагиваться к ним нельзя.
А Хорхой, разбросав своих сэвэнов, нерешительно остановился перед каменным дюли, главным хранителем большого дома. Каменный человечек воскресил в памяти далекое солнечное детство, сурового деда Баосу, и рука у Хорхоя не поднималась на него.
— Этого дюли запрячь ночью, чтобы никто не видел, чтобы никто не нашел, — прошептал он матери.
Хорхой связал сэвэнов, как вязанку дров, и понес в контору сельсовета. Первая же женщина, увидевшая его с необыкновенной ношей, юркнула в магазин, и оттуда гурьбой вывалили покупательницы.
— Хорхой, сельсовет, что ли, будешь топить ими?
— Сынок, не балуйся таким делом. — Хорхой, это тебе не жену избить...
Председатель сельсовета на этот раз молча прошел мимо магазина. Возле сельсовета его ждала толпа любопытных. Хорхой бросил сэвэнов, развязал деловито веревку, сложил деревянных сэвэнов, как складывают дрова для костра, подсунул под них травяных и поджег. Сухая трава весело загорелась, красные языки полоснули бока идолов, и вскоре сухие деревяшки с треском разгорелись.
— Подходите, грейте руки, — пригласил стоявших поодаль молодых няргинцев Шатохин.
— Чего боитесь, подходите, — повторил приглашение Кирка.
Молодые осторожно, боязливо стали подходить.
— Дрова есть дрова, — сказал Хорхой. — Здесь три моих сэвэна горят, остальные матери, отца, жены и детей — запомнили?
— Да не хвастайся ты сильно, — вспылил Почо, — будто мы не можем своих сэвэнов сжечь! Я говорил о сэвэнах отца и матери. Ты сам знаешь, какой наш отец верующий. Жалко его, еще от горя заболеет.
— Ладно болтать, — перебил его Хорхой. — Завтра утром всем собраться здесь. Я запомнил, кто сегодня присутствовал тут. Поняли?
В этот день все стойбище говорило о сожжении Хорхоем сэвэнов, все стойбище ожидало новых событий. Догадливые старики поспешно перенесли в укромные места самых дорогих идолов, запрятали так, чтоб ни один человек их не разыскал. Шаманы припрятали бубны, гисиолы, янгпаны. За ними самими, по поручению Хорхоя, присматривали комсомольцы. Контора сельсовета превратилась в штаб борьбы с шаманами и сэвэнами. Тут находились Хорхой, Кирка, Шатохин, Нипо, Кирилл в другие комсомольцы.
— Не слишком ли жестко мы поступаем? — спросил Кирка.
— Жестко? Попробуй поговори с ними по-другому, — ответил тут же Хорхой. — По-другому нельзя. А шаманов всех предупредим, что, если возьмутся за прежнее, голову оторвем.
— Так и оторвешь, — усмехнулся Шатохин.
— Ты не лезь, я тебе уже говорил. Ты завтра придешь в контору и сиди. Здесь твое место. Если ты пойдешь отбирать сэвэнов, всякие разговоры пойдут.
— Я секретарь сельсовета...
— Знаем. Но ты русский, понял? Если ты, русский, отберешь сэвэнов, люди всякое могут придумать. Нельзя этого допускать, мы, налай, сами будем справляться с нанайской религией — шаманами. Ничего тогда не придумают, ничего против русских не станут говорить.
Утром в назначенное время около конторы собрались комсомольцы и молодежь. Хорхой разбил их на группы, и они разошлись по стойбищу. Сам председатель направился к шаману, камлавшему в доме Кирилла.
— Отдай бубен, гисиол и янгпан, — заявил он, переступив порог фанзы.
Шаман сидел на краю нар, поджав под себя ноги, и невозмутимо курил трубку.
— Мог бы я тебя сейчас арестовать и отправить в тюрьму, — продолжал Хорхой. — Ты виноват в смерти роженицы, но на первый раз не буду арестовывать, а если еще раз хоть единожды ударишь по бубну — тебе не жить больше в Нярги. Понял?
— Понять-то понял, — тихо ответил шаман, — только одного не пойму, как это при советской власти перестали уважать молодые старших, даже не поздороваются, когда входят в дом.
Хорхой опешил — и правда, он не поздоровался с хозяином дома, какой бы ни был враг, но он старый человек.
— Забыл, дака, слишком сердит был на тебя, — неожиданно для самого себя пробормотал Хорхой. — Ты шаман, я должен с тобой бороться, об этом только думал, все остальное забыл. Должность у меня такая, дака. Ну, отдавай советской власти бубен и все остальное.
— Тебе все теперь позволяется, потому сам заходи в амбар и забери, что надо. Все там находится.
Хорхой разыскал в амбаре бубен, гисиол, янгпан и больше десятка бурханов. Бубен был старый, а должен быть еще новый, недавно подаренный шаману молодым охотником Кочоа из Болони. Кочоа приехал свататься в Нярги да попал на камлание случайно, вот и пришлось ему по древнему обычаю привезти шаману шкуру косули на новый бубен.
— Где новый бубен? — спросил Хорхой, вернувшись в фанзу.
— Нету у меня никакого нового бубна, — спокойно ответил шаман.
— Есть бубен, это знает все стойбище. Где бубен?
— Если нет в амбаре, выходит, у меня нет другого бубна.
— Шаманить собираешься? Так. Все понятно. Уважения от меня хочешь? Так. Получишь уважение. Сейчас весь дом переверну, но бубен твой найду. А ну-ка, слезай с нар! — вдруг заорал Хорхой.
Шаман послушно слез с нар и встал посередине фанзы, опершись на средний столб. Хорхой залез на нары, переворошил постель, сложенную стопкой. На самом низу лежал новенький бубен. Обозленный Хорхой взял его в обе руки и ударил об колено: бубен, загрохотав, лопнул, оглушив точно ружейным выстрелом.
— Будешь у меня шаманить, старик! Я тебе пошаманю. Ишь, вежливости еще требует, да тебя надо...
— Если заболеешь какой болезнью смертельной, не обвиняй меня и злых духов, — тихо проговорил шаман. — Все духи против тебя ополчились. Запомни.
— Ты меня пугать вздумал, старик! Советскую власть пугать? Комсомол пугать? Да я тебя, нанайского попа, так отделю от народа, что белого света не увидишь. Это запомни тоже.
Злой Хорхой ворвался к другому, начинающему шаману, разворошил постель, перевернул все в амбаре.
— Ты собака, Хорхой! — кричала жена шамана, веря в свою неприкосновенность. — Ты капиталист, ты буржуй, ты хуже малмыжского бачика, ты хуже царя!
Бедная женщина перечисляла всех известных ей угнетателей старого времени, ставших теперь синонимами ругательства, оскорбления.
— Где бубен? — тем временем наседал Хорхой на шамана. — Развелось вас, гадов, как червей после дождя. Где, спрашиваю, бубен?
— Не успел я еще сделать. Не успел.
— Нет у него бубна, собака! Уходи! — кричала жена.
С двумя шаманскими бубнами, с гремящим янгпаном шел по стойбищу Хорхой к сельсовету. Возле одной фанзы билась старуха в припадке, Хорхой отвернулся было, но его схватила костлявая старушечья рука.
— Ты не отворачивайся, собачий сын! Ты не отворачивайся, сын росомахи! Выпучи глаза, погляди на свое дело. Она не болела падучей уже двадцать лет, мы даже позабыли, когда болела она в последний раз. Погляди, погляди, собака! Ты отобрал, ты сжег ее сэвэна!
Хорхой вырвался и зашагал дальше под аккомпанемент янгпана. Издали он увидел высокий огонь костра. Кто-то топором колол длинного, в натуральную величину собаки, идола, другой зачем-то вколачивал бурхана в песок.
— Ребята, это хулиганство! — кричал на них Кирка.
Но развеселившиеся юноши не слушали его, продолжали свое дело. Со всех сторон несли новых идолов и бросали в огонь. Тут же стояли пожилые охотники, старики. Был и Холгитон.
— Хорхой, когда малмыжский бачика издевался нал нашей верой, за нас заступался твой учитель Глотов-Кунгас, — сказал он. — Теперь кто будет заступаться?
— Никто, — ответил Хорхой и бросил шаманские бубны в огонь, за ними загремел янгпаи. — Шаманам объявлена война, и все шаманское мы уничтожим.
— Ты, Хорхой, хуже малмыжского бачика, он был царский бачика, капиталист, — сказал Оненка. — Ты хуже бачика, хуже царского капиталиста. Жандарм ты, — ловко нашелся он.
— Грамотный ты, хотя читать, писать не учишься, — огрызнулся Хорхой.
— Тебе за все придется отвечать.
— Перед кем отвечать?
— Злые и добрые духи на тебя обозлены, они нашлют на тебя всякие болезни.
— А я...на них, понял? Ты знаешь, что город строится там, где озеро Мылки? Молодые люди строят его. Там главный доктор — хирург есть, болгарин по национальности, он все болезни излечивает. Понял? А ты пугаешь меня дохлыми духами.
— Тебе советская власть приказала, чтобы ты мирных, никому не мешающих сэвэнов сжигал? — спросил Холгитон.
— Да, советская власть.
— Тогда это не моя власть, — неожиданно для всех заявил старик.
— Вот какой ваш отец, — обратился Хорхой к стоявшим тут же Нипо и Почо, — он против советской власти. Кто он? Враг?
— Ты, щенок, молчи, — рассердился Оненка. — Тебя царские солдаты не секли шомполами по голому заду!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
После погрома сэвэнов во многих домах произошел семейный разлад, родители осерчали на детей, принимавших участие в погроме: одни отхлестали взрослых сыновей, другие выгнали из дому, третьи просто перестали их замечать. В стойбище начались повальные заболевания, ко всем вернулись старые болезни, но странно: эти болезни охватили только старшее поколение няргинцев, да и то в основном старух, которым нечего было делать; «заболели» было несколько стариков, но на следующий же день поднялись, потому что надо было ловить рыбу, кормиться.
Хорхой обходил больных старушек и сочувственно спрашивал:
— Дада, что болит?
— Ты виноват, ты один виноват будешь в моей смерти, — отвечали старушки, и слезы текли по их лицам.
— Может, Кирку позвать, он будущий доктор.
— Уходи, уходи со своим Киркой вместе.
— Ладно, тогда приглашу из Болони Бурнакина.
— Не зови его, не стану я раздеваться, не разрешу меня прослушивать трубкой.
— Если до вечера не поднимешься, позову.
Угроза действовала, у многих старушек хворь улетучивалась, поднимались они на ноги и принимались хлопотать по хозяйству.
А охотники толпой явились в контору сельсовета.
— Что же это, молиться, выходит, совсем нельзя? — спрашивали они. — На рыбалке нельзя, на охоте нельзя?
— Нигде нельзя, чепуха все это, — отвечал Хорхой.
— Какая будет удача без молитвы? Заезок в Болони ставили и то молились. Ты, Хорхой, молодой, мало охотился, потому не понимаешь. Без молитвы нельзя, удачи не будет и колхозный план не выполним. Понимаешь это? Государственный план не выполним.
— Токто, названый брат Поты, говорят, никогда не молится, только покрикивает на хозяина тайги, ругает его последними словами, а охотника лучше его не найдешь.
— Это же Токто! Тоже сравнил нас с ним...
Во время этого разговора Холгитон неожиданно заявил:
— Вы тут всех сэвэнов пожгли, у всех шаманов отобрали бубны, у некоторых пиухэ посрубали, а почему не съездите в Хулусэн, не отберете священный жбан, не отберете бубен и шапку с рогами у великого шамана Богдано?
При упоминании о великом шамане Хорхой почувствовал, как холодок пополз по спине, ноги почему-то дернулись, хорошо, что никто этого не заметил. Хорхой с малых лет боялся своего деда, великого Богдано. Он даже в мыслях не мог представить, как отберет у него бубен и шапку с рогами, как станет покрикивать на него, требуя священную одежду. Нет, все, что угодно, сделает Хорхой, но только не поедет в Хулусэн.
— Хулусэн — это меня не касается, — неожиданно нашелся он, — наш сельсовет не затрагивает Хулусэн. Верно я говорю, Шатохин?
— Верно. Наш сельсовет охватывает Нярги, рыббазу, Корейский мыс и лесопильно-кирпичный завод, — ответил Шатохин.
— Вот, слышали?
— Нет, не слышали! — повысил голос Холгитон. — Я погорячился тогда, когда сказал, что советская власть — не моя власть. Обиделся просто. Советская власть — это моя власть, я за нее до конца жизни буду стоять. Ты, Хорхой, врешь, ты не хочешь свой заксоровский священный жбан трогать, ты не хочешь отобрать бубен у своего деда. Думаешь, мы не понимаем?
— Правильно! Пусть едет, пусть попробует выпотрошить великого шамана. Это ему не сэвэнов сжигать...
— Священный жбан отберут, не беспокойтесь, бубен и шапку с рогами у великого шамана тоже отберут, это сделают районные начальники, на это у них есть власть, — попытался отвертеться Хорхой.
— Нет, раз ты такой храбрый, сам поезжай, сам отбирай!
— Против нас ты храбрец, ты там себя покажи!
— Сказал я вам, не имею права, не моя земля! — вдруг рассердился Хорхой, чувствуя свою беспомощность.
— Тогда комсомольцы твои пусть отбирают. Им-то все равно, чья земля.
Хорхой облегченно вздохнул и сказал:
— Комсомольцы — дело другое, им все равно, а мне нельзя на чужой земле распоряжаться.
— Вот и посылай своих комсомольцев!
После этого разговора Хорхой, собрав своих активистов, заявил, что надо конфисковать священный жбан, обезоружить великого шамана. Храбрецы-активисты на этот раз молчали, будто языки им кто пообрезал.
— Чего молчите? — спросил Хорхой. — Почо, ты говорил, что у любого отберешь сэвэнов, кроме своего отца.
— Так это я говорил про наших няргинцев, а тут ехать в Хулусэн, да еще к великому шаману...
— Великий, простой — не все ли равно? — заявил Кирка. — Шаман есть шаман, бороться, так бороться с ними.
Хорхой с благодарностью взглянул на двоюродного брата. Заседание активистов оборвал катер с халками, приставший к Нярги. Это вернулся Пиапон с бухгалтером и Митрофаном. Комсомольцы повскакали с мест и побежали на берег. Все няргинцы высылали встречать первых коров.
— Эй, люди, лучше подальше будьте! — закричал Митрофан.
— Злых зверей привез, что ли? — спросили с берега.
— Уходите подальше! — закричал и Пиапон. — Детей и женщин по домам гоните.
— Кого ты такого страшного привез?
— Быка. Подсунули, черти, нам свирепого быка.
Детей и женщин загнали по домам. Остались на берегу старики, молодые и средних лет охотники, но и они содрогнулись, когда на берег вышел огромный густо-красный бык с налитыми кровью глазами. Вышел этот зверь, огляделся по сторонам и заревел так, что у всех мурашки поползли по спине. Потом бык стал бить передними ногами мокрый песок, вырыл яму.
— Видели, какой красавец, — смеялся Митрофан.
— Много мяса!
— Он вам покажет мясо.
И бык поспешил показать свою натуру. Когда вышли на берег коровы и телки, их окружили собаки, подняли оглушительный лай. Бык пригнул могучую шею и пошел на собачью ораву.
— Ну и зверь! Не боится собак, — восхитились охотники.
Собаки одна за другой отскакивали от быка. Но охота на зверя была знакомым им делом. Только они удивлялись, наверное, почему охотники не добивают остановленного ими зверя. Бык шел на них напролом. Опытные собаки набросились на его задние ноги, и пришлось быку остановиться и кружиться на месте. Опоздавшие собаки, услышав гвалт, набежали со всех сторон.
— Уймите их! Загрызут! Убыток какой! — кричал бухгалтер.
— Разгоните! — встревожился и Митрофан.
— Мясо будет, — отвечали охотники. — Пусть он докажет свою силу и ловкость.
Собак собиралось все больше и больше. Бык тараном шел в самую их гущу и бодал, бодал впустую. Он стал заметно уставать, с задних ног уже текли струйки крови.
— Разгоните их! — закричал Пиапон.
В это время бык боднул в собачью гущу, и все ахнули — на острых рогах с отчаянным, смертельным визгом взлетела молодая сука. Бык круто повернулся и начал топтать жертву.
— Настоящий зверь! Да он людей поубивает.
— Вот женщинам и детям беда явилась.
— Теперь в Нярги два страшилища: Хорхой и бык!
Охотники засмеялись, схватили с лодок шесты и побежали разгонять разъярившихся собак. С катера сошел Пиапон, его гут же окружили старики.
— Ты нам новую беду привез, — сказал Холгитон.
— А старая какая? — засмеялся Пиапон.
— Хорхой твой! — хором ответили старики.
— Какая же беда — Хорхой? Он председатель.
— Обидел он всех нас, отобрал сэвэнов и пожег.
— Проезжал я сейчас стойбища, везде сэвэнов жгут, надоели они людям. Место только занимают в амбарах. Пожгли так пожгли, теперь не восстановишь. Надейтесь на доктора.
— Что твой доктор, не смог он спасти жену Кирилла. Умерла.
— Шаман тоже не спас, — возразил кто-то из стариков.
— Так что же, отец Миры, Хорхой прав? — спросил Холгитон.
— Советская власть решила покончить с шаманами, он исполняет ее волю.
— Но зачем они издевались над сэвэнами? Зачем рубили, кололи, в песок вбивали. Зачем?
— Этого я не знаю. Озорничали, наверно. Плохо это.
Охотники шестами разогнали собак, и бык благодарно глядел на них своими налитыми кровью глазами.
— Смотри, Пиапон, за мной едут, — сказал Митрофан.
Снизу поднимался трехвесельный неводник. Когда лодка подошла ближе, все увидели сидящих посередине двух русских женщин.
— Учительница или доктор, — гадали няргинцы.
Неводник пристал возле катера. Две женщины, одна молодая, другая пожилая, видать, мать с дочерью, выжидательно смотрели на встречавших. Первой поднялась дочь, осторожно переступая через вещи, вышла на берег. Длинное городское платье плотно облегало ее тонкую изящную талию. Она откинула назад платок с головы, и открылся ее чистый, высокий лоб, белокурые волосы.
— Здравствуйте, — сказала она грудным мягким голосом.
— Здравствуйте, — ответили охотники вразнобой.
— Я учительница.
— Красивая она, — сказал Митрофан по-нанайски Пиапону и спросил по-русски: — Язык их знаете?
— Нет, не знаю.
— Ничего, выучите.
— Постараюсь.
Подошли молодые охотники, среди них Хорхой, Кирка.
— Хорхой, тебе определить ее на житье, — сказал Пиапон.
— Куда ее, в комнате Лены двоим тесно, разве в дом отца Ойты, — задумался Хорхой.
— Пустит он, жди, — сказал кто-то.
Хорхой пошел к Полокто на переговоры. Вскоре он вернулся, и молодые охотники начали перетаскивать вещи учительницы. Среди знакомых охотникам вещей им попалась непонятная коробка с большой трубой.
— Граммофон, — объяснил им Кирка. — Сами услышите.
— Объясни, трудно, что ли, объяснить, — приставали к нему.
— Играет, поет, сами услышите.
— Совсем зазнался этот Кирка.
Привезла молодая учительница небольшую библиотечку, школьные принадлежности, гитару, мандолину, что тоже было незнакомо няргинцам. Кто-то побренчал струнами, и всем понравились звуки, исторгнутые инструментами. Кирка взял гитару, и сыграл какую-то незатейливую вещь.
— Вы знакомы с гитарой? — спросила учительница.
— Да, немного, — смутился Кирка и густо покраснел.
— А где научились?
— В техникуме, во Владивостоке.
— Вы учитесь?
— Да, на фельдшера.
Учительница уже внимательнее оглядела смущенного Кирку и улыбнулась.
— Вы будете первый фельдшер из своего народа, да?
— Наверно.
— Как хорошо это! — воскликнула учительница.
— Поженим их, — вполголоса сказал Митрофан Пиапону, и они рассмеялись.
— Свежей рыбой надо ее угостить, — сказал Пиапон.
— Я еду на рыбалку, — ответил Хорхой, — утром привезу.
Приезжие женщины ушли в дом Полокто, Митрофан уехал с малмыжцами, и все разошлись по домам. Кирка с Шатохиным вернулись в контору, расставили шахматные фигуры и склонились над доской.
— С каждым днем все больше и больше хлопот становится, — пожаловался Шатохин. — Учительница приехала с матерью, скот привезли. Для учительницы потребуется то да се, а скот надо оберегать от собак. Видел, как собаки на быка ополчились, точно волки, загрызли бы запросто.
— Ты об этом думаешь, а я о священном жбане, — сказал Кирка. — Комсомольскую честь нельзя срамить, надо этот жбан отобрать и передать куда следует. Великого шамана пощипать надо.
— Не боишься, он ведь твой дед?
— Чего бояться, человек он обыкновенный, только старый да гипнотизер сильный — и все.
— Я и то побаиваюсь его, — сознался Шатохин, — столько про него наслышан.
— Больше придумали люди.
Соперники играли партию за партией с переменным успехом, потому что Кирка наперед отдавал пешку и ход.
— А учительница и правда красавица, — сказал Шатохин на прощание. — Чего она из Хабаровска приехала в Нярги? Написано в направлении — по комсомольской путевке. Комсомолка она. Веселее будет в Нярги.
Кирка вернулся домой, разделся в темноте и лег в прохладную постель. Он лежал и смотрел в чонко, в который заглядывала одинокая звездочка. Смотрел он на звездочку и думал о преобразованиях, которые происходят в родном стойбище. Сколько событий! Не было ни одного дня с тех пор, как он вернулся домой, чтобы в Нярги не произошло что-нибудь новое. Жизнь изменялась не по дням, а по часам. Интересная, стремительная жизнь! По наблюдениям Кирки, не поспевали люди за этой стремительностью не из-за своей инертности, а потому, что были связаны по рукам и ногам старыми предрассудками, обычаями, неписаными законами. Что сделать, чтобы люди шагали вровень с жизнью? Кирка много раздумывал над этим и нашел один-единственный выход — надо обучать людей грамоте, тогда они не отстанут от жизни. Новая учительница должна продолжить работу Лены Дяксул, возобновить ликбез и привлечь к учебе всех невзирая на возраст. С грамотными легче поднимать колхоз...
Кирка вспомнил слова Шатохина о лишних хлопотах с появлением колхозного скота и усмехнулся: что тогда делать нанай, не содержавшим коров, не знавшим молока, если даже русский человек настроен против скота? Конечно, люди с неохотой станут ухаживать за коровами. С такой же неохотой, как они копали землю и засевали ее. Кирка слышал разговоры о привлечении к земельным работам опытных корейцев. Корейцы молодцы, земледельцы настоящие, но и нанай самим тоже требуется научиться обращаться с землей.
Звездочка в чонко подмигнула Кирке и ушла за край отверстия. Кирка стал засыпать, когда открылась дверь и раздался хриплый голос Хорхоя:
— Кирка! Кирка! Ты дома?
— Что? Что такое? — встревоженно спросил спросонья отец Кирки. — Что случилось?
— Я здесь, дома, — ответил Кирка.
— Свет зажги, помоги, — прохрипел Хорхой.
Кирка зажег керосиновую лампу и увидел окровавленное лицо и шею двоюродного брата.
— Что с тобой? Ранен?
Мужчины, женщины и дети постарше повскакали с пар, подбежали к Хорхою.
— Какой-то гад стрелял, издалека стрелял, а я, дурак, еще сам нацелил его — пел.
Под шум, возгласы и всхлипывания женщин и детей
Кирка оглядел Хорхоя и расхохотался: правое ухо председателя сельсовета было продырявлено пулей, как по заказу.
— Чего смеешься! — обиделся Хорхой. — Еще чуточку левее и голову бы пробил. Перевяжи рану, нечего хохотать.
— Здесь и завязывать-то нечего, перестала кровь идти.
— Кто стрелял? Кто этот негодяй? — приставали женщины.
— Как увидишь в такой темноте, — ответил Калпе. — По слуху стрелял, ушами целился. Меткий стрелок. Как его разыщешь? Все метко стреляют. Неужели наши стреляли? Из-за сэвэнов, что ли? Или из-за шаманов?
На следующий день все стойбище говорило только о ране Хорхоя, гадали, кто бы мог так осерчать на него, что решился поднять руку. Решили — шаман. Но все соседи утверждали, что шаман весь вечер находился дома.
— Эх ты, Хорхой, глупый ты еще, — сказал Холгитон. — Очень еще зеленый и потому глупый. Ну, поможет тебе доктор? Ничем не поможет. Няйдет он стрелявшего? Лопнет, но не найдет. Вот и надо было тебе хоть одного шамана сохранить, бубен сохранить. Глупый ты. Шаман сейчас посидел бы немного и указал бы на стрелка, который тебе ухо продырявил. Понял ты теперь? Ходи с дырявым ухом, умнее будешь...
Старики измывались над пострадавшим председателем, как только хотели, а он молчал, не находя ответа. Тем временем Кирка собрал отчаянных комсомольцев, молодых охотников, чтобы отправиться в Хулусэн. Вдруг к нему явилась молодая учительница.
— Извините, я узнала, что ночью в председателя сельсовета стреляли, что зовут его Хорхой, а вас Кирка. Вы сейчас едете экспроприировать священный жбан, религиозную святыню нанайцев. Это очень интересно! Я вас очень прошу, возьмите меня. Нет, нет, я не боюсь воды, я хорошо плаваю, могу грести. Шамана великого тоже не боюсь, а зовут меня Каролина Федоровна, для вас я Каролина или Кара. Хорошо? Зовите меня Кара, а я вас Кирка. Договорились?
Каролина не хотела слышать никаких возражений, вышла вместе с Киркой на берег и быстро уговорила восхищенных ее обаянием и деловитостью юношей.
— Пусть поедет, веселее будет.
— У шамана священную одежду будет отбирать.
Так молодая учительница включилась в поход против великого шамана Богдано. Ехали весело, Каролине пришлось много рассказывать о городах, где бывала она, об учебе, поделиться планами своей культурно-просветительной работы в Нярги, она обещала научить тех, кто пожелает, играть на гитаре, мандолине, сказала, что мечтает создать струнный оркестр. Планов, у нее было уйма...
Подбадриваемые Каролиной, юноши гребли, не зная устали. После полудня экспедиция Кирки была в Хулусэне. Глава экспедиции пошел сразу к Яоде, содержателю священного жбана. Он поздоровался с Яодой, который приходился ему дядей, и заявил:
— Советская власть, дядя, требует, чтобы ты отдал священный жбан. Хватит обманывать народ, хватит на нем зарабатывать деньги.
Толстый седой Яода не ожидал такой наглости от сына Калпе и растерялся. Воспользовавшись этим, Кирка приказал:
— Ребята, берите жбан, бурхана и несите в лодку.
Тут только пришел в себя Яода, он тяжело стал сползать с нар, закричал что-то, но вместо крика послышалось бульканье в горле.
— Дядя, станешь сопротивляться, будет хуже, — предупредил Кирка и вышел вслед за комсомольцами, выносившими жбан и грудастого бурхана.
От Яоды он пошел к великому шаману. За ним неотступно следовала Каролина. Богдано холодно встретил Кирку.
— Это ты на доктора учишься? — спросил он.
— Я учусь, дед, но сейчас я пришел за твоим бубном, шапкой с рогами, священной одеждой. Советская власть отбирает все шаманские принадлежности.
— А меня она охраняет, сын Калпе. Тронешь что, отвечать будешь.
— Нет, дед, тебя, хотя ты и великий шаман, не будет охранять советская власть.
— Не вру, сын Калпе, в жизни не врал.
— Всю жизнь ты обманывал людей, теперь-то я знаю, дед. Ты не знал даже, как лежит плод у женщины, а помогал ей бубном рожать. Если умирала, ты даже не знал, почему она умерла, говорил, злые духи одолели. Теперь, дед, я все это знаю, тебя могу научить. А еще говоришь — не врал в жизни.
— Чему тебя еще учили, нэку?
— Людей лечить учили, дед, очень многому научили.
— Подойди, садись рядом.
— Мне некогда, я должен сегодня же домой вернуться.
— Ничего ты больше меня не знаешь, нэку. Я четыре твоих жизни прожил, в четыре раза больше знаю.
— Дед, школьники знают, что земля круглая, что она вертится, а ты не знаешь даже этого. А школьникам-малышам десять — двенадцать лет.
— Все, что ты говоришь, — вранье. Ваше учение не признаю.
— Дед, мне некогда с тобой спорить, отдай по-доброму свои шаманские принадлежности.
Каролина не спускала глаз с великого шамана, оглядывала, прощупывала, искала его великость — и не находила. Перед ней сидел очень древний усталый старик, бормотал что-то в ответ на слова Кирки. И глаза его были тусклые, будто обсыпанные пеплом. Богдано разочаровал Каролину.
— Если самовольно возьмешь, отвечать будешь, — повысил вдруг голос великий шаман.
Каролина взглянула на него и удивилась его преображению: согбенная стариковская спина выпрямилась, тусклые глаза молодо, зло заблестели, и лицо будто разгладилось, помолодело,посуровело.
— Сказал я тебе, меня охраняет закон, чего тебе еще надо? Ты слышал про названого моего сына? Нет? Есть у меня сын, Дубский его зовут, он охраняет меня.
— Кто он такой?
Кирка обвел взглядом товарищей, спрашивая их, не знают ли они этого Дубского, остановился на Каролине.
— Вы не слышали в Хабаровске фамилию Дубский?
— Он у нас бывал, с пистолетом ходит, — опередил Каролину один из юношей.
— Да слышала, он, кажется, какой-то ученый и сотрудник энкавэдэ. Так, кажется.
— Так, так, — подтвердили юноши.
— Он меня охраняет, недавно был здесь, предупредил меня, что вы явитесь сюда, — проговорил великий шаман.
Кирка постоял еще немного, раздумывая, что дальше ему предпринять, но ничего не придумал, попрощался с Богдано и вышел из душной фанзы.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В колхозе, организованном Токто в Хурэчэне, жизнь проходила относительно спокойнее, чем, например, у того же Поты в Джуене. Когда весной из района поступил указ заняться колхозу земледелием, Токто раскопал полянку в самом Хурэчэне и посадил картошку. Другое колхозное поле на низкой релке с песчаной почвой он засеял овсом. На этом закончилась земледельческая деятельность Токто. Летом релку залило водой, хлынувшей из верховьев Харпи после дождей, но Токто не пожалел об этом, потому что на песке овес не дал всходов. Что касается картошки, то про нее никто не вспомнил, никто не подумал ни о прополке, ни об окучивании, потому что никто не знал, как надо ухаживать за этой огородной культурой. Ждали осени, чтобы выкопать урожай и отчитаться перед районным начальством.
Когда колхозы начали закупать скот, Токто заявил о своем несогласии заниматься животноводством. Так он встал в ряд несговорчивых, упрямых председателей колхозов.
— Мясо у нас есть, молока не пьем, потому коров не хотим, — стоял он на своем.
— Дети научатся пить, им полезно, — доказывали ему.
— Кому говорите? Что, я не знаю наших, харпинских детей? Знаю. Не будут они пить молоко. Когда у нас в Джуене русоволосая Нина организовала детские ясли, она угощала ребятишек молоком в банках, а те не стали есть, плевались, просили ушицы, мясного отвара. Вот как было. А вы говорите — научатся. Не научатся, потому коров не надо. Да и кто будет с коровами возиться? Никто не будет, потому что никто не умеет ни кормить, ни за титьки дергать. На мясо б можно было, не надо ехать на Харпи, высунулся из окна — стреляй, и мясо есть. Но вы не разрешаете стрелять...
Так и настоял на своем упрямый Токто, а взял он верх, заявив:
— Когда колхозы организовывали, сказали, ваш колхоз, вы сами хозяева. Так говорили? Так. А теперь чего лезете не в свое дело? Наше хозяйство, как мы хотим, так и ведем его, как договорились с самого начала. Нам не надо коров, и вы не навязывайте их нам, не нарушайте уговор...
Махнули в районе на Токто рукой — пусть остается при своих интересах, пусть занимается рыбной ловлей и охотой. Но Токто не хотел отставать от Поты и приобрел для видимости лошадь, хотя и не знал, где ее использовать. Все транспортные перевозки совершались на собаках. Это удобно в условиях Харпи при сплошном бездорожье. А на лошади как проехать по глубокому снегу? Не станешь же специально для нее прокладывать на лыжах дорогу? Лошадь эта шла все лето своим ходом вокруг озера Болонь до Джуена, из Джуена по марям в Хурэчэн. Токто выделил ей сопровождающего. Охотник этот с котомкой и с ружьем за плечами неторопливо брел за лошадью, охотился на угок, стрелял в попадавшихся случайно зверюшек, где хотел, там и отдыхал, где настигала ночь, там ночевал. Он сдружился с лошадью, учил ее понимать по-нанайски, делился с ней лепешкой, кормил с рук и сам удивлялся своей храбрости: раньше он на двадцать шагов боялся подходить к этим животным. Добрался охотник с лошадью до Хурэчэна только в конце августа, когда колхозники собирались выезжать на кетовую путину на Амур.
И тут сразу же возник трудно разрешимый вопрос — что делать с лошадью? Оставить так — убежит. Привязать — чего доброго запутается и подохнет. Если не запутается, съест всю траву и с голоду подохнет. Что же делать? Долго думали колхозники, потом решили — оставим в Хурэчэне. Если убежит, мы охотники, по следу разыщем.
— Если бы две лошади было, не убежали бы, потому что двоим не так скучно, — сказал сопровождавший. — А эта одна, от скуки, кто знает, что взбредет ей в голову?
— Тебе что, двух лошадей захотелось? — набросился на него Токто. — Умник какой. С одной не знаем что делать, а ему двух захотелось.
Перед выездом на кетовую путину Токто поговорил с шаманом, которого в свое время зачислил в колхозный штат. Шаман молился за удачу охотников, за увеличение хозяйства колхоза, за его богатство. Токто платил ему за это деньги. Правда, небольшие, потому что, как сам понимал Токто, молиться — это не невод тянуть и не по двое суток соболя на лыжах догонять. Но все же шаман состоял на колхозном жалованье.
— Я должен с тобой бороться, — заявил Токто шаману, — ты для меня все равно не существуешь, ты другим только чего-то значишь, которые тебе верят. А я тебе не верю, ты это знаешь. Везде сейчас борются с вашим братом, бубны отбирают, священные ваши деревья рубят. Но я не стану у тебя отбирать бубен, он мне не нужен. Деньги ты больше не будешь получать, потому тебе лучше уехать из Хурэчэна.
— Зачем уезжать, Токто? Я не хочу, — возразил шаман.
— Мало ли что ты не хочешь. Я тебя выгоняю из колхоза, понял?
— За что? Что плохого я тебе сделал?
— Ничего ты мне плохого не сделал. Но неужели ты не понимаешь, что, если останешься у меня в колхозе, я должен с тобой бороться. У меня что, мало своих забот? Хочешь не хочешь, а меря попросят с тобой бороться. Все утихомирили своих шаманов, а ты будешь у меня тут сидеть тихо и спокойно, как вошь под мышкой? Нет, у меня своих забот хватает. Давай-ка лучше по-хорошему расстанемся, уезжай ты куда глаза глядят.
— Куда я уеду? Здесь все родственники, все старшие дети, куда я уеду?
— А хоть в Джуен, к Поте уезжай, пусть он с тобой борется.
— Не могу я, Токто, все мои тут, с ними вместе только уеду.
— Нет, один уезжай. Ишь, чего придумал, хочешь совсем развалить мой колхоз? Тогда мне придется тебя в милицию сдать. И так уж сколько людей переметнулось в Джуен, а ты хочешь еще всех своих забрать. Твоих родственников, детей — половина моего колхоза. Заберешь их, с кем я останусь? С одной лошадью? Не вздумай забирать своих, один уезжай.
— Токто, может, я останусь здесь, а? Я выброшу свой бубен, дам честное слово шамана, что никогда, даже если на коленях будут просить, не буду шаманить. А? Токто, а?
— Только так, слово держи, — согласился Токто. — Чтобы потом мне глаза не кололи, не говорили, что ты где-то шаманил. А бубен оставь, будешь глядеть на него, будешь вспоминать прошлое, кто знает вас, шаманов, может, у вас на самом деле и хорошее что бывает. Только смотри, когда начальники будут приезжать, ты далеко прячь бубен, чтобы они не видели...
На кетовую выезжали всем колхозом, оставив заросший травой колхозный огород и одинокую лошадь. В лодках, неводниках ехали женщины, дети, собаки. Ночевали в Джуене. Пота с Идари встретили Токто, Кэкэчэ и Гиду с семьей радушно, как самых близких родственников. О перебранке, из-за чего Токто сбежал в Хурэчэн, не вспоминали. Гида один был молчалив, его не беспокоили, все понимали, что он переживает: из этого дома сбежала его любимая Гэнгиэ, стала женой Богдана. Здесь каждая вещь, куст, камень напоминали ему о красавице Гэнгиэ.
— Учитель приехал, школу открываем, — сообщил Пота при встрече. — Советская власть требует, чтобы все дети учились. Так что, отец Гиды, поговори со своими Колхозниками, пусть они оставят детей школьного возраста здесь, в Джуене. Пусть не беспокоятся, мы будем отвечать за детей. Организуем им питание, жилье будет. Скажи, если не оставят детей, будут отвечать за это, понесут наказание.
— Какое наказание? Чего ты еще придумал?
— Не я придумал, отец Гиды, этого требует советская власть, она хочет, чтобы все дети были грамотные.
Токто вдруг вспомнил про далекие партизанские дни на Де-Кастри, как он там мучился неизвестностью, как часто видел во сне маленьких внуков Пору и Лингэ, беспокоился о них, а командир отряда Павел Глотов сказал, что в будущем, если Токто придется где находиться вдали от семьи, ему грамотные внуки напишут письмо, сообщат о домашних делах, о своем здоровье. Правильно говорил большевик Глотов, наступило такое время, вон Богдан где находится, за тридевять земель, а его отец и мать получают письма, изображения его, знают, как он учится, как живет. Пришло то время, о котором говорил партизанский командир. Только поздновато.
Пора уже женат, а Лингэ хоть и четырнадцать, но Токто уже подыскал ему невесту. Ничего, выучатся их дети, выучатся все дети харпинских колхозников...
Токто поговорил со всеми колхозниками, потребовал, чтобы они оставили детей в Джуене, в школе, даже припугнул, что если кто не послушается его, то он не допустит того на кетовую путину.
Утром рыбаки поплыли дальше и к вечеру были на своих тонях. Рядом расположились болонцы, среди них был друг Токто, старый Лэтэ Самар. Токто навестил его, узнал, что Воротин оказался невиновен в гибели рыбы на болонском заезке и его оправдали. Обрадованный этим известием, Токто тут же выехал в Малмыж.
— Бориса! Как хорошо, что ты вернулся! — воскликнул он при встрече с Воротиным. — Мы все беспокоились за тебя, никто не верил, что ты виновен. Видать, советский суд очень справедливый суд.
Воротин расхохотался, схватился за живот.
— А ты ругал этот суд! Ха-ха-ха. Помнишь, когда Максимку осудили? Ругал ты, проклинал.
— Было, зачем вспоминать? Правильно ругал. Когда услышал, что тебя забрали, тоже ругался. Теперь не ругаюсь. Будем вместе работать! Опять вместе!
— Ну, как, Токто, твои дела? Как колхоз?
— Э, мой колхоз не хуже других. Смеются амурские над нами, озерскими, отстали, мол, от жизни. Ничего мы не отстаем. Колхоз наш такой же, как и у них. Рыбу ловим, пушнину добываем больше их, огород имеем, ло* шадь имеем. Что еще надо?
— Молодец, Токто, совсем молодец. Правильно, делай все, что делают в других колхозах, не отставай.
— Мы еще поглядим, кто кого оставит. Ты нам катер дашь?
— Катер тебе одному не могу дать. Не могу, потому что их у нас еще мало. Несколько катеров будут обслуживать все тони. Капитан будет подбирать улов у всех, будь ты джуенец, харпинский, няргинский — ему все равно. Мы пока только так можем, Токто. Но через год-два колхозы получат свои катера. У тебя есть моторист, ты кого-нибудь обучаешь?
— Нет, не подумал об этом. Не верю я, что катер будет у нас.
— Ты такой же неверующий, Токто, — рассмеялся Воротин. — В Нярги, в Болони столько молодых, желающих стать мотористами, отбоя нет от них. И учатся уже. А Калпе из Нярги рыбалку бросил, мотористом стал, хотя денег меньше стал зарабатывать. Вот как. Отстаете.
— Ладно, отстаем, пусть эти амурские все мотористами станут, но охотиться они не могут лучше нас, озерских. Они тоже отстают от нас.
Воротин махнул рукой, не стал больше спорить, зная характер Токто. А тот остался доволен, будучи уверен, что победил в споре Воротина и заткнул ему рот.
Харпинские колхозники выполнили свой план на осенней путине, вдоволь заготовили себе юколы и возвратились в Хурэчэн в конце сентября. Ко всеобщему удивлению, лошадь никуда не убежала, спокойно паслась и не собиралась драться с прибежавшим из тайги лосем. Лося охотники тут же подстрелили и хорошо отметили возвращение с Амура. Потом Токто призвал колхозников убрать урожай.
Мужчины и женщины пошли в огород, выдергали тонкие картофельные стебли с синюшными плодами, величиной не больше куриного яйца.
— Чего тут есть? — удивились колхозники. — А вид у них какой? Синие, зеленые...
— У амурских крупнее растут.
— Секрет, видно, какой знают.
— С соленой кетой очень идет, пробовал я как-то, вкусно...
Женщины принесли котел с водой, набросали туда самой крупной картошки и поставили на огонь. Пока собирали урожай, котел закипел. Внук Токто, Лингэ, вытащил картофелину, подул и, когда она остыла, попробовал.
— Сырая, — сказал он и выплюнул. — Тьфу, да еще горькая.
— Мясо быстрее сваришь, — проворчал кто-то.
Когда картошка разварилась совсем, растрескалась, котел сняли с огня, вылили остаток воды и все взяли по клубню. Пробовали, не снимая кожуры.
— Горькая, как такую едят? Такую даже соленая кета не подправит.
— Кожуру снимайте, вкуснее.
Но и без кожуры харпинский картофель, выращенный в тени деревьев, в густой траве без прополки, невыносимо горчил. Колхозники махнули рукой — пусть горчит, не нам его есть. Собрали около четырех мешков картофельной мелочи, подобрали всю до горошин.
— Что будем делать с ним? — спрашивали колхозники Токто, но председатель сам не знал, куда деть картошку; он был доволен и тем, что выполнил указание районного начальства. Колхозники высыпали весь урожай в один из заброшенных амбаров, разошлись и позабыли о нем: были гораздо важнее дела — готовиться к охоте. Но, к удивлению Токто, охотники что-то нынче не спешили в тайгу, они ездили в Джуен слишком часто под всяким предлогом, задерживались там подолгу. Токто был уверен, что они ездят в магазин за покупками для зимней охоты. Но вот однажды явился к нему старший сын шамана и сказал:
— Токто, я переезжаю в Джуен.
— Почему? Разве здесь плохо?
— Неплохо, но мы с женой не можем жить без детей, а они в Джуене. Сердце кровью обливается.
— Может, тебя отец подбил? — насторожился Токто.
— Зачем отец? Он здесь остается.
За ним явились другие охотники, все они собирались переезжать в Джуен, к детям. А жены их еще добавляли:
— Мы не хуже джуенских женщин, они там в магазине каждый день покупки делают, а мы в год раз делаем. В Джуене магазин рядом, что надо — все под рукой.
Токто не мог насильно удерживать людей в Хурэчэне, он понял, что его негласный спор с Потой проигран. Тут еще явился охотник, пол-лета сопровождавший лошадь из Болони до Хурэчэна.
— Лошадь-то отощала совсем, — заявил он. — Есть-то ей нечего, вся трава давно пожухла.
— Не знаю, что ли, что трава пожухла, — рассердился Токто. — Они пожухлую и едят в это время и зимой. Где ей я найду зеленую?
— Видно, надо было летом зеленую заготовить.
— А ты где был? Чего не готовил? Умник...
— Я шел за ней, когда мне было готовить?
— Другим тоже некогда было.
— Умирает лошадь, Токто, до слез жалко. Я ее по-нанайски обучал.
— Привык ты к ней, потому жалко. Что теперь делать? Где достать выкошенной травы? Тьфу ты, напасть какая! Одна беда за другой! Скажи, что делать, ты ведь за ней шел, ты привел?
— Откуда мне знать?
— Я тоже не знаю. Тьфу, хотя бы этот овес уродился и не затопило его. Овсом, кажется, кормят лошадей?
— Откуда мне знать?
— Откуда, откуда, заладил! Пропадет ведь лошадь. Привел, хоть напомнил бы, что трава сушеная потребуется! У меня не десять голов, чтобы помнить все. Да еще о твоей лошади.
— Не моя она.
— Ну, колхозная, но ты шел за ней, подгонял сюда на мою голову. Оставил бы в Джуене у Поты. Может, сейчас не поздно? Может, обратно угонишь в Джуен?
— Она еле на ногах стоит, отощала совсем. Да вода холодная, не переплывет, замерзнет. Я тоже сейчас не переплыву, лед...
— Вот еще беда! Привел какую-то дохлятину. Вон лоси и летом и зимой в тайге, не помирают. Тьфу! Зачем только взбрело мне в голову покупать ее! Если не выживет, чего мучить животное? Застрели!
— Нет, любого зверя в тайге стрелял, но эту лошадь не буду. Нет, пусть кто другой стреляет.
— Ладно, пусть подыхает, кожу шаману на бубен отдадим. Тьфу, что говорю? Вот беда. Охотился всю жизнь — не знал такой беды. Навязали мне этот колхоз. Распадется этот колхоз, больше никогда не буду другой организовывать. Охотник я, мое место в тайге...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Коровник тоже построили из тальника и глины.
— Этот бык, если рассердится, насквозь пройдет, — говорили колхозники, оглядывая еще сырые стены.
— Ничего, разбогатеем, построим им теплый дом, — подбадривал их Пиапон.
С появлением быка и коров появились новые заботы у Пиапона — коровник построить, хлопотать о корме, уговаривать женщин, чтоб ухаживали за ними. Исоака и Мима согласились ухаживать за коровами, но потребовали, чтобы отделили быка от коров. Бык к этому времени разодрал еще одну собаку и становился с каждым днем все злее и злее. Способствовали этому мальчишки. Узнали они откуда-то, что бык не терпит красного цвета, натаскали красных лоскутов и дразнили его. Бык ревел на все стойбище, стекла дребезжали от этого рева в фанзах, рыл песок и нападал на своих мучителей. Шустрые ребятишки с замирающим сердцем убегали от него за фанзы. Нравилась им эта смертельно опасная игра. Потом до Пиапона дошел слух, что ребятишки научились доводить быка до белого каления, дергая его за мошонку. Пришлось принимать срочные меры, родители поговорили крепко с озорниками, быку спилили рога и повесили на лоб широкую доску, чтоб он не видел перед собой.
Исоака с Мимой несколько успокоились, но свирепый бык и без рогов вызывал трепетный страх. Они кое-как научились доить коров, помощь им оказывала мать учительницы Фекла Ивановна. Молоко покупали только русские: учительница, бухгалтер с кассиром, завмаг и Шатохин. Оставшееся молоко прокисало, женщины пытались кормить им собак, но те отворачивали морды, и доярки стали выливать прокисшее молоко.
— Жалко добра, — говорила Мима. — Может, на базу ездить продавать, лишние деньги все же.
— Пока едешь — прокиснет, — отвечала Исоака. — У них там у самих есть коровы. Зачем им?
— А вот в магазине нила, — так Мима назвала сыр, — завмаг говорит, его из молока готовят. Чудно, молоко как вода, а эта нила как камень...
— Врет. Никто у него не покупает, потому придумывает.
Неизвестно, сколько бы еще так продолжалось у неопытных доярок, если бы учительница случайно не заметила творожную массу возле коровника.
— Кислое молоко выливаете? — спросила она доярок.
— Выливаем. Что делать? — ответила Мима.
— Творог надо готовить.
Учительница-горожанка сама не знала тонкостей изготовления молочных продуктов и попросила мать помочь дояркам. Вскоре, к радости Пиапона, который не знал, что доярки выливают прокисшее молоко, творог тоже стал доходной статьей в колхозе.
Пиапон все чаще и чаще задумывался над огородничеством. Он понимал, что колхозные мелкие поля, разбросанные по тайге, это ничтожно малая часть пахотной земли, которую должен иметь колхоз. Лошадям требовался овес, коровам — картофель и другие корнеплоды, колхозники не отказывались от табака, огурцов, фасоли, сои, гаоляна и чумизы, которые сеяли корейцы. Пиапона преследовала неотступная мысль привлечь к колхозному земледелию корейцев, проживавших возле рыббазы. Пусть они научат нанай огородничеству, передадут им свой вековой опыт. Посоветовался он с некоторыми колхозниками, бухгалтером, съездил к корейцам, поговорил с приятелем Ким Хен То, и перед кетовой путиной на общем колхозном собрании корейцы были приняты в колхоз «Рыбак-охотник». Теперь Пиапон знал, что земледелие в его колхозе будет не последним делом, хотят этого или не хотят колхозники вроде Холгитона, Оненка, Киле. Придется им всерьез заняться полеводством, огородничеством, придется привыкать к пище, которую дает плодородная земля.
Пока рыбаки ловили кету, вновь принятые члены артели построили овощехранилище. Вернувшись с путины, колхозники сняли урожай с полей, сложили в овощехранилище.
— Беда, далековато, — сетовал Пиапон, — мы и коровы находимся на песчаной стороне, а наше новое хозяйство, огороды, овощи — на гористой стороне. Переехать бы на ту сторону, все стало бы рядом и будто на месте.
Так зародилась в беспокойной голове Пиапона новая мысль — переселиться всем колхозом на таежную сторону, тогда колхозникам не стали бы досаждать частые наводнения, да и хозяйство выглядело бы собраннее, плотнее. Хорошая мысль — переселиться, но как осуществить ее?
Переселять целое стойбище — не пустячное дело. Деревянные дома можно переправить, но тем, кто жил в фанзах, надо строить новые. Только хорошо ли в новом стойбище строить по старинке глиняные фанзы? Люди не захотят в них жить. Деревянные дома потребуется ставить. Откуда денег взять? Не простое дело, не простое.
— Ничего, разбогатеем, — твердил себе Пиапон. — Город строится недалеко, продавать будем излишки, разбогатеем, только все надо делать с умом, не спеша...
После кетовой путины Пиапон разделил колхозников по группам: охотники, рыбаки, лесозаготовители, сельскохозяйственники. С последней группой колхозников ему не пришлось вступать в пререкания: корейцы и доярки знали свое дело. Но зато пришлось ему ругаться, настаивать, убеждать колхозников первых трех групп. Один хотел охотиться, другой рыбачить, и все вместе отказывались заготавливать лес.
— Хозяйство у нас, — убеждал Пиапон, — большое, разнообразное, нам надо заниматься новыми делами. Если все уйдете в тайгу, кто будет рыбу ловить? А рыбу мы обязаны ловить, рядом Комсомольск — город строится, много еды им надо. Если все на охоту и на рыбалку пойдете, кто будет лес заготовлять? Лес покупать мы не можем, не такие мы богатые. Сами будем готовить. Нам надо построить школу, конюшню с коровником, кое-кому деревянный дом нужен...
Председатель колхоза убеждал, доказывал, что на лесозаготовках не хуже можно заработать, чем в тайге, на охоте, а может, даже и больше. Но колхозников тянуло к знакомым с детства занятиям, хотя многие уже не раз зимой готовили лес и кормили семью на эти заработки.
Когда не подействовал метод убеждения, Пиапон перешел к действиям. Собрал членов правления, составил списки бригад: охотников, рыбаков, лесозаготовителей. Колхозники пошумели, пошумели и вскоре согласились с Пиапоном, который разумно распределил членов больших семей по бригадам: главу семьи — на охоту, детей — одних на рыбалку, других на лесозаготовки. Пришел к нему обиженный Холгитон, которого он никуда не записал.
— Меня уже за человека не считаешь? — спросил он.
— Отец Нипо, отдыхай, из дома ходи на охоту, ставь петли, капканы, — уговаривал его Пиапон.
— Это и дети могут после школы. Пошли меня в тайгу хоть кашеваром.
— Нет, в тайгу ты просился в последний раз в тот год, когда тигра убили. Все, не могу я тебя отпустить. Заболеешь там, кто поможет?
— Уничтожили шаманов и спрашиваешь, кто поможет. Пошли своего доктора, если боишься за меня.
— Тебе одному доктора?
— А чего? Сами говорили, доктора заменят шаманов. Вот и посылай.
— Нет, доктора не пошлю и тебя не отпущу. Ты же во время кеты побаливал и теперь нездоров. Сиди дома.
— Так и не найдешь мне дела?
— Может, возле коров. Но там нечего зимой делать.
— Не пойду я к этому красному зверю.
— Сиди, отец Нипо, дома, посещай по вечерам школу, сам знаешь, как там теперь весело. Тебе ликбез надо кончать.
— Голова старая, не запоминаю я эти буквы.
— Старайся.
Прошли в хлопотах два дня, и Пиапона позвали в дом Холгитона. Старик лежал на сколоченной сыновьями кровати и тяжело дышал. Пиапон сел возле него на табурет. Часы-ходики отчаянно стучали в изголовье старика, никто до сих пор не снимал с гири лишней тяжести. Пиапон посмотрел на стрелки часов и сказал: — Часы, говоришь, поспевают за жизнью, а ты решил отстать. Слишком быстро идут часы, снимай железный груз.
— Пусть идут, — прохрипел Холгитон, — они теперь отсчитывают мое время. Чем быстрее кончится, тем лучше.
— Умирать собрался?
— Хватит, пожил, повидал много.
— Ничего не много, отец Нипо, все еще впереди. Ох, сколько еще впереди нас ждет интересного — во сне не приснится.
— Это верно, отец Миры, верно. Жалко уходить, да что поделаешь, забирают меня. Потом я лежу и думаю, мешаю я вам, путаюсь под ногами. Вспомнил все как было, хотя бы с колхозом... Путаюсь я, мешаю, сам теперь понимаю.
— Никому ты не мешаешь, отец Нипо, не выдумывай.
— Обузой стал, знаю, — продолжал печально старик. — Сколько я всего увидел, почувствовал. Отец Миры, это в одну жизнь не вмещается... Будет мне что рассказать в буни. Встречу друзей, твоего отца, отца Поты, расскажу им все... только не поверят они, да и сам я не поверил бы, если 6 не видел своими глазами. Такое произошло в жизни, в одной жизни... Твой отец обрадуется за тебя, за внука Богдана обрадуется. Отец Поты, тот прыгать начнет...
— Погоди, отец Нипо, ты чего это о буни заговорил? Рано еще. Ты поживешь еще, столько увидишь, будет что рассказать, чем удивить жителей буни.
— И того, чего я увидел, хватило бы прежде десятерым сказочникам. Говорю тебе, я прожил больше чем положено мне. От жадности, что ли, один я прожил жизнь нескольких людей. По-другому не объяснишь. Трудно понять, как это в жизни одного человека произошло столько событий... А я своей главной сказки так и не успел закончить... обидно очень.
— Ты закончишь, отец Нипо, закончишь. О чем сказка?
— О Ленине, отец Миры. Как пришла новая жизнь, так и обдумываю эту сказку... не закончил.
— Хорошая думка у тебя, очень даже нужная. Тебе нельзя уходить в буни, пока не закончишь сказку.
— Другие сказки я не так мучительно обдумывал. А эту никак не могу закончить... несколько лет думаю.
— Ты ее кончай, отец Нипо, сказки остаются нашим детям.
— Ты прав, отец Миры, люди смертны, все мы умрем. Но сказки бессмертны, как солнце. Сказка никогда не умирает.
— Теперь мы научились еще писать, не надо в голове все держать, запишут умные люди твою сказку о Ленине.
— Правильно, надо записать...
«Не поймешь его, — думал Пиапон, глядя на бледное лицо Холгитона, — о смерти говорит, а сам о бессмертной сказке, о Ленине думает. Как это у него совмещается смерть и бессмертие — не поймешь».
— Хорошо, что принесли русские люди нам грамоту, — продолжал Холгитон. — Очень хорошо. У меня есть старая легенда о грамоте. Наши предки, по легенде этой, знали грамоту. Хочешь, расскажу? Мне лучше стало. Всегда так, как поговорю с тобою — так легче всегда. Тогда, помнишь, когда Полокто с женой Гэйе меня оплевали при народе, тогда тоже ты успокоил. Ох, как тогда я осерчал, сейчас даже помню. Ну ладно; расскажу тебе легнду покороче. Там говорится, что была у нас грамота, да потеряли ее, когда переплывали море. Теперь я закончил бы так. Плавала эта грамота десятками, сотнями лет, плавала по морю. Находили ее люди, глянут на нее, да и выбросят, потому что зачем им такая непонятная грамота? Ни к чему. Находил грамоту и царь, тоже повертел, повертел, взглянул на своих слуг, говорит: «Чья эта грамота?» Отвечают ему слуги: «Это нанайская грамота. Живут эти дикие люди на Амуре. Зачем им, диким таежным людям, грамота?» — «Правильно, — говорит царь, — незачем диким людям грамоту иметь». И выбросил опять в море грамоту. Попалась наконец наша грамота Ленину. Он взял ее в сильные свои руки, взглянул на нее зоркими глазами, прочитал и говорит своим помощникам: «Эта грамота, друзья мои товарищи, нанайская, а народ этот живет на Амуре, охотится этот народ и рыбу ловит. Бедно очень живут они, всякие злые торговцы их обижают, обманывают. Помочь надо, други мои товарищи, этому народу нанай. Сперва выгоним торговцев, кровососов-обманшиков, принесем им, нанай, новую жизнь, а чтобы научились они сами по-новому жить, сами чтобы хорошо стали жить, дадим вот эту грамоту им. Только грамота эта, друзья мои товарищи, не годится для новой-то их жизни. Надо эту грамоту совсем обновить, по-другому переделать. Отдадим, друзья мои товарищи, эту грамоту ученым людям, пусть они перепишут ее заново, сделают ее на наш, советский лад и передадут ее древнему народу нанай».
Выполнили друзья-товарищи Ленина его слова, переделали древнюю грамоту на новый лад, на советский. И принесли они эту грамоту нам и сказали: «Учитесь, добрые люди нанай, учитесь по-новому жить, так велел Ленин передать свои слова. Сами стройте свою жизнь по-новому, по-советскому, а, для этого учитесь и учитесь, не жалея себя, сердца своего». Так бы я закончил эту легенду, — устало проговорил Холгитон.
— Отец Нипо, ты же новую сказку рассказал! — воскликнул Пиапон. — Это же и есть сказка о Ленине.
— Нет, это не та сказка, о Ленине другая есть, лучше этой. А это, говорю тебе, окончание на мой лад старой легенды о грамоте. Была такая легенда.
— Хорошая сказка, отец Нипо, очень хорошая. Надо бы записать ее...
— Правильно, отец Миры, надо записать, потому что это моя последняя сказка, больше вы не услышите...
— Ты опять за свое, — нахмурился Пиапон, — вылечат тебя. Повезем к большим докторам...
— Доктора — это хорошо.
— А что тебе надо еще?
— Я тебя позвал, чтобы честно поговорить, отец Миры.
Пиапон насторожился, потому что знал, за такими словами старика последует какая-нибудь несуразица.
— Знаешь ты меня, никогда я не обманывал людей, не делал за их спиной плохое, — продолжал Холгитон, — сейчас тоже не хочу за твоей спиной плохого делать. Ты говоришь — доктор хорошо. Согласен, но шаман тоже неплохо, а вы всех их уничтожили.
— Как уничтожили?
— Отобрали у них все, это все равно, что уничтожили. А я хочу позвать шамана. Ты молчи, отец Миры, выслушай. Последний раз прошу тебя, может, никогда я больше с тобой не буду разговаривать. Кто знает. Последний раз прошу...
— Много у тебя этих последних, последний раз просился в тайгу, а потом еще просился...
— Так было, потому что живой я был, а теперь, может, умру. Последний раз потому прошу. Разреши пошаманить, не могу я умереть без шамана, привык я к нему. Разреши, потом к доктору повезешь. Ладно?
— Как я могу разрешить, когда им запрещено шаманить?
— А ты не замечай.
— Как это не замечать? Слепой, глухой я, что ли?
— А ты на время, пока шаман камлает, ослепни и оглохни.
— Нехорошо, отец Нипо, не ожидал я такого от тебя. Сам утверждаешь, что ты честный человек, а меня толкаешь на что?
— Никуда не толкаю, ты, может быть, совсем не знаешь, что у меня шаманить будут. Не было такого разговора. Ты сегодня уехал в Малмыж или на рыбалку и ничего не знаешь. Понял? Последний раз прошу тебя, — лродолжал умолять Холгитон; зная неуступчивость Пиапона, он даже прослезился.
Пиапон поморщился, он думал, как ему выйти из дурацкого положения, в которое ставит его Холгитон, тот Холгитон, который минуту назад так хорошо и проникновенно говорил о новой жизни, с ходу сочинил великолепную сказку о Ленине. Что же делать, как быть с просьбой старика?
— Где найдешь шамана, их ведь нет, — произнес он, обдумывая следующий свой шаг.
— Найду, отец Миры, найду, — обрадовался Холгитон и даже сел на постели. — Ты согласен? Да?
— Ничего не согласен, но я наступлю на свою совесть из-за тебя только потому, что ты дорог мне. Завтра я буду у тебя, отвезу в Болонь. Нет, я сейчас выезжаю сам в Болонь, привезу завтра Бурнакина. Я тебя не слышал, я не знаю, что у тебя ночью будут шаманить.
Пиапон, озлобленный на самого себя, ругая себя за мягкотелость, пошел в контору правления колхоза. И, только усевшись за стол, вспомнил, что не спросил у старика, что у него болит.
Холгитон вслед за Пиапоном пригласил Хорхоя. G молодым председателем сельсовета старик не стал церемониться.
— Хорхой, я позвал тебя по важному делу, — сказал он, усадив Хорхоя перед собой. — Я тяжело заболел, умру, наверно. Перед смертью хочу, чтобы шаман покамлал. Молчи! После скажешь. Тебе хорошо, ты поздно родился, был бы я твой ровесник, может, тоже пошел бы с шаманами бороться. Но я старый, собрался вот умирать. Верю я шаманам, привык к ним. Ты знаешь, я верующий человек, верил русскому бачика, верю шаманам, из Маньчжурии привез веру. Так что ты разреши последний раз послушать шамана. Ты закрой уши, закрой глаза, и все будет хорошо.
— Не могу, отец Нипо, не принуждай, — стал умолять Хорхой.
— Можешь. Должен. Тебя последний раз просит человек, самый старый человек в Нярги. Приду я в буни, встречусь с твоим дедом, расскажу, какой ты стал дянгиан, как тебя люди уважают, а злые люди ухо прострелили. Все расскажу, но ни слова не скажу, что ты шаманов уничтожил, иначе старики рассердятся, ругаться начнут, не будут смотреть, что ты большой председатель. Ну, как ты решил, разрешаешь пошаманить?
— Шаманов нет, — неуверенно проговорил Хорхой.
— Это не твоя забота, я сам найду.
— У тебя ж дети комсомольцы, они не разрешат тебе шаманить. Не должны разрешить, — поправился Хорхой.
— Это тоже не твое дело, сами договоримся, в одном доме живем. Чтобы ты разрешил и молчал, вот что надо мне.
— Как я могу...
— Можешь. Говорят, гусь хорошо летит, верно? Мои сыновья, внуки на ночь идут на охоту, присоединяйся к ним. Шатохина забери с собой. Хорошо?
— Все же это нечестно, отец Нипо, — выговорил Хорхой, покидая дом самого старого человека в Нярги.
В этот день после полудня председатель колхоза на оморочке выехал в Малмыж, а оттуда в Болонь. Говорили, что он выехал к председателю болонского колхоза логовориться об условиях соревнования между двумя артелями. А к вечеру председателя сельсовета с секретарем видели с ружьями, патронташами, выехали они на охоту с ночевкой, хотя был не субботний день, а начало недели. Только страдавшие бессонницей няргинцы слышали ночью, ближе к рассвету, глухой звук бубна, доносившийся из дома больного Холгитона.
Утром раньше всех вернулись Хорхой с Шатохиным с неплохой добычей; гусей, правда, не добыли, но привезли по десятку уток, сетями поймали верхоглядов. Ближе к полудню возвратился Пиапон с Бурнакиным. Доктор обследовал Холгитона, посадил его на лодку и выехал в город, который строили комсомольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза.
— Я тебя, Холгитон, к хирургу везу, — сообщил в лодке Бурнакин. — Хороший врач, в Москве учился, а родился в Болгарии, такая страна есть. Отец его и мать, болгарские коммунисты, эмигрировали, переехали к нам в Советский Союз. Зовут хирурга Коста Стоянов. Запомнишь? Коста Стоянов.
— Коста Стоянов, — повторил Холгитон. — Он, как и ты, сладкими лекарствами будет лечить?
— Не знаю, он большой доктор.
— Сладкое лекарство — это обман. Кто же сахаром излечивает болезни? Детей только ты можешь обманывать.
— Ну да, тебе бы только медвежью желчь пить, -огрызнулся Бурнакин, который уже сотни раз слышал о бессилии сладких лекарств.
— Медвежья желчь от всех болезней помогает.
— Почему теперь не помогает? Живот-то болит, не унимается.
— Сейчас не помогла, потом поможет.
На следующий день, когда лодка подъезжала к городу, Холгитон приподнялся и долго смотрел на вырубленную тайгу, на ряды бараков и строившиеся предприятия. Он бырал неподалеку отсюда, в нанайском стойбище Мылки.
— Не узнать, совсем не узнать, — бормотал он, — совсем уже большой город вырос...
— Ты знаешь, как будет называться теперь Пермское? — спросил Бурнакин. — Комсомольск. Город Комсомольск.
— Хорошее название, совсем знакомое. У нас комсомольцы сэвэнов пожгли, шаманов уничтожили, не нашли, куда силы деть. Приехали бы этот город строить.
Бурнакин рассмеялся.
— Наши комсомольцы тоже дело делают, — промолвил он.
В Комсомольске Бурнакин сбегал в больницу, встретился с хирургом Костой Стояновым и с его разрешения привел Холгитона к нему. Коста — высокий, гибкий, с маленькой аккуратной черной бородкой, остроглазый весельчак — встретил Холгитона доброй улыбкой. «Какой красивый юноша, — подумал Холгитон. — Такой молодой, а уже большой доктор. Болгарин, говорили, а он русский совсем». Холгитона уложили на узкий, холодный топчан, и гибкие, сильные руки Косты Стоянова стали прощупывать впалый живот старика.
— Живот болит, дед? — спрашивал Коста. — Давно болит? Как давно? Раньше часто болел? Здесь болит? А здесь? Так. Хорошо. Проясняется картина. Так. А здесь? Сильно болит? Хорошо.
— Чего хорошего? — спросил Холгитон. — Я говорю, сильно болит, а ты говоришь хорошо. Чего хорошего?
Коста белозубо улыбнулся и сказал:
— Хорошо, что я болезнь нашел, дед. Удалить надо болезнь, и ты будешь опять охотиться.
— Председатель не пускает на охоту.
— Будешь здоров — отпустит.
— Нет, не отпустит. Последний раз я его просил отпустить в прошлую зиму, тигра мы убили тогда.
— Да ну! Тигра убили?
— Тигра. А ты чего, не слышал? Много об этом говорили тогда.
— Вылечим, — пообещал Коста, — удалим болезнь, и ты опять тигра убьешь.
— Как удалишь? Резать будешь? — тревожно спросил Холгитон, только сейчас уловив смысл слов хирурга.
— Не бойся, дед, это совсем не страшно, страшнее в глаза тигра смотреть.
«Резать будет. По-другому нельзя, что ли, вылечить? Обязательно надо человеку живот пороть? Такой молодой, а человеческие животы порет. Приятно ему, что ли? Вдруг человек помрет под ножом? Надо храбрым быть, чтобы у живого человека живот пороть. Сын Калпе, Кирка, пожалуй, тоже научится людей резать. Об этом не забыть бы его деду Баосе рассказать».
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Летом тридцать второго года на Амур съездил Сапси-Саша. Возвратился он к началу учебного года.
— Колхозы укрепились, — заявил он сразу при встрече с друзьями. — Укрепились и будут теперь расти, подниматься. Силу свою они показали. Знаете, где показали? Ни за что не догадаетесь!
— Говори ты, чего тянешь! — рассердился Михаил.
— Озеро Болонь заезком перегородили!
— Болонь? Нанайское море? — будто одновременно выдохнули все присутствующие.
— Разве можно Болонь перегородить? — усомнилась Гэнгиэ.
— Можно, и загородили! Доказали колхозную силу! Собрались со всех колхозов, от Сакачи-Аляна до Нижних Халб рыбаки и поставили заезок. Ох, рыбы, если только вы видели бы! Никогда, нигде я не видел столько рыбы. Когда подходили максуны, вода кипела, когда они прыгали один за аругим, один за другим. Гул такой — спать невозможно! Заезок трясло!
— А рыбу куда сдают? — спросил Богдан.
— В Болони большой рыбозавод построили, потом недалеко от Малмыжа, напротив твоих Нярги, другой стоит. Не знаю, справятся ли они, слишком много рыбы. Рыбаки говорят, что это еще пустяки, в конце сентября начнет выходить рыба, тогда заезок в щепки разнесет...
На несколько дней хватило у студентов разговора о Болонском заезке. Они обсуждали конструкцию заезка, спорили, как сберечь рыбу, куда ее деть... Амурцы на берегу Невы решали проблемы, которые жизнь выдвигала на Амуре.
Богдан много думал о заезке. Он родился и долго жил на берегу озера Болонь, знал озеро лучше всех споривших. Он знал, сколько рыбы в нем, потому что сам видел, как прыгают разгулявшиеся максуны, как мечут икру караси и сазаны в начале лета. Такой шум на озере — не уснешь без привычки! И куда можно деть столько рыбы — Богдан не понимал. Засолить? Но соленая рыба невкусная. Что же тогда остается? Заморозить? А где морозильники? Может, сейчас начнут строить? Но еще требуются баржи со льдом, чтобы вывозить эту рыбу в город, к потребителю. Где они, эти баржи?
Все было неясно, непонятно, и Богдан сел писать письмо Пиапону. Он теперь регулярно переписывался с дедом: за Пиапона, под его диктовку, писала учительница; которую звали Лена Дяксул, знакомая Полины. Получал он письма и от отца с матерью, за них писал секретарь сельсовета. Ответили они и на письмо, в которое была вложена фотокарточка Богдана с Гэнгиэ.
«Какой ты стал городской, на сына нашего даже не похож, — писали Пота с Идари. — Гэнгйэ тоже не узнать. Ты женился на ней, ну и живи, только что скажешь Гиде и его отцу? Он и так на нас сердит, теперь совсем разозлится. Сам думай, ты теперь совсем умный стал. Жалко, детей у тебя не будет...»
Богдан дописывал письмо, просил Пиапона подробнее сообщить, что случилось с заезком, много ли выловили рыбы и куда ее дели.
— Богдан! — в дверях стоял бледный Михаил, тубы у него дрожали. — Лукс погиб!
— Кто сказал? — вскочил Богдан. — Он же далеко, в экспедиции.
— Оттуда сообщили... несчастный случай... из Якутии, на берегу Ледовитого океана похоронили.
Михаил сел на кровать и опустил голову.
— Такой могучий, такой добрый... Как его на Амуре любили.
Богдан мерил шагами комнату. Погиб человек, который дал ему путевку в партию, погиб испытанный революционер, открывший тысячам людей глаза... Да, будут амурские народности помнить Карла Лукса, для них имя его вобрало в себя, воссоединило вместе и Комитет Севера, и советскую власть, и партию большевиков, и новую жизнь со школами, больницами, колхозами. Не забудут Лукса нанай, ульчи, удэгейцы, нивхи, негидальцы.
— Если сами не догадаются, — сказал Богдан, — когда вернемся на Амур, предложим какой-нибудь колхоз назвать его именем.
Услышав о гибели Карла Яновича, собрались студенты в комнате отдыха, начали делиться воспоминаниями о нем, и сам собой получился вечер памяти Лукса. Сидевшая рядом с Богданом Гэнгиэ беспокойно теребила конец перекинутой через плечо шали, глубоко вздыхала. За ужином она выпила только чай, а селедку с картошкой отдала Богдану.
— Тебе надо есть, — жестко проговорила Полина. Богдан удивился, но решил, что это вызвано гибелью Лукса, потому что эта нелепая смерть не выходила из его головы. После ужина Богдан с Гэнгиэ вышли подышать воздухом.
— Я с первой встречи до последней вспоминаю, — сказал Богдан, шагая по шуршавшей листве парка. — Все помню. Он меня всегда партизаном называл, наверно, ему самому это приятно было, потому что он командовал очень большим партизанским отрядом. В партию рекомендовал, сам рекомендовал...
Гэнгиэ делала вид, что слушает его, но мысли ее были о другом. Она несколько раз порывалась сообщить Богдану о своей беременности, но все не решалась, потому что сама в это не верила. Сколько лет она прожила с Гидой и не могла забеременеть. Кэкэчэ с Идари поили ее всякими отварами, звали на помощь шаманов, пока не уверились в ее бесплодности. А в Ленинграде она забеременела. От Богдана. Не могла счастливая Гэнгиэ поверить в это. Спрашивала, переспрашивала подруг-женщин, как узнать беременность, как она протекает, боялась ошибиться. Но теперь ошибки не было, опытные женщины подсчитали — два месяца беременности. Гэнгиэ была рада, так рада, что кусок хлеба не лез в горло.. Бывает же так! А Полина ругается, заставляет насильно есть. До еды ли — у Гэнгиэ будет ребенок! Все говорили: «Бесплодная, бесплодная», а она понесла!
— Богдан, радость-то какая, — прижавшись к мужу, прошептала Гэнгиэ.
— Ты что, какая радость? — не понял Богдан. — Ты в уме?
— Да, Богдан, я в уме.
— Лукс погиб, ты что это?
— Я ничего. Погиб так погиб, что теперь сделаешь? У нас на похоронах всегда говорят: «Его уже не поднимешь, надо думать, как дальше жить живым».
— Знаю, слышал. Лучше помолчим.
— Не могу я сегодня молчать, я думаю, как мы будем жить.
— Думай про себя, глупости только не говори. Погиб человек...
— Появился человек.
— Что? Какой человек?
— Не знаю какой...
«С ума она сошла, что ли? Что с ней? — подумал Богдан. — Несет какую-то чушь».
— Разве сейчас узнаешь, какой будет, — продолжала Гэнгиэ. — Когда появится, тогда узнаешь. Да и тогда не узнаешь, когда подрастет, тогда узнаешь.
— О чем ты говоришь? Можешь понятнее сказать?
— А чего тебе непонятно? Сказала я тебе, человек появился, я понесла. Что тут непонятного?
— Ты понесла?!
Богдан почувствовал, точно его вытащили из сырого подземелья на дневной свет. Он закрыл глаза, вздохнул полной грудью и прошептал:
— Как же так? Смерть и жизнь — рядом. Горе и радость — в обнимку.
Он позабыл в это время, что сам родился в год мора, когда черная оспа погубила стойбище Полокан, что он вдохнул весенний воздух в то время, когда прекратилось дыхание дочери Токто. Он забыл об этом, хотя не раз слышал от матери.
— Правда, понесла? — спросил он еще раз.
— Не веришь?
— Ты же говорила...
— Сама не верила, а теперь верю.
Богдан обнял любимую, стал целовать ее в губы, щеки, в глаза и повторял как обезумевший:
— Сына, сына, сына хочу. Сына, опять сына... Гэнгиэ радостно смеялась.
— А я дочь, дочь, дочь хочу. Помощницу мне...
— Ладно, кто будет, тот и будет, — сказал, успокоившись, Богдан. — А нам надо по-настоящему мужем и женой стать.
— А мы разве не по-настоящему?
— По закону надо, зарегистрироваться...
На следующий день Богдан поймал Сашу Севзвездина в коридоре, затащил в пустую аудиторию.
— Ты опять об алфавите? — спрашивал Севзвездин. — Может, тебе ехать на дискуссию?
Александр Севзвездин собирался в Хабаровск, где проводилась дискуссия о письменностях народностей Амура. Даже не о самой письменности, а об алфавите. С первых дней обучения детей по латинским буквам стали высказывать недовольство учителя. Недовольство возросло еще больше, когда во втором классе детей начинали обучать русскому языку. Малыши должны были выучить буквы двух различных алфавитов. Запротестовали и учителя ликбезов, их ученики — взрослые папы, мамы, немного умеющие читать русские слова, вновь переучивались вместе с новичками по латинским буквам.
— Я, Богдан, буду стоять за русский алфавит.
— Не о том я, Саша, у меня другое дело, посоветоваться хочу.
— Советуйся, я никогда не отказывался помочь.
— Ты как женился?
— Как женился? Просто, а что? — Саша густо покраснел и переспросил: — А что?
— Что надо, чтобы жениться. Севзвездин покраснел еще гуще...
— Как что? Просто влюбился... Ну и чтобы она согласна...
— Да, согласна! Что требуется, чтобы зарегистрироваться?
Севзвездин облегченно вздохнул, улыбнулся:
— Фу, черт, задачу задал. Женишься? Вот и хорошо, давно бы так. В загс надо идти, и все. Когда свадьба?
Скромную, но веселую свадьбу справили в один из воскресных дней в квартире Александре Севзвездина. Много подтрунивали над Михаилом, который все еще не решался зарегистрировать брак с Людмилой Константиновной.
— Если нынче зимой Михаил женится, я волосы под машинку подстригу, — клялся Яков Самар.
— Новое придумай, зачем мою грязную рубашку напяливаешь, — огрызался Михаил.
— Если не женится зимой, я женюсь, — заявил Сашка-Сапси.
— Ругатель, матерщинник, таких не любят.
После свадьбы Богдану с Гэнгиэ выделили отдельную комнатку, и они зажили вдвоем. О женитьбе они не сообщили родителям, посчитали, что те об этом догадались по фотокарточке сами.
Возвратился Александр Севзвездин из Хабаровска, с восторгом рассказывал о знакомстве с автором первого нанайского букваря Ниной Александровной Вальронд.
— Это ученый, настоящий ученый с большой буквы! Обаятельный человек...
— Как дискуссия?
О дискуссии Александр Севзвездин рассказывал без пафоса, и Богдан понял, что он остался недоволен ею. Позже его догадки подтвердил сам Александр.
— Переливали воду, — сказал он. — Не пришли к единому мнению. Согласились, что нельзя пользоваться латинским алфавитом, и все. Надо, Богдан, браться за дело, разрабатывать грамматику, приспосабливать русский алфавит к вашему языку. Так думает и Нина Косякова, помнишь ее? Молодец она, работала с твоими отцом и матерью в Джуене, теперь — в Кондоне.
Они опять засели за работу. Трудно приходилось Богдану, он сам учился на предпоследнем курсе института, помогал Гэнгиэ, учившейся на трехгодичных педагогических курсах, помогал Севзвездину разбираться в тонкостях нанайского языка. Но сам он считал главной обязанностью — заботу о беременной жене.
Учебный год проходил обычным порядком в занятиях, в спортивных соревнованиях, в выступлениях на концертах художественной самодеятельности. Северяне Института народов Севера показывали свое искусство почти во всех рабочих клубах и домах культуры Ленинграда. Ленинградцы впервые видели чукотские, ненецкие танцы, слушали песни эвенков, хантов и манси, смеялись, глядя на «нанайскую борьбу».
Когда впервые Богдан с друзьями обдумывал репертуар нанайской группы, разгорелся спор. Девушки и женщины наотрез отказались выступать; танцевать они не умели, а петь не могут, воспрещается, мол, по старым обычаям. Без споров включили фехтование на коротких и на длинных палках. Когда Богдан предложил показать шаманский танец, запротестовал Сапси-Саша.
— Ты совсем спятил! — выкрикнул он. — Шаманский танец хочешь распространять в Ленинграде?
— Кто здесь станет его танцевать? — удивился Богдан.
— Так это же ради смеха, — встал на сторону Богдана Михаил.
Михаил привез с Амура настоящий шаманский костюм, бубен и гисиол-палку, побрякушки-янгпан. Теперь он был как настоящий шаман! И танцевал он не хуже шамана. Показывали нанайцы и свой коронный номер — «нанайскую борьбу». Исполнял эту шутку Сапси-Саша. Когда впервые он вышел с этим номером на сцену Дворца культуры, то так ловко имитировал борьбу двух мальчиков, что вскоре весь зал смеялся безудержно. Сапси совсем разошелся, подкатился к краю оркестровой ямы и стал изображать, как злой мальчишка старается спихнуть противника в яму. Тут уж не до смеха стало зрителям, повскакали мужчины с первых рядов, подбежали к яме, закричали:
— Хватит, ребята! В яму упадете! Остановитесь!
Протянули руки дюжие мужчины, чтобы подхватить драчунов, и в этот момент перед ними поднялся Сапси-Саша, откинул с головы подушки, и белые его зубы заискрились под светом электрических лампочек.
Поднялся такой смех, что стены дворца задрожали, люстры устрашающе закачались! Это был успех! Услышали ленинградцы о веселой «нанайской борьбе», и каждый захотел посмотреть на нее, вот и стали приглашать на вечера, отбоя не было.
Ленинградская сырая зима подходила к концу, когда Михаил наконец женился, и студенты-нанайцы поздравили друг друга с пополнением в их дружной семье. В это время Гэнгиэ ходила последние недели.
— Гэнгиэ, где мы тебе чоро поставим? — подтрунивал над ней Михаил. — Может, в парке, а?
— Тебе все смешно, — обижалась Гэнгиэ. — Мне боязно, а ты смеешься. Твоя жена говорит, чтобы я не боялась, ей хорошо, она не рожала.
— Родит, куда денется! Я ей чоро сделаю из самой пахучей хвои, пусть там рожает и знает, как наши матери нас рожали.
— Болтун! Язык бы твой укоротить. Передам я Людмиле твои слова, попрыгаешь.
Людмила Константиновна водила Гэнгиэ в женскую консультацию, где она впервые подверглась тщательному осмотру. Вернулась она молчаливой, смущенной.
— Стыд какой! Хорошо одни женщины были, а как если мужчины-доктора будут? Стыд какой! Я не пойду больше к докторам.
— Где рожать будешь? — спросил Богдан.
— Не знаю.
— Может, правда, чоро построить?
— Ты тоже смеешься...
— А что делать? Ты такое говоришь, что только остается смеяться. Где же будешь рожать, если не в роддоме?
Гэнгиэ молчала. В апреле она родила мальчика и, вернувшись, похвасталась:
— Ничего страшного, мужчин не было, все обошлось. Выполнила твой заказ, вот, смотри, какой твой кашевар.
— Ты думаешь, будет он кашеваром? — спросил Богдан.
— Кто тогда, если не кашевар?
— Он будет профессором.
— Пусть будет, только чтобы здоровеньким рос. Богдан сам написал письма о рождении сына в Джуен, Болонь и Нярги. А когда наступило лето, солнце пробилось сквозь ленинградскую пасмурность, родители сфотографировались с первенцем и отправили фотокарточки дедам и бабам, посмотрите, мол, на нас, вот вам доказательство.
Воспользовались солнечными днями и кинооператоры, они давно уже присматривались к северянам, зимой снимали несколько эпизодов из жизни Института народов Севера. Узнали они о новорожденном.
— Интересный сюжет, надо заснять, — растолковывали они Гэнгиэ, которая отказывалась сниматься в кино.—О, это будут потрясающие кадры! Дорогая, не отказывайтесь, у вас такое лицо! А малыш какой! Будем снимать. Так, отец и мать с Амура, а сын родился на Неве. Потрясающе! Мать не знала даже буквы, а теперь будет учительницей? Расчудесно! Прекрасно!
Тут выскочил Михаил с двумя мужскими косичками.
— А это косы отца, вот его, — указал он на Богдана.
— Косы? Отца? А что, разве мужчины косы носят?
— Да, да, носят. Богдан сюда приехал с косами, здесь ему отрезали, а он хранит их. На дне чемодана хранит.
Северяне хохотали. Богдан смеялся вместе с ними до слез. Он даже не помнил, когда отрезал косы, может, в Нярги, когда учился в школе у Павла Глотова, то ли когда пошел в партизаны, но расстался он с косами давно. В Ленинграде у него не хранилось, конечно, никаких кос, а те, что держал Михаил в руках, он привез с Амура вместе с шаманским костюмом и бубном.
— Это же сюжет! — воскликнули операторы. — Отец и мать с косами вначале, потом сегодняшние кадры. Это находка, не надо никаких сценариев.
— Правильно! — воскликнул Михаил, хотя и не знал, что такое сценарий.
Операторы начали готовить аппаратуру, а Михаил принялся заплетать косички Богдану.
— Короткие волосы, — ворчал он. — Зачем только стригут так? Вот, смотри, какие у меня.
— Так ты шамана каждый день изображаешь, — засмеялся Богдан. — А мне зачем длинные волосы? Ты зачем вытащил эти косы?
— Чтобы посмеяться.
— Тебе смешно, а если это кино покажут на Амуре?
— А что? И там посмеемся!
Богдана засняли с косичками, потом без косичек, с женой и сыном.
— Это надо понять так, — философствовал Сапси-Саша, — раньше жили так, теперь живем так. С косичками ходили, теперь без них. В чоро рожали, теперь в роддоме. Малышей поили рыбным отваром, сосать давали огрызок юколы, теперь молоком поим и пустые соски даем.
— Юкола вкуснее, сколько я помню, чем резиновая пустышка, — засмеялся Михаил.
— Ты всегда так, — обиделся Сапси. — Серьезно не можешь.
— Куда же серьезней!! Гэнгиэ, у тебя сын молоко пьет?
— Да, а что?
— Вот видишь, этот нанайский сын молоко пьет. Почему пьет? Потому что родился в Ленинграде. А кто родился в стойбище — не пьет. Не веришь? Будешь в Куруне, спросишь. Там одна добрая русская женщина ясли организовала, съездила в соседнее русское село Уссури, молоко привезла. Так думаешь, что? Ни один малыш в рот не взял. Им рыбу давай да мясо.
Сапси-Саша опять уезжал на каникулы на Амур. Завидовали ему многие, завидовали и Михаил с Богданом. Утешались лишь тем, что они перешли на последний курс и летом будущего года насовсем вернутся в свой родной край и никогда больше не расстанутся с ним.
Проводив Сапси-Сашу, Богдан с семьей, вместе с другими северянами, уехал под город Лугу. Лето проходило в заботах о жене, сыне, в работе над грамматикой нанайского языка. Часто навещал Богдана Александр Севзвездин. Он защитил диссертацию и получил первую ученую степень — кандидата филологических наук. Приезд его всегда вызывал оживление северян: Севзвездин как никто другой умел организовать азартные спортивные игры, он учил играть в волейбол, городки, создавал команды и устраивал соревнования. Сборная волейбольная команда, в которой он сам играл, в двух встречах победила команды горожан.
Богдан с Гэнгиэ получили ответы на свои письма из Нярги, Болони и Джуена, во всех письмах удивление, восторг и откровенная приписка: «Если бы не карточка — не поверили бы».
— Бабы и деды не верят, что ты есть на свете, — смеялась Гэнгиэ, целуя сына. — А мы есть! Правда? Мы уже люди. Скоро поползем, скоро на ноги встанем.
Возвратились в Ленинград к началу занятий. Людмила Константиновна сводила Гэнгиэ с сыном в детскую консультацию.
— Зачем это надо? — удивлялась Гэнгиэ. — До родов проверяют, после родов проверяют, мальчик уже суп скоро будет есть — проверяют.
— Чтобы здоровым рос, — отвечала Людмила.
— Так он здоров, сразу видно. Вот если бы он родился в чоро, тогда болел бы, а он родился в теплом доме.
— Теперь на Амуре тоже только в домах рожают, — сказал Михаил. — За этим сельсовет, женсовет следят...
Часто теперь друзья говорили про Амур, про колхозы. Когда возвратился Сапси-Саша, забросали вопросами.
— Мы здесь засиделись, — сказал в ответ Сапси, — пора домой. Там такое делается! Колхозы встали на ноги. Землю пашут, коров завели. Народ говорит, что надо организовать свой район, так будет удобнее. Все говорят так. Город начали строить на Амуре, всюду об этом говорят. Молодые люди со всей страны едут на Амур. Нам тоже пора возвращаться.
— Город строить?
— Нам район надо свой строить. Там, говорят, на нас надеются.
Задумались студенты. Курили, молчали.
— Нет Лукса, он посоветовал бы, что делать.
Да, был бы жив Карл Янович, посоветовал бы. А скорее всего сам принялся бы за дело. С чего бы, он начал?
— Может, письмо написать? — предложил Михаил.
— Куда?
— В Москву.
— Правильно, ребята, надо письмо писать, — сказал Богдан. — У нас на Амуре бывал Михаил Иванович Калинин, он знает о нас, о нашем крае. Он председатель ВЦИК. Надо ему писать, рассказать все, как было и как есть.
Подумали амурцы и решили писать письмо Всесоюзному старосте. Весь вечер обдумывали письмо, думали еще неделю, наконец написали, но отправили только через полмесяца. Ждали ответа с нетерпением. Отпраздновали Седьмое ноября, встретили новый, 1934 год, а ответа все не было. Засомневались студенты, заспорили.
— Кто нас послушает, кто мы такие?
— Не зря нас сюда послали учиться, должны послушать.
— Правильно, нас готовят здесь для работы на местах.
— Будто у Калинина другой работы нет, как наши письма только читать.
— Он решает, ВЦИК решает.
— Три года назад организовали по всему Северу национальные округа и районы, и у нас будет свой Нанайский район.
— Правильно, постановление об этом 10 декабря 1930 года было.
— Ох, какой он, все постановления знает!
— Хватит, ребята, чего раскричались? — оборвал спор Богдан. — Дело государственное, быстро важные вопросы не решаются. Подождем еще. Я думаю так, перед тем как принять решение, должны на местах искать кадры руководителей, должны советоваться с людьми. Иначе нельзя. Подождем. Я уверен, все будет хорошо.
С Богданом не спорили, возражали тоже редко: он был старше всех, пережил больше других, участвовал в гражданской войне. Ребята с удовольствием читали его воспоминания о гражданской войне и партизанских рейдах, напечатанные в одном из номеров институтского журнала «Тайга и тундра».
Вторая половина учебного года проходила в напряженных занятиях: Богдан готовился к выпускным экзаменам, Гэнгиэ тоже, и потому сына пришлось отдать в ясли. Мальчишка вытянулся, вставал сам на ножки и ходил, перебираясь ручками за кровати.
— Говори, ба-чи-го-апу, — учила по вечерам сына Гэнгиэ. — Повтори, бачигоапу, дедушка. Не выходит? Но ничего, до лета еще есть время, выучишься. Ты должен с дедом поздороваться, ты моя защита, а то дед все еще, наверно, злится, может ударить твою маму. Ты вот и смягчишь его сердце.
— Ну, защитник, шагай бодрее, — смеялся Богдан.
Пришел март. Однажды солнце заглянуло в комнату молодоженов.
— Солнце пришло за нами, — сказала Гэнгиэ. — Зовет нас на Амур. Пошли.
— Куда? — засмеялся Богдан.
— За солнцем, на Амур.
— Вот тебе на! Солнце на запад идет, в другую сторону от Амура. Чему тебя учили?
— Тому, что земля — шар. Если земля шар, мы приедем на Амур. Сынок, пошли, пусть папа остается.
Но в жизни получилось наоборот. Однажды Богдана вызвали к директору института. Явились Сапси, Михаил, Яков.
— Вам немедленно надо собираться, — сказал директор, — пришло отношение из Москвы, из ВЦИКа, сам Калинин Михаил Иванович подписал.
Друзья переглянулись, глаза их излучали радость, они готовы были броситься друг к другу — обняться крепко, по-охотничьи, но сдержались.
— Нам велено откомандировать вас в Хабаровск, в распоряжение крайисполкома, — продолжал директор. — Речь идет об организации национального Нанайского района.
Богдан не помнил, о чем говорил дальше директор института, от радости у него помутнело в глазах, заложило уши. Опомнился он за дверью директорского кабинета, когда друзья подняли его на руки и подбросили в воздух.
Известие о письме Михаила Ивановича Калинина и о выезде группы нанайских студентов моментально облетело весь институт. В этот, день счастливчики принимали поздравления товарищей, выслушивали их напутствия.
— А я как? — спросила вечером Гэнгиэ, когда остались одни в комнате.
— Курсы закончишь и приедешь. Ох, как я буду скучать! — Богдан обнял жену и сына, поцеловал, будто уже уезжал.
— Что, мы скучать не будем?
— Это же ненадолго, Гэнгиэ.
— Тебе хорошо, все свои рядом будут. Работы много...
— У тебя мало будет работы? Экзамены будешь сдавать. А рядом с тобой сын. Эх ты!
Через три дня весь Институт народов Севера провожал Богдана и его товарищей, провожал с духовым оркестром. Так еще никогда никого не провожали...
Перед Хабаровском Богдан не спал всю ночь: завтра он увидит Амур. Он встретится с родным Амуром! «Ты дома! Ты дома!» — стучали колеса, и этот стук, так надоедавший за многодневное путешествие, теперь мягко, сладостно отдавался в груди.
Рядом на полке безмятежно спал Сапси-Саша, на верхних полках — Моло-Михаил с Яковом Самарой. Да и почему им не спать, если они не раз ездили на Амур!
Богдан прильнул к окну, вглядываясь в ночную чернь. «Как-то встретят меня мои? — думал он. — Гида, друг детства, что ты скажешь? Неужели, чудак, будешь обвинять?»
Поезд бежал навстречу поднимавшемуся солнцу, становилось светлее. Приближался Амур. Богдан теперь не отрывал глаз от окна. Солнце поднялось за синими сопками, в вагоне пассажиры шумели за завтраком, Михаил совал Богдану в руки хлеб с кружочками копченой колбасы — тот словно ничего не замечал. Когда открылся впереди Амур, широкий, сверкавший от солнца, Богдан почувствовал, как сдавило горло, глаза заволокло туманом, и Амур вдруг стал расширяться, расширяться, затоплять берега... Богдан понял, что он плачет...
Он прильнул к стеклу, тыльной стороной ладони вытер мокрые глаза.
На вокзале нанайцы сдали вещи в камеру хранения и, не сговариваясь, пошли на берег Амура. Стояла тихая, жаркая погода, это был один из первых теплых майских дней.
— Сейчас мы встретим кого-нибудь, обязательно встретим, здесь всегда наших много, — твердил Михаил, приближаясь к речному вокзалу.
Вот и Амур. Богдан подошел к воде, наклонился, зачерпнул ладонями и выпил. Его примеру последовали остальные.
— Вкусная вода, как молоко матери, — сказал Михаил.
Здесь, на берегу Амура, они позабыли о своих шутках, были серьезны, как никогда. Постояв немного, они поднялись к базару, прошли между рядами, но не встретили земляков. Лишь после встречи с Амуром они пошли в крайисполком, к председателю. Беседа была деловая, непродолжительная. Прощаясь, председатель подытожил разговор:
— Вы первые нанайцы, которые учились советскому строительству в институтах, вам и организовывать свой Нанайский район. Будете в стойбищах, больше беседуйте с людьми, рассказывайте о ленинской национальной политике, разъясняйте ее суть. Смотрите, анализируйте, думайте, что еще надо сделать, чтобы жизнь нанайцев стала еще лучше. Вам работать в Нанайском районе, вам, как говорят, и карты в руки. А теперь идите в крайком, там вас ждут.
В крайкоме партии Богдан, Михаил и Саша предъявили партийные билеты дежурившему милиционеру, Яша протянул комсомольский билет.
— Проходите на второй этаж, в комнату сорок пять, — сказал милиционер.
Комната сорок пять. Богдан постучал в дверь и открыл. За столом сидел пожилой человек, с поседевшей головой и усами, до боли знакомый.
— Учитель! Павел Григорьевич! — воскликнул Богдан.
Богдан обнял бывшего своего учителя, прижался щекой к его плечу.
— Будем вместе работать, Богдан! В Нанайском районе будем работать. Меня рекомендуют туда секретарем райкома партии.
Глотов пожал ребятам руки, познакомился с каждым и, усадив их, стал расспрашивать. Услышав, что они собираются сегодня же выехать в родные места, усмехнулся:
— Быстрые какие. Нет, друзья, теперь вы уполномоченные крайисполкома, что,скажут, то и будете выполнять. Знаю, спешите к родным, но потерпеть надо. Не бойтесь, билеты на пароход вам купят, командировочные получите. Надо прежде решить здесь все организационные вопросы, скоординировать наши действия. А то разбежитесь вы по Амуру, потом ищи-свищи вас.
Все засмеялись. Глотов дал им направление в гостиницу и на вечер пригласил их к себе в гости.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Дед, ты скоро забудешь про свою оморочку, будешь на колхозном катере разъезжать по бригадам».
Пиапон не может без усмешки вспомнить эти слова Богдана.
«Какой бы катер мне ни дали, — ответил он, — я никогда без оморочки не смогу обойтись. Без оморочки я что без жены, детей, дома и родного Амура. Ты этого не поймешь. Я свою оморочку даже во сне вижу».
Разговор этот вели Пиапон с Богданом летом тридцать четвертого года, когда организовывался Нанайский район, когда народ избрал Богдана председателем райисполкома.
А потом Троицкая моторно-рыболовецкая станция выделила всем колхозам Нанайского района катера. Няргинцы свой тридцатисильный катер назвали «Рыбак-охотник». Ох, как гордились колхозники своим катером! Гордились мотористом Калпе — первым мотористом из стойбища. Теперь многие уж забыли, как смеялись над ним, когда он, увлекшись моторами, ушел из рыболовецкой бригады в мотористы, потом в водолазы. Холгитон, как маленький, просил прокатить его на катере, и Калпе, конечно, не отказывал, катал всех желающих по Амуру. Но Холгитону этого показалось мало, попросил он повезти его в Малмыж, похвастаться захотелось старому, мол, посмотрите, Холгитон приехал на своем колхозном катере. За Холгитоном к мотористу пристали рыбаки, поспорили они, сколько лодок может буксировать катер; одни утверждали, что если катер тридцатисильный, то он должен тащить тридцать лодок, другие не верили этому. Тридцать лодок не нашлось в Нярги, а на десять лодок посадили всех, и малых и старых, и катер Калпе поволок цепочку лодок, да так поволок, что бегом не догонишь. Тогда все поверили, что «Рыбак-охотник» не то что тридцать — шестьдесят лодок может буксировать.
Нынче с ранней весны стойбище Нярги переезжает на противоположный берег, на таежный. Колхозники разбирают деревянные дома и переплавляют на тот берег. «Рыбак-охотник» буксирует эти дома. Катеру нынче много работы. Кроме переплава разобранных домов, он таскает плоты из Черного мыса для новых домов: колхозники решили отказаться от глиняных фанз. Разговор о новом Нярги затеял Богдан в одно из посещений родного стойбища.
— Вы знаете, что недавно прошел второй съезд колхозников, — сказал он. — Государство отпускает вам ссуду на строительство домов и на приобретение скота. Подумайте и сами решайте, что вам делать. Я бы вам посоветовал переехать на таежный берег, построить там деревянные дома. Хватит жить по фанзам в грязи! Электричество и радио будет, как в Найхине. Не отставать же вам от найхинцев...
Хитрый Богдан разбередил душу колхозников — кто же откажется от нового деревянного дома! Колхозники решили построить новое село на таежной стороне и сами же сделали распланировку. Зимой они заготовили столько леса, что должно было хватить на избы всем колхозникам, проживавшим в глиняных фанзах. Сразу же за ледоходом стали плотами переплавлять лес в Нярги, здесь разбирали плоты и на лошадях развозили бревна по улицам будущего села.
Все это нравилось Пиапону — дела шли хорошо! Только глядя, как разбирают строители новую школу и перевозят на другой берег, он не мог простить себе одного: зачем он поторопился с ее строительством, когда сам думал о переезде на таежную сторону? Правда, колхозники сами требовали большую школу, но Пиапон мог их уговорить подождать год-два, и не пришлось бы теперь перевозить ее на тот берег. Уговаривал, да не смог уговорить, потому что заворожила их русская учительница. Это она виновата, что наперекор Пиапону колхозники построили новую школу. А заворожила она няргинцев так легко и просто, что они даже и не заметили, как это произошло. Посетив вечером школу несколько раз, они стали чувствовать к ней непонятную тягу. Если кто не мог пойти в школу по какой-либо причине, то на душе у него точно появлялся неприятный осадок, чувство какой-то неудовлетворенности. Тогда он бросал все дела, шел в школу, и душа его становилась на место.
Каролина Федоровна заворожила няргинцев, больших и малых, прежде всего своим граммофоном. В первый же день своего приезда, поселившись в доме Полокто, она завела свой граммофон. Полокто с молодой женой долго разглядывали говорящую трубу. Незнакомые звуки привлекли соседей, и вскоре дом Полокто был полон людей. В последующие дни слушать граммофон приходили в школу чуть ли не всем стойбищем. Чудо-труба и подружила няргинцев с учительницей. Закрепила дружбу мать учительницы, Фекла Ивановна; она сперва научила молодую жену Полокто печь булочки, шанежки, а потом настоящий хлеб, который до этого привозили с рыббазы, где была пекарня. Вскоре Фекла Ивановна организовала целую кулинарную школу. Она готовила из картошки, капусты, свеклы и моркови такие кушанья, что они сами просились в рот. Самые ярые противники огородов с завидным аппетитом поглощали изготовленные Феклой Ивановной кушанья. Теперь уж никто не высказывался против картошки, капусты и других огородных культур.
Потом приехал киномеханик и показал кино, первое кино в Нярги. На стене школы повесили белое полотно. Киномеханик наладил свою аппаратуру и пригласил молодых людей крутить динамик. Желающих было — хоть отбавляй. Первым начал крутить динамик Иван — внук Пиапона. Начал он крутить боязливо, но, когда увидел, как в лампочке стали накаляться ниточки, разошелся.
— Тише! Аппаратуру разобьешь! — прикрикнул на него механик.
Тут уж полезли няргинцы к чудо-динамику, каждому хотелось, чтобы и от его руки, от его силы загорелась лампочка. Установилась очередь. Даже Холгитон не вытерпел, и его пропустили без очереди. Он не спеша сел на скамейку, и, пока садился, лампочка стала потухать.
— Крути! Чего медлишь? — закричали на него.
Тут пришлось старику поторопиться, он схватился за ручку и завертел. Лампочка вспыхнула вновь и горела ровно.
— Хорошая штука, — сказал Холгитон Пиапону, когда его согнали со скамьи. — Надо купить для колхоза, в домах повесить лампочки, и по очереди всем крутить. Как думаешь? Свет-то, смотри, какой яркий.
— Ты одну лампочку кое-как зажег, а если их будет десяток, сумеешь все зажечь? — спросил Пиапон.
— Если не я, молодые смогут. Смотри, как у них ярко горит лампочка. Не думай долго, отец Миры, покупай...
Тут неожиданно погасла лампочка, зарокотал аппарат, и все обернулись на него.
— Не туда смотрите, на полотно смотрите! — крикнул Пиапон.
К изумлению няргинцев, на полотне появились буквы, и все хором начали читать — не зря столько времени учились в ликбезе. Но вдруг буквы стали исчезать — это очередной крутильщик, позабыв о своих обязанностях, тоже засмотрелся на экран.
— Ты крути, крути! — опять прикрикнул механик.
— Смотри ты, как все тут связано, — удивился Холгитон, когда прояснилось изображение на белом полотне.
Потом замелькали кадры: по полотну ходили люди, разговаривали, это видно было по шевелящимся губам, но все было непонятно, потому что никто не успевал прочитать текст под изображениями. На помощь пришла учительница: она громко читала текст и успевала даже прокомментировать непонятные сцены.
— Хорошая ты девушка, — сказал ей Холгитон после сеанса, — столько нового принесла в нашу жизнь. И сама красивая. Это кино интересней твоей трубы. Хорошо бы твою трубу поставить под белым полотном, на полотне люди играли бы, а твоя труба им подыгрывала.
— Звуковое кино уже есть, — ответила Каролина Федоровна. — На полотне люди человеческим голосом говорят.
— Этого не может быть. На полотне не живые люди, как они могут человеческим голосом разговаривать? Нет, этого не может быть.
Каролина Федоровна не стала переубеждать старика, придет время, сам увидит.
Седьмого ноября она организовала настоящий праздник. Раньше в Нярги тоже отмечали день Октября, но не было такой торжественности. Теперь возле школы соорудили трибуну, и демонстранты с флагами, плакатами с конца стойбища шли к этой трибуне, а партизаны в красных повязках впервые салютовали выстрелами из ружей. Новый год тоже был необычен для Нярги. Впервые в школе поставили елку и вокруг нее веселились дети в разных масках, изготовленных собственными руками. Потом отмечали женский праздник.
— Сколько же праздников у советской власти? — удивлялся Холгитон. — Даже женский праздник есть. У нас раньше всего два праздника было — весенний и осенний. Времени не было у нас...
— Времени и сейчас мало, — объяснял Пиапон. — Просто теперь уже никто не боится завтрашнего дня, все знают, что не придет голод, как бывало прежде. У каждого теперь сбережения есть, а в магазине он все может купить. Раньше ты даже соседу не всегда давал взаймы, а теперь ты подписываешься на заем, государству даешь взаймы денег, чтобы оно могло лучше укрепить свою оборону. Вот как. Жизнь наша стала совсем другой...
Учительница завоевала любовь молодежи тем, что начала обучать желающих игре на гитаре и мандолине. Равнодушных не нашлось, все захотели учиться музыке. К удивлению Каролины Федоровны, ноты молодым охотникам давались легче, чем школьная грамота. Учительница отнесла это за счет способности нанайцев к музыке. Инструментов не хватало, и Пиапону пришлось за счет колхоза купить еще три балалайки, две гитары и две мандолины.
К лету Каролина Федоровна организовала сносный струнный оркестр, и молодежь выезжала с концертами на рыббазу, в Малмыж и Болонь. К радости Пиапона, комсомольцы активно стали помогать ему во всякой работе. Они и выступили с инициативой немедленного строительства новой школы. Вот и пришлось теперь ее разбирать и перевозить на другой берег.
...Пиапон переплыл протоку и вышел на спокойную воду озера Ойта. Его догонял катер Калпе.
— Эй, председатель, подцепляйся! — закричали с катера.
— Катер не потянет, — засмеялся в ответ Пиапон и махнул рукой: — Езжайте, езжайте!
Черный от машинной копоти выглядывал с катера Калпе и улыбался брату.
«Совсем новый человек, — подумал Пиапон. — Изменился — не узнать, вот что значит любимое дело. Рыбаки, охотники лучше его зарабатывают, но он привязался к своему мотору, о заработках не думает. Раньше разве он так поступил бы?..»
Катер обогнал оморочку Пиапона и направился в Нярги. Хотя там не было еще распланированных улиц, разбросанно стояло несколько готовых домов и срубов. Пиапон все же ясно видел новое село. Планировали село всем колхозом, решили по обрывистому берегу проложить одну улицу, а другая будет спускаться к ней от сопки. Секретарь сельсовета Шатохин вычертил план села, обозначил места для магазина, клуба, школы, правления колхоза и сельсовета, потом колхозники стали выбирать усадьбы. Споров не было, места всем хватало. Бухгалтер предложил сразу же возле каждого дома ставить столбы, потому что в районе выделяли средства для электрификации и радиофикации Нярги.
Пиапон видел новое село с прямыми улицами, аккуратными домами, опутанными паутиной проводов. Новое Нярги — это детище Пиапона, воплощение его мечты о новой жизни. Его ли только? О новых рубленых домах думали все нанайцы, как только пришел достаток.
— Эй, председатель, люди полным ходом работают, а ты тихо ездишь на оморочке, не работаешь! — кричали с катера, возвращавшегося в старое Нярги за новым плотом.
«Полным ходом, — усмехнулся Пиапои. — Выдумают же. Даже новые слова сразу приклеивают. Появился катер Калпе, старшина кричит в трубу «полный ход», вот и понравилась, видно, команда».
Плот, привезенный катером, разбирали, и тут же грузили бревна на телеги, развозили по местам. Вся территория будущего села превритилась в большой строительный участок, здесь трудились няргинцы, пришедшие им на помощь малмыжцы и рабочие рыббазы — все опытные плотники.
Пиапон пристал возле неводника, наполненного свежим мхом. Тут толпились женщины и дети, они мешками таскали мох к строящимся домам. Была среди них и учительница.
— Бачигоапу, Пиапон Баосавич! — поздоровалась она. — Почта была? А то надоели плотники, требуют новостей. Где их я возьму, если нет газет?
Пиапон улыбнулся, протянул ей районную газету «Сталинский путь».
— Вот это хорошо! — обрадовалась учительница. — Любят они читать свою газету.
— Ты ведь им читаешь.
— Я читаю. Ко потом они сами читают нанайскую страницу. Мое чтение их не удовлетворяет, я ведь так коверкаю нанайские слова.
Каролина Федоровна взвалила на плечи мешок с мхом и стала подниматься по крутому склону к дому Улуски. Пиапон поднялся вслед за ней. Возле высокого сруба хлопотала Агоака с внуками, она собирала щепки. Тут же кантовали бревна Оненка и Кирилл Тумали, наверху на срубе трудились Улуска с зятем.
«Теперь совсем развалился большой дом, — подумал Пиапон, глядя на сосредоточенного Улуску. — Теперь пришел конец большому дому. Улуска, Калпе, Хорхой — все строят свои дома, заживут, наконец, отдельно своими семьями».
— Агэ, обедать где будешь? — спросила Агоака.
— Только приехал — и уже обедать, — усмехнулся Пиапон.
— Приходи к нам, сейчас я полынный суп сварю.
— На полынный суп надо прийти. Ладно, уговорила.
Строители собрались под срубом, закурили трубки.
— Сруб мы скоро поставим, — заговорил Улуска, — доски на пол, потолок есть. Гвозди, стекло на окна есть. Все есть, только вот чем крышу будем крыть — не знаю.
— Как не знаешь? Две бригады дранку готовят, — сказал Пиапон. — Или ты не хочешь драночную крышу?
— Не умеем мы крыть этими дранками, — сознался Оненка.
— Русские помогут, вон какие они плотники. Кузьма Лобов говорит, что дом построит без единого гвоздя.
— Хвалится. Как без гвоздя можно?
— Нет, не хвалится, я видел, как он топором работает, даже узоры делает на наличниках. Это мастер.
— Вот бы железом крышу покрыть, — мечтательно проговорил Улуска.
— Ох и человек ты смешной! — воскликнул Оненка. — Много ли ты видел домов с железными крышами? Самые богатые русские только имели такие крыши. Ты скажи спасибо, что дом тебе строят деревянный, ты об этом всю жизнь мечтал, во сне видел. Ишь какой, давай ему железную крышу.
— Да не сердись, — усмехнулся Улуска. — Я так просто. Когда человеку дарят берестяную оморочку, ему хочется другую, из досок. Разве когда удовлетворишь человека?
Пиапон был доволен Улуской, правильно рассуждает.
— Ничего, отец Гудюкэн, пока покроем твой дом дранкой, — сказал он. — Потом, может, железо добудем, перекроем. Только не надо слишком спешить, мы еще не такие сильные и богатые, чтобы все сразу сделать. Медпункт надо, дом для электричества, для радио, новую баню. Все это потребует много сил и много денег. А отставать от других сел — стыдно. В Найхине радио, электричество, они там Москву слушают, а мы чем хуже?
— Ох и жизнь идет! — воскликнул темпераментный Оненка. — Вот это жизнь. Как только мы раньше жили — не понимаю. Что в соседних стойбищах делается, не знали, а теперь?! Помнишь, отец Миры, как мы по твоей карте искали, где этот пароход «Челюскин» затонул? Надо же, а!
Помнит, конечно, Пиапон, как же не помнить, когда это произошло два года назад. А карту он случайно увидел в книжном магазине в Вознесенском и купил. Карта — не глобус, но и по карте Пиапон любил искать всякие земли, города — приучила к этому Лена Дяксул. Когда получили известие о «Челюскине», Пиапон воткнул на место гибели ледокола гвоздь и от него стал карандашом чертить пути самолетов, вывозивших челюскинцев. «Игра Пиапона» — так назвали в Нярги затею председателя колхоза. Карта эта до сих пор висит в конторе правления колхоза, она так истрепалась, что не сразу найдешь нужный район или город.
— Карта — хорошая штука, — сказал Пиапон, — газетную новость по ней сразу зримо представляешь. Я нашу районную газету учительнице передал, так что новости Нанайского района услышите.
— О нас, наверно, тоже пишут. Интересно про себя послушать, о других узнать, — проговорил Кирилл.
Пиапон выбил пепел из трубки, собрался к соседним строителям.
— Отец Гудюкэн, ты отметки делаешь о работе Оненка, Кирилла, зятя своего? — спросил он.
— Нет, не делаю, — сознался Улуска.
— Как тогда бухгалтер за их труд будет платить?
— Мы не возьмем денег, — заявил Оненка.
— Как не возьмете?
— Так. Не возьмем и все. Мы не работаем, а помогаем. Когда в старое время дом кто строил, все стойбище сбегалось ему на помощь, и никто за это денег не просил.
— В старое время все по-другому было...
— Нет, не по-другому. Так же было, как и сейчас. Я сам пришел на помощь Улуске и денег за это не возьму. Он придет мне на помощь — тоже не возьмет. Вот как было раньше, и сейчас так должно быть.
— Чудак ты, Оненка. Ты не просто помогаешь, ты колхозник, строишь дом, и колхоз за это тебе выплачивает заработок.
— Я для своего друга дом строю и денег с него не возьму.
— Не с него же деньги, колхоз выплачивает.
— Чего ты, колхоз да колхоз? Не для колхоза я дом строю, для своего друга строю.
— А ты, Кирилл, так же думаешь?
— Да, а как еще по-другому думать?
— Ты тоже? — спросил Пиапон зятя Улуски.
— Мы вместе будем жить! — расхохотался зять Улуски. — У самого себя, что ли, деньги требовать?
Пиапон больше не стал спорить, пусть бухгалтер разбирается, ему виднее.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пиапон кустами, напрямик, направился к конторе, которую уже заканчивали строители. Старый дом не требовал больших хлопот, его разобрали, перевезли и собрали здесь, на таежной стороне.
Хорхой с Шатохиным придирчиво осматривал свою сельсоветскую половину.
— Дед, штукатурить, наверно, нельзя, дом еще сядет? — не то утверждая, не то спрашивая, обратился к Пиапону Хорхой.
— Как Шатохин думает? — спросил Пиапон.
— Может, осенью заняться этим, — неопределенно ответил секретарь сельсовета.
— Ладно, потерпим. Столбы ставят?
— Ставят и провода сразу натягивают.
— Хорошо, — удовлетворенно потер руки Пиапон.
На колхозном собрании было решено первым делом перевезти контору, потому что контора — это вроде штаба строителей. Малмыжские связисты обещали сразу подключить контору к районной телефонной связи. Это было нетрудно выполнить, телеграфно-телефонная линия проходила рядом, в километре от нового Нярги. А телефон теперь был необходим и Пиапону и Хорхою для связи с Воротиным и с райисполкомом.
— Контора будет готова, и телефон будет, — сказал Пиапон. — Это хорошо, не надо посылать в Малмыж гонцов, чтобы передать одно слово. Ну, а теперь рассказывайте, как ваша бригада работает.
— Заканчиваем дом Хорхоя, — ответил Шатохин. — Такие темпы у нас, бегом не угонишься.
Четыре рыббазовских плотника ставили дом Хорхою. Бригаду возглавлял Кузьма Лобов, лучший плотник рыббазы, своими руками срубивший половину домов на базе. В бригаду Лобова включились и Хорхой с Шатохиным.
— Красиво работают, — восхищенно сказал Хорхой. — На соревнование вызывали Гару, но Гара отстал, он еще сруб не закончил, а мы стропила ставим. Ладно, дед, мы пошли, бригада ждет.
Пиапон вышел вслед за Хорхоем и Шатохиным.
— Но! Родная! Но! — кричал бородач-малмыжец, подгоняя лошадь. Лошадь, нагнув голову, тащила нагруженную бревнами телегу. За первой телегой шла вторая, а сверху уже спускались другие возчики. Это были малмыжцы-колхозники, которых Митрофан направил на помощь няргинцам. Сам Митрофан тоже приезжал и с удовольствием махал топором.
— Молодцы вы, черти, — говорил он няргинцам. — Новое село строите. Вот это будет настоящая новая жизнь.
А Пиапон, слушая друга, думал: «В районной газете пишут, что нанайские колхозы на буксире тянут русских, мол, русские колхозы по всем показателям отстают от нанайских. Какой же это буксир, когда малмыжцы сами пришли на помощь? Нет никакого буксира, есть дружба, которая всегда была между русскими и нанай».
— Здорово, Пиапон! — окликнул его возчик-малмыжец. — Ты в самом деле надеешься все село за лето построить?
— Чего не построить? С такими помощниками два села можно построить.
— Да, кипит у тебя работа!
— Для себя стараемся, хотим жить лучше.
Пиапон стоял возле конторы и смотрел на берег, где строители разбирали плот, а женщины и дети, встав цепочкой, передавали кирпичи с рук на руки — выгружали кирпич, привезенный с Шаргинского завода. Катер Калпе тащил через протоку плот с очередным разобранным домом. А вокруг Пиагюна стучали топоры, тарахтели телеги, и ветерок разносил аромат смолистой щепы. Пиа-. пон стоял и вдыхал этот приятный запах свежей смолы, древесины, запах строительства, и ему казалось, что от нового Нярги всегда будет исходить эгот запах юности и молодости.
— Дед, Гара зовет тебя обедать, — сказал внук Иван, подходя к Пиапону.
— Меня мать Гудюкэн на полынный суп пригласила, — засмеялся Пиапон. — Как у вас дела? Сильно отстали от Кузьмы Лобова?
— Отстали. С ними трудно соревноваться, они работают, как артисты.
Пиапон не понял, что значит работать «как артисты», но не стал переспрашивать у внука. «Вот еще новые словечки, — подумал он. — Как артисты работают. Наверно, так хвалят». Он проводил взглядом высокую стройную фигуру внука и покачал головой. «Растут молодые, умом сильные делаются».
Иван, внук Пиапона, учился в Найхине на курсах и теперь работал в ликбезе, а также возглавлял комсомол в Нярги. Это он выступил в Нанайском районе инициатором движения, которое так и называлось: «Выучился сам грамоте, выучи другого». Теперь Иван был пока без дела, потому что народ занимался строительством и по вечерам все валились с ног от усталости. Чтобы не бездельничать, Иван пошел в бригаду Гары, строил ему дом.
«Клуб обязательно нужен молодым, без него теперь нельзя, — думал Пиапон. — Уголок чтоб был в клубе, где бы газеты, журналы, книги лежали, шашки и шахматы. Ох, сколько еще строить надо! Но прежде всего жилье. Потом на очереди клуб, дом под электричество, конюшня, коровник. За лето все не построишь, наверное, много уж слишком».
Из конторы Пиапон спустился к ключу, где стояли палатки малмыжцев; здесь, у больших котлов, кашеварили приехавшие к мужьям жены.
— Продукты есть на завтрашний день? — поинтересовался Пиапон. — Рыбу свежую надо?
— Рыбки бы неплохо поджарить, — ответила моложавая круглолицая повариха. — Мясца бы еще свежего.
— Некому за мясом съездить. Может, у вас в Малмыже кто продаст бычка, купим.
— Ворошилин, может, продаст...
— Этот дорого запросит, кулак есть кулак. Ладно, подумаем, мясо всем надо.
Чуть ниже палаток малмыжцев поднимался дом Холгитона. Собрали большой дом уважаемого старика быстро, бревнышко к бревнышку, поставили стропила, накрыли досками. Холгитон со стороны наблюдал за работой, он ни во что не вмешивался, в этом и не было нужды — складывали готовый дом.
— Ты чего, отец Нипо, не идешь слушать учительницу? — спросил Пиапон. — Я привез районную газету.
— Какие новости? — спросил старик.
— Пойди послушай.
— Тебе самому трудно рассказать? Ты ведь ее прочитал.
— Прочитал. Новости те же, в каждом селе строят, весь Нанайский район обновляется.
— Так должно быть, мы сами обновляемся, и села должны обновляться. Как там джуенцы?
Холгитон очень интересовался Джуеном, потому что когда на колхозном собрании выбирали, с кем соревноваться, то он настоял на Джуене.
— Мы переезжаем всем селом на новое место, не надо поэтому рисковать, — твердил он. — А джуенцев победим, они топора держать не умеют.
— Там Пота, Токто, — говорили ему.
— Чего они вдвоем построят? Соревноваться с Джуеном надо, вызывайте их.
Так колхоз «Рыбак-охотник» вызвал на социалистическое соревнование джуенцев из «Интегрального охотника».
— Джуенцы три дома строят, — сообщил Пиапон.
— Вот видишь, а у нас сразу десять строят. Мы их победим.
— Ты забываешь, что нам помогают соседи.
— Ты тоже забываешь, что мы строим новое село, перевозим дома через протоку. Еще какие новости?
— Опять ругают стариков и женщин, которые не хотят учиться, в ликбез не ходят.
— Про меня не говорят?
— Нет, курунских ругают.
Холгитон поплямкал губами, но трубка была пуста и не горела. Он примолк. Не любил старик этих сообщений в районной газете, потому что сам отказался ходить в ликбез из-за того, что не мог запомнить латинских букв. Он из номера в номер ожидал появления в газете своего имени. Знал он несколько русских букв и с удовольствием разглядывал те страницы, где было написано по-русски, хотя не мог прочитать ни одного слова, но стоило упасть его взгляду на нанайскую страницу с латинскими буквами, как он откладывал газету в сторону. Хотя боялся Холгитон, что упомянут в газете его имя, но любил слушать сообщения на родном языке. Читал ему внук школьник.
— Кто там главный в этой газете? — спросил Холгитон Пиапона.
— Оненка Александр, в Ленинграде учился вместе с Богданом, книжку «На Амуре» написал.
Книжку Оненка и Севзвездина «На Амуре» читали как приложение к букварю во всех нанайских школах и в ликбезах. Книжка всем нравилась, потому что бесхитростно рассказывалось в ней об Амуре, о чайках, обо всем, что было знакомо нанайцу с пеленок. Холгитону тоже прочитали «На Амуре», и он был в восторге.
— Умный человек этот Оненка, — сказал он. — Зачем только так оскорбляет старых людей, зачем называет в газете их имена? Это же нехорошо! Сейчас все читают газету, и все узнают этих стариков. Плохо, совсем плохо, не уважают старых. Надо Богдану сказать, чтобы он запретил оскорблять стариков.
— Это не оскорбление, отец Нипо, это критикой называется. Пристыдили в газете человека, он одумается, не захочет, чтобы еще раз упоминали его имя с плохой стороны, учиться пойдет.
— Может, это и правильно, а все же не надо стариков выставлять на посмешище. Женщин можно, но стариков нельзя.
Пиапон засмеялся. Старик набил трубку табаком, закурил.
— В новых домах, говорят, свет будет, — заговорил он после непродолжительного молчания. — Это хорошо. Радио тоже хорошо. Я слушал, когда в городе в больнице лежал. Но когда все это будет?
— Какой ты нетерпеливый стал...
— Я хочу на все посмотреть перед смертью, я в буни твоему отцу все перескажу.
— Не торопись, туда всегда успеешь.
— Говорю тебе, купи эту крутилку, которая при кино лампочку зажигает, поставлю я ее дома и буду потихоньку крутить и при ярком свете сидеть. У меня много крутильщиков, сильные все.
— Не торопись, скоро будет свет. Обещаю тебе, к зиме ты увидишь, как загорится в твоем доме лампочка. Видишь, столбы уже ставим...
— Отец Миры, зря я рано родился. Сейчас бы мне молодым быть... Сколько бы я познал, чему бы я только ни научился! А теперь что, жизнь кончается...
— Перестань о смерти думать. Заболеешь, поедешь к Коста Стоянову, он тебя вылечит.
— Да, верно, Коста все можег, он мне кусок моей собственной кишки показал, никто из нанай в жизни не видел своей кишки, а я видел.
«Ну, началось, — подумал Пиапон. — Теперь не остановишь...» Он вытащил трубку, закурил и приготовился уже в который раз слушать рассказ Холгитона.
Первый хирург молодого города Комсомольска Коста Стоянов понимал, что за простой операцией последуют совсем не простые последствия. Он знал, кого оперирует, а до Холгитона встречался не раз с другими охотниками-нанайцами и уже знал о них достаточно много, чтобы понять их уклад жизни, отношения, их религиозные верования. Коста Стоянов был не лишен самолюбия, этого спутника молодости, и ему хотелось, чтобы Холгитон изумлялся, восхищался его умением. После операции он навестил Холгитона, посидел возле него, успокоил. Через два дня старик ожил, повеселел. Когда Коста зашел к нему в палату, он спросил:
— Ты чего у меня вырезал?
Коста сел рядом и начал объяснять, что такое слепая кишка. Старик не верил, что природа допустила с человеком такую оплошность.
— У всех есть эта лишняя кишка? — спросил он. — И из-за нее я мог умереть? — и, как всегда, категорично заявил: — Нет, в человеке ни снаружи, ни внутри нет ничего лишнего.
Тогда Коста Стоянов принес заспиртованный аппендикс и показал Холгитону. Старик долго разглядывал отросточек, понюхал зачем-то банку.
— И из-за этого я мог умереть? Тьфу! Хоть бы большая была, а то с палец. Ты зря на него столько спирта потратил, жалко спирта.
— Я хотел тебе показать, — засмеялся хирург.
С этого дня и подружился Холгитон с хирургом-болгарином. Старик долго и дотошно расспрашивал, где находится Болгария, что это за страна, почему Коста оказался в Комсомольске. Услышав, что отец и мать Косты коммунисты, что их преследовали и они вынуждены были эмигрировать в Советский Союз, он убеждение сказал:
— Так не должно быть, нельзя за людьми, как за зайцами, гоняться. Ты верно говоришь, что до вас еще не дошла советская власть?
— Не дошла.
— Да, плохо, совсем плохо вам. Нельзя жить без советской власти. Я думаю, она обязательно должна прийти к вам.
— Мы установим справедливость, — серьезно ответил Коста Стоянов, растроганный сумбурными, но идущими от глубины сердца рассуждениями Холгитона.
...Пиапон терпеливо выслушал рассказ старика и добавил:
— Отец Нипо, ты забыл сказать, что Коста на хирурга выучился в Москве, раньше ты это говорил.
— Верно, говорил. Сейчас я сказку обдумываю про него, должна получиться. Село достроим, ты зажжешь яркую лампочку, и я расскажу новую сказку.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Райисполкомовский катер, на котором ехал Богдан, вышел из Троицкого рано утром. В каждом селе издали узнавали его и выходили на берег встречать секретаря райкома партии или председателя райисполкома — только они ездили на нем, но катер проезжал мимо. Проехали Славянку, Джонку, с правой стороны промелькнуло новое Нярги с обозначившимися уже улицами.
— Няргинцы молодцы, Богдан Потавич, — сказал старшина катера. — За такой короткий срок столько сделали.
— Это всеобщий энтузиазм, горит народ, рвется к новому, — ответил Богдан. — А еще дружба крепкая помогает. Одни няргинцы не смогли бы быстро так строить, им помогают малмыжцы, рыббазовские плотники.
В полдень проехали Болонь. Богдан сидел в рубке рядом со старшиной. Любил он поездки на катере по Амуру. Едешь, смотришь по сторонам и думу думаешь бесконечную. Хорошо! Проезжая Нярги, он вспомнил свою первую встречу с Пиапоном, с дядями, тетями после возвращения из Ленинграда.
...В Малмыже, сойдя со шлюпки, он увидел Митрофана и почувствовал, как задрожали руки: он был на родной земле, перед ним стоял лучший друг его деда — Митрофан Колычев. Чтобы унять волнение, Богдан взял чемодан, отошел в сторонку и, отвернувшись, вытер глаза, потом очки.
«Ишь, с носовиком ходит, в очках», — услышал он за спиной чей-то шепот. Он повернулся и опять встретился с испытующим взглядом Митрофана. Богдан подошел к нему и молча обнял.
— Я Богдан, ты меня помнишь, Митрофан?
— Богдан?! То-то гляжу, вроде знакомый! — говорил, тиская по-медвежьи Богдана, Митрофан. — Вот радость-то Пиапону, вот радость. Ты насовсем? Закончил учебу?
Стали подходить другие малмыжцы.
— Глянь-кось, это же Богдан, няргинский человек! В Ленинграде учился, — передавали малмыжцы друг другу.
— Смотри, какой стал, в очках, важный.
— Городской, жил в Ленинграде столько лет.
Митрофан повел Богдана домой. Надежда тоже сначала не узнала гостя, вежливо приняла его, как принимала всяких приезжих, а ездили теперь к Митрофану Колычеву многие.
— Ты что, мать, не признаешь, что ли? — усмехнулся Митрофан.
Седовласая, постаревшая Надежда как-то близоруко, с неловкостью взглянула на Богдана и покачала головой.
— Так это же Богдан.
— Богдан? Из Нярги?
Надежда всплеснула руками, прижала к груди Богдана и заплакала.
— Наш Ивянка тоже мог таким возвратиться...
— Мать, хватит...
Митрофан сам повез Богдана в Нярги, сам сел за весла.
— Ты теперь дянгианом будешь, нечего грести, на катере будешь разъезжать, — говорил он. Но Богдан все же уговорил его уступить весла и с удовольствием греб до Нярги. На мягких ладонях красной брусникой зардели мозоли.
— Вот контора, там Пиапон и Хорхой, кажись, это они в окно и глядят, — проговорил Митрофан, вытаскивая лодку.
Когда Митрофан с Богданом, взяв по чемодану, пошли к дому Пиапона, на крыльце конторы появились Хорхой с Шатохиным. Митрофан помахал им рукой. Вышел на крыльцо Пиапон, быстрым шагом направился наперерез, а потом вдруг побежал. Он узнал Богдана. Обнял Пиапон любимого племянника и обмяк сразу, заплакал. Подбежали Хорхой, Шатохин, из большого дома выскочил Калпе, за ним ковыляла на кривых ногах Агоака, бежали Иван, Дярикта и Хэсиктэкэ, Ойта и Гара и их многочисленное потомство. И завертелась карусель из людских тел на песчаном берегу Нярги, заголосили женщины. Когда опомнились, уже все стойбище находилось тут. В Болони встречали так же жарко, как в Нярги; родственники — везде родственники. Только отец Гэнгиэ долго хмурился.
— Я тебя обвиняю, — заявил он, — если бы не ты, она не сбежала бы в Ленинград.
— Сбежала бы в Хабаровск, во Владивосток или в Николаевск, — усмехнулся Богдан. — Какая разница?
— Никуда не сбежала бы.
— Не знаешь ты свою дочь, не понимаешь, что принесла молодым советская власть. Молодые хотят учиться, они не могут жить замкнуто, как жили раньше...
— Хватит, зять, — примирительно проговорил Лэтэ. — Сердит был я только поначалу, когда со мной поссорился Токто. Потом мы помирились, и я все забыл. А когда мы услышали о внуке, голову потеряли. Как так, столько жила с первым мужем, и ничего, а уехала в Ленинград — и родила. Доктора помогли, что ли? Ты зачем оставил их в Ленинграде? Скоро они будут здесь?
Напускное ворчание отца Гэнгиэ не задело Богдана, впереди был Джуен, там отец с матерью, Токто с Кэкэчэ и Гида. Как они встретят?
Катер обогнул мыс Нэргуль и вышел на озеро Болонь. Впереди в колышущемся мареве полоской чернел остров Ядасиан. В последние месяцы Амурская флотилия усилила военные учения — неспокойно стало на дальневосточной границе, японцы часто стали нарушать границу. Канонерские лодки, мониторы приплывали в район Малмыжа, маскировались в прибрежных тальниках и вели учебные стрельбы по острову Ядасиану. Поэтому лучше было обойти его стороной, и катер направился к мысу Малый Ганко. На озере гуляли довольно высокие волны.
Помнит Богдан, в прошлый раз озеро тоже бугрилось такими же волнами. Лишь в полночь добрался он тогда до отцовского крова. Постучался в дверь знакомой землянки, спросил, можно ли зайти?
— Кто-то приехал. В дверь стучат, — заговорили в землянке.
— Заходи, кто там, — раздался голос Поты.
У Богдана ослабли вдруг ноги, он с трудом перешагнул в темноте через порог.
— Кто такой? Из Болони?
— По-нанайски говорит...
Богдан узнал голоса матери, Токто, Кэкэчэ, Онаги, Дэбену. Он достал было спички, но в это время зажглись огоньки в нескольких местах сразу. Пота сполз с нар, зажег керосиновую лампу. Богдан стоял у порога и не мог двинуться с места.
— Проходи, чего стоишь в дверях? — проговорил Пота, оборачиваясь к ночному гостю. — Откуда, из района?
У Богдана язык будто прилип к небу, слова не может произнести. Он облизнул губы, хотел ответить отцу, но тут с нар кошкой спрыгнула Идари.
— Ты чего? — удивился Пота.
Но Идари уже подбежала к сыну, обняла и зарыдала.
— Сын! Сынок! Это же сын вернулся! Вы что, не узнали, это же мой Богдан вернулся! Богдан мой...
Тут Пота одним прыжком очутился возле сына, оттолкнул жену и стиснул Богдана в объятиях. С нар торопливо сползли Токто, Кэкэчэ. Онага набрасывала на плечи халат и искала тапочки. Только один Гида не пошевелился, натянул одеяло до подбородка. Богдана тискали в объятиях, тузили по спине, целовали и плакали. Плакали только женщины.
— Невестку мою заманил! — хлопал Богдана по спине Токто и хохотал. — Вот шаман! Издалека заманил. Вор ты, весь в отца, он твою мать тоже украл. Молодец! Вот это мужчина. Где Гэнгиэ, где мой внук? Да, он мой внук, не смейся. Приедут? Скоро? Ты не прячь их, сюда сразу привези. Эй, Гида, чего прячешься? Богдан должен прятаться, а не ты! Сползай сюда, быстрее!
Гида послушно вылез из-под одеяла, подошел к Богдану и молча обнял.
— Ты же сам понимаешь, я ведь не виноват, — сказал Богдан.
— Понимаю, что теперь говорить, — вяло ответил Гида.
В эту ночь в землянке никто уже не спал. Пота с Токто разбудили продавца, накупили в магазине водки и закатили пир. Женщины варили мясо, рыбу, готовили любимые блюда Богдана.
«И чего я боялся? — удивлялся Богдан. — Они все понимают».
...Катер переплыл озеро и мчался вдоль берега. Впереди мыс Сактан, за ним Сиглян — и появится Джуен, самое окраинное село в Нанайском районе, с которым прерывается всякая связь весной и осенью на несколько месяцев. Даже почта в это время не может добраться сюда. Только с прокладкой железной дороги Хабаровск — Комсомольск Джуен получит почтовую связь с Троицком через Хабаровск и Комсомольск и не будет медвежьим углом, каким был раньше и есть сейчас. Катер обогнул Сиглян, и впереди забелели строящиеся новые дома.
— Весь Нанайский район сплошная новостройка, — сказал старшина.
— Да, весь район, — задумчиво повторил Богдан.
— Здесь маловато строят, всего три дома заложили.
— Своими силами обходятся, а плотники они, прямо скажем, неважные, не то что амурские нанай. С этой стороны три дома, да за сопкой тоже должны строить...
Катер джуенцы заметили давно, вышли встречать его на берег.
— Богдан приехал! — закричали молодые джуенцы, увидев его в капитанской рубке. Пота вглядывался в знакомое, чуть озабоченное лицо сына, и его охватила робость. Когда Богдан приезжал выбирать делегатов на организационный районный съезд, он был еще просто сыном, который долгие годы был в отлучке. Потом на съезде его избрали председателем райисполкома, и с тех пор отец стал робеть перед ним. Что делать? Подойти, обнять и поцеловать? Но как воспримет он, Богдан? Как отнесутся посторонние? Поте хочется подойти к сыну, но не может сдвинуться с места. Богдан здоровался за руку с встречающими, обнял Токто, а Пота все стоял за спинами, боялся подойти. Наконец Богдан подошел и к нему, обнял.
— Ты не рад, что ли, отец? — улыбнулся он.
— Рад, сын, да не привык я к твоему положению, — смущенно проговорил Пота. — Надолго приехал?
— Как могу надолго приехать? Завтра утром обратно, надо во всех селах побывать.
Прибежала Идари, обняла сына, поцеловала и потащила за собой, как провинившегося мальчишку.
— Какой бы ты ни стал дянгиан, ты мой сын, — говорила она. — А если сын, то должен прежде всего зайти к матери, попить чайку, потом можешь делать что тебе угодно. Если бы не подошла, наверно, в контору пошел бы. Ты тоже хорош! — набросилась она на мужа. — Стоит как пень, не притащит сына домой. Чего ты его стесняешься? Он твой сын!
Пота с младшим сыном Дэбену построили в тридцать пятом году рубленый дом и жили в нем. Всего в том году было построено четыре избы, нынче ставили пять. Джуен медленно превращался в современное село.
— Ты чего Гэнгиэ не привез? Боишься, что отберем? — насел Токто, когда сели за стол.
— Она работает в женотделе, да и я не на прогулке, езжу, ругаюсь со всеми, — улыбнулся Богдан. — Вот с отцом придется тоже поругаться. Плохо, отец, у тебя с животноводством, огородничеством. Две коровы пало, не хватает кормов, телку собаки загрызли. Вместо двенадцати гектаров посевов у тебя всего девять. Дохода ты не получаешь ни от коров, ни от огорода. В чем дело? Ты ведь соревнуешься с «Рыбаком-охотником», а там дед получает высокие доходы, с умом руководит колхозом...
— Ему хорошо, у него корейцы выращивают овощи, они мастера, а в Джуене кто умеет? Никто не умеет, некоторые до сих пор картошку не едят. — Пота глубоко вздохнул и добавил: — Трактор собираюсь покупать, на станции Болонь продают.
— Не рано?
— Нет, трактор нужен.
— Смотри, документы оформляй по всем правилам. Строители не надоедают? Народ там всякий, заключенных, вербованных много...
— Надоели, — сердито проговорил Токто. — В амбары лезут, оморочки угоняют. Не хотят строить эту железную дорогу, бегут...
— Ничего, потерпите, закончится строительство, лишний народ уберется. Отец, как ловится рыба? Как с планом?
— Рыбу ловим, думаю, годовой план перевыполним.
— «Рыбак-охотник» в прошлом году на двести процентов выполнил план.
— Охотничий план мы тоже перевыполнили, — сказал Токто.
— Верно, на триста с лишним процентов, — Богдан вытащил из полевой сумки районную газету и протянул Токто. — Прочитай, здесь про тебя пишут. Не научился читать? За это в другой раз попадешься в газету, тогда не будут хвалить.
Богдан вслух прочитал заметку «Лучший охотник района», где рассказывалось о Токто.
— Во! Если бы я оставался председателем колхоза, меня как хотели, так бы и ругали, — усмехнулся Токто. — Теперь я охотник, и меня хвалят. Выходит, правильно я сделал, что ушел в охотники, теперь, отец Богдана, ты меня не уговаривай больше, бригадиром даже не хочу быть, только охотником.
— Меньше ответственности? — спросил Богдан.
— Ругать в газете не будут, и ты не станешь придираться.
— Никто никого зря не ругал, отец Гиды. Ты когда-нибудь слышал, чтобы ругали председателя колхоза «Рыбак-охотник»? Везде его ставят в пример, потому что свое хозяйство он ведет с умом, колхоз у него богатый. За что его ругать?
— Пиапон умный человек, мне разве сделать, чтп он делает? Председателем я был, потому что людей не хватало, подставной председатель был.
Богдан допил кружку чая и пошел в контору сельсовета. Молодой председатель сельсовета Боло Гейкер, брат Онаги, сидел за столом и что-то писал. Увидев Богдана, он вскочил со стула, подбежал и, здороваясь, протянул обе руки.
«Вот ты какой, молодой человек, — подумал Богдан, — вот почему ты пишешь такие рапорты. Черт бы побрал тебя с этими рапортами».
В районе было повальное увлечение сочинять рапорты, писали их и в райком партии, и в райком комсомола, даже в свои сельские Советы.
Богдан сел, положил полевую сумку на колени. Он пристально посмотрел в глаза Боло Гейкера и решил пока не начинать главного разговора.
— Для получения пособий по многодетности документы требуются. Ты составил их?
— Нет, не умею я их писать, — ответил Боло.
— Писать-читать где научился?
— Здесь, Косякова научила.
— Дальше учиться не захотел?
— Отец не пустил.
— Охотником называешься еще. Девушки наперекор отцам едут учиться, а ты? Попроси учителя Андрея Ходжера, он поможет. Документы надо составить, чтобы все матери, которые имеют семь и больше детей, получили пособия. Это важное государственное дело. Как с подпиской на заем? Ведешь подготовку?
— Говорил с охотниками об этом, подпишутся...
— Подписка будет осенью. Комсомольскую работу здесь ты ведешь? А кружки военные работают у тебя?
— Работают, ворошиловских стрелков, БГТО, ПВХО, учитель помогает.
Богдан помедлил, ему не очень хотелось устраивать разнос этому робкому, малограмотному парню. Но поговорить с ним все же следовало. Богдан вытащил из сумки листок бумаги и начал читать:
— «В Нанайский райисполком от Джуенского сельсовета, колхоза «Интегральный охотник». Благодаря вашего большевистского руководства колхоз «Интегральный охотник» выполнил план первого квартала 1936 года на 10% по рыбодобыче, на 45% по лесозаготовке. При вашей большевистской помощи мы имеем 9 стахановцев, выращиваем пять коров, быка и два телка, из которых пали две коровы из-за недостатка кормов, одного телка собаки загрызли. Имеем два выкидыша кобылиц...» — Богдан взглянул на Боло. — Это ты писал?
— Я писал.
— Зачем?
— Как зачем? Все пишут рапорты, в районе требуют рапорты, вот и пишу.
Боло глядел светлыми, младенчески-невинными глазами, словно спрашивал: «Чего хочешь? Сам же требовал рапортовать в конце каждого квартала».
— Пиши просто, зачем «благодаря большевистского руководства».
— Так это же такая форма, в райкоме я переписал.
— Головой думай, а не придерживайся формы. Вот из-за этой формы и получается, что благодаря нашей большевистской помощи пали две коровы и собаки загрызли телка. Ты это понимаешь?
— Какая форма рапорта, так я и писал.
— Боло, хочешь учиться?
— Куда мне, жена, дети.
— Сколько людей оставляют на год жен, детей — едут учиться на курсы. Ты не хочешь?
— Нет, не хочу. Я бы ушел из сельсовета, охотиться люблю.
«Здесь все любят охотиться и никто не хочет учиться, — с горечью подумал Богдан. — Джуен единственное село, откуда никто не поехал учиться, если не считать Гэнгиэ. Надо расшевелить молодежь, заставить учиться».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Деревянный дом слева давно разобрали и переправили на тот берег. Теперь разобрали дом справа, и большой дом Полокто остался в одиночестве, как оставался он сам в одиночестве в родном стойбище, среди родственников и сородичей. С тоской глядел старый Полокто на таежный берег, где прямыми рядами выстраивались новые дома, а его дом оставался в старом Нярги. В начале переселения он с усмешкой наблюдал за сородичами и крепко надеялся на детей и внуков — помогут разобрать и переправить его дом. Пригласил он Ойту и Гару, спросил:
— Поможете переправить дом?
Помолчали сыновья, подумали.
— Это как колхоз скажет, — ответил наконец Ойта.
— Мне привезли бревна, начинаю дом себе строить, — сказал Гара.
— Я тоже начинаю строить, — вставил слово Ойта.
— Будто на неделю не можете задержаться со своим строительством?
— Нет, не можем, — ответил Ойта, — мы в колхозе, отец, нам в помощь выделены люди, а потом мы будем помогать другим.
Полокто ничего больше не сказал сыновьям, он уже понял, что бесполезно говорить с ними. «Колхоз отобрал у меня детей и внуков», — с горечью подумал он и обратился к Улуске, может, этот поможет, родственник ведь, зять.
— Эх, отец Ойты, — улыбнулся Улуска. — Меня все считают тупоголовым, а ты, вижу, тупее меня. Я мог бы тебе помочь, но я теперь колхозник, а колхозное наше братство — это больше чем родственное. Понял? Мои друзья Оненка, Кирилл помогают мне строить дом, а потом я пойду им помогать. Вот это наше колхозное братство. А ты кто? Единоличник...
Не рассердился Полокто на Улуску, которого всегда считал глупым, только подумал: «Может, он и прав, колхозник колхознику теперь больше помогает, чем родственники. И впрямь, братство, выходит».
Одиноким человеком уже несколько лет жил Полокто среди людей. Отказавшись вступить в колхоз, он занимался своим хозяйством. Был у него невод, да как одному рыбачить? Зимой он гонял почту на своих лошадях или вывозил лес в леспромхозе. Вот и весь его заработок на весь год. Заработок неплохой, хватило бы на двоих, если бы молодая жена не требовала обновы. Полокто любил жену и потакал ей во всем, боясь ее потерять. Внучкой называли в стойбище молодую жену Полокто, и это была правда, она была ровесницей его внуков. Очень боялся Полокто за нее, оберегал ее, как умел, услаждал, лишь бы не ушла она от него, старого. Когда Хорхой попросил его поселить русскую учительницу, он с радостью согласился. «Она будет не в одиночестве, будет с учительницей», — думал он. Очень надеялся Полокто на русскую и, когда встретился с ней, обрадовался — учительница оказалась такой, какой он и представлял — общительной, веселой, умной. Но прошло совсем немного времени, и пришлось Полокто разочароваться — учительница вовлекла молодую женщину в комсомол, стала по вечерам водить на ликбез, на репетиции. Полокто не мог при учительнице ругать жену, запрещать ей ходить в школу; даже не будь учительницы, навряд ли стал он бы ее ругать, потому что все время жил в страхе, что она бросит его и уйдет к молодому.
Молодая жена скоро поняла свое положение в семье, стала верховодить, понукать мужем. Когда построили новую школу и там же большую комнату для учительницы, русская девушка с матерью перешла в свое жилье. Тогда Полокто совсем испугался, бросил ямщицкую работу, превратился в сторожа своей собственной жены.
— Чего не работаешь? — наседала жена. — Все работают, а ты сидишь дома. Откуда у нас будут деньги? Все мужья покупают женам всякие материи, а ты купил мне? Я хочу русское платье сшить, а где достану материал, на какие деньги?
Полокто махнул рукой и уехал на лесозаготовки. Приезжал он домой редко и каждый раз замечал изменения в жене. Краем vxa слышал он о ее проделках, говорили в стойбище, что внук при живом деде продолжил его. Старый Полокто гадал, который из внуков оказался таким ретивым, так рано похоронил его и живет с его женой — старший сын Ойты или Гары, который из них?
«Хоть бы скорее умереть, избавиться от этого позора», — думал Полокто. Жена совсем отбилась от рук, никакие уговоры не действовали на нее. Лежа в постели, он говорил ей:
— Не позорь меня, подожди немного, я скоро умру, тогда ты будешь сама себе хозяйка. Я тебе оставлю дом, лошадей, денег.
— Буду ждать, как бы не так! Ты еще не скоро умрешь. Я за это время постарею, — отвечала она. — А дом твой мне не нужен, лошади; тоже. Прошлым летом жена забеременела, и все в стойбище знали — не от Полокто будет ребенок. И пошли толки-перетолки по Амуру, издевались люди над Полокто.
— Поделом ему, так ему!
— Каких жен избивал, а молодая за старших отомстила.
— Чего он не изобьет ее? Почему не убьет?
Слушал Полокто эти разговоры и думал: «Сыновей отнял колхоз, жену отнял комсомол». Он бесконечно устал от этой непонятной жизни, закружила его жизнь, как щепку в амурской крутоверти, а он сам не делал никаких усилий, чтобы выплыть. Однажды явилась Гэйе. Она давно не заходила в большой дом, с тех пор как покинула его. «Теперь твой черед, дождалась своего времени»,— подумал Полокто.
Гэйе подсела к нему, закурила.
— Чего молчишь? Ну, добивай, мсти! — закричал Полокто.
Гэйе курила и молчала. Это было так необычно, неожиданно. Полокто тоже молчал, ждал.
— Хотела я мстить тебе, отец Ойты, — наконец промолвила Гэйе, — бежать уже собралась, плюнуть в твое лицо собралась. Так забилось мое сердце, что даже помолодела от мысли, как я тебе отомщу. И прямо тряслась. Потом вдруг что-то меня остановило. Знаешь что? Мать Ойты остановила меня, как при жизни ее не раз бывало. Я подумала, что бы она сделала, будь жива. Неужели стала бы плевать тебе в лицо и издеваться? Нет, никогда бы она этого не сделала, она пришла бы к тебе и сказала: «Отец Ойты, успокойся, возьми себя в руки, пусть говорят люди, что хотят. Мы с тобой оба опозорены». Я пришла к тебе, отец Ойты, сказать это же. Успокойся, мы оба опозорены...
Полокто, не ожидавший ничего подобного, вдруг прижался к Гэйе и заплакал; плакал он по-старчески тихо, только плечи его вздрагивали. Гэйе обняла его за шею и всхлипнула.
— Вернись, доживем вдвоем, а ее я выгоню, — предложил Полокто успокоившись.
Гэйе вытерла глаза, лицо и сказала:
— Нет, отец Ойты, не вернусь.
— Зачем тогда все это наговорила?
— Так сделала бы мать Ойты. А я по-другому... Нет, я не вернусь, мне с тобой нечего делать. Буду жить у Гары, внуков нянчить буду...
Жена Полокто родила дочь, но девочка прожила всего три дня и умерла, как ни бился над ней Бурнакин, принимавший роды. Не выгнал Полокто жену, не мог он этого сделать, не мог остаться один-одинешенек в своем большом доме. Смирился он и глядел теперь сквозь пальцы на любовные похождения жены.
— Переезжать думаешь? — спрашивала жена. — Или один здесь останешься? Ну и оставайся! Я перееду одна, ты живи тут.
Вспомнил Полокто про Хорхоя, которого все время считал щенком, не признавал его председательской власти. На этот раз пришлось к нему обратиться.
— Как я могу перевезти твой дом, дед? — удивился Хорхой.
— Ты сельсовет, должен.
— Колхоз перевозит, все силы в колхозе. Мне самому дом он строит. У сельсовета нет на это ни денег, ни сил.
«Сельсовет не может, только колхоз может», — думал Полокто, сидя возле своего дома и наблюдая, как вывозят на берег стены только что разобранного дома. Колхозники дружно связали из бревен плот, сверху нагрузили доски, рамы со сверкавшими стеклами, и катер Калпе повел плот на противоположный берег.
— Вступай в колхоз, отдай лошадей, зачем они тебе? — сказала жена в этот вечер. — Ты даже с ними не можешь управиться, не то что другое делать...
На следующий день Полокто встретился с Пиапоном. Глядя на них, никто бы не сказал, что разница между ними всего в два года. Сгорбленный Полокто, с дряблым морщинистым лицом, со слезящимися глазами совсем не походил на стройного Пиапона, с тугими обветренными щеками, острым взглядом и чуть побелевшими на висках волосами. Оба брата чувствовали неловкость. Они так редко встречаются, хотя живут совсем рядом, в одном стойбище.
— Дом перевезешь? — спросил Полокто.
— Надо колхозников спросить, — ответил Пиапон. — Согласятся они перевезти, перевезем.
— Когда?
— Нынче, сам видишь, не поспеваем.
— В будущем году, перевезешь?
— Как успеем.
— Одному мне тут оставаться?
— Ты один не колхозник.
Это верно, Полокто один в Нярги вне колхоза, он показывает свой характер — как-никак он сын Баосы — не вступает в колхоз!
— Уговаривать станешь в колхоз вступать? — спросил он.
— Зачем?
— Скажешь, вступишь в колхоз — перевезем нынче дом.
— Не стану уговаривать, не вижу в тебе большой пользы для колхоза.
Ошарашенный Полокто взглянул на брата, на насупленные черные брови, резкие глаэа и понял, что тот и на этот раз не покривил душой.
— Вначале, когда нам трудно было, тогда мы просили, твои лошади нужны были колхозу, — продолжал Пиапон. — Теперь, сам знаешь, сколько у нас лошадей, в твоих не нуждаемся.
Полокто так растерялся, что не находил ответа и молчал. Горько было слышать правду. Но как же дальше-то жить? Так же одиноко жить среди своих? Одному остаться на этом песчаном острове, потому что жену не удержишь, она сбежит в новое село. Что же делать, как быть?
— Ты сперва оторвался от людей, потом от родственников, потом от детей и внуков. Кто виноват, отец Ойты, кого ты можешь обвинять?
— Тебя. Ты принес новую власть, — жестко проговорил Полокто.
— Если это я принес новую власть, выходит, я много сделал для людей, счастье они познали. Но ты слишком высоко меня поднимаешь, новую власть нам принес Ленин, его ученики — большевики. Об этом знает даже Холгитон, он про Ленина сказку придумал, а ты до сих пор не можешь понять. Это твоя беда.
— Беда, беда, кто его знает, — пробормотал Полокто. — Ты, отец Миры, всегда советовал мне, когда трудно мне было. Что же ты посоветуешь сейчас?
— Не знаю, отец Ойты, что и посоветовать. Вернись к людям.
— В колхоз идти? Ты же сам только говорил, что я не нужен в колхозе.
— Не говорил я этого, я сказал, что пользы от тебя мало. Охотиться, рыбачить будешь в полсилы, дом построить не сможешь. В огороде не станешь землю ковырять, на лесозаготовках тоже — силы уже ушли, старость подошла.
— Ты все обо мне знаешь, знаешь лучше самого меня. Все верно, что ты сказал. Силы ушли, пришла старость, а тут дети ушли, одного оставили. Обидно, отец Миры. Какой бы я ни был плохой, зачем же родного отца бросать?
— Они не бросили тебя, ты сам их выгнал.
— Можно было помириться.
— У нас ведь у всех характер нашего отца, у них — дедовский!
— Это тоже верно, в деда характерами.
Разговор перешел на мирный лад. Братья закурили, поговорили о новом селе, о домах.
— Долго я думал, — сказал Полокто, — зачем мне одному такой большой дом. Хотел однажды тебе предложить, чтобы ты для колхоза забрал, да не решился, думаю, ты по-своему истолкуешь, мол, бери дом, а с домом и меня в колхоз. Не стал предлагать. А дом большой, в нем можно кино показывать, спектакли смотреть, молодым веселиться.
— Да, можно, — согласился Пиапон.
— Забери ты его колхозу, чего я, как одинокая крыса, буду в нем жить. Забери.
— Как это я так заберу?
— Забери и перевези, сделай Дом молодежи, пусть мои внуки и внучки веселятся в нем. Ничего взамен я не прошу, даром отдаю.
— Все это по закону надо, бумаги составить.
— Хорхой, что ли, составит?
— Да, он должен. А ты где будешь жить?
— Останусь здесь, отремонтирую небольшую фанзу и буду один жить, как охотники в тайге живут. Лошадей мне не прокормить, две лошади забери, это лошади Ойты и Гары, колхозные, выходит.
— Ты как перед смертью...
— Кто знает, когда умрем. Мы с тобой никогда так не разговаривали, как брат с братом, сердце мое ты растопил. Жили бы мы дружно так всю жизнь, может быть, по-другому пошло.
— Ты ведь...
— Что теперь говорить, теперь поздно. Ладно, пошли ко мне Хорхоя с бумагами, лошадей забери, они тебе и сейчас нужны, вон сколько бревен возить.
Полокто отвернулся и зашагал к дому, волоча отяжелевшие ноги. Пиапон глядел на сгорбленную его спину и думал, что, может быть, он, Пиапон, виноват, можно было и раньше наставить его на верный путь, если бы удалось так тепло, по-братски поговорить однажды о жизни, о детях... Все возможно.
Не мог он думать иначе.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Утро было прохладное, ненастное: мелкий дождь выбивал оспинки на водной глади, надоедливо трещал по брезентовому плащу. Хорхой был рад и прохладе и дождю: ему так редко удается вырваться на любимую рыбную ловлю. Все дни у него теперь заняты с утра до вечера: он достраивал дом, вел сельсоветские дела. Дом его строился в рекордно короткий срок благодаря мастерству Кузьмы Лобова и его товарищей, а сельсоветские дела были запущены. Проверили паспорта районные милиционеры и пришли в ужас, а разве виноват один Хорхой, что вышло так нелепо с некоторыми. Старушке Дукула Оненка записали сто десять лет. Кто в этом виноват? Хорхой? Спросили ее, когда она родилась, отвечает, когда большая кета шла. Вот и гадай, в каком году большая кета шла? Гадали, гадали, опять спросили: «Что еще было в том году?» — «В том году большие дожди шли». Опять загадка! Замучились со старухой, да и поставили примерный год, а теперь проверяющие подсчитали — ей сто десять лет, взглянули на нее — никак не дашь ей столько, старушке в третий раз в пору замуж выходить. Холгитону записали пятьдесят лет. А одному молодому охотнику оказалось всего пятнадцать лет. Хорхой помнит, как записывали ему год рождения. Спросили родителей: «В каком году родился сын?» — «Когда Пиапон с медведем в трубки играл», — отвечают. Спросили Пиапона, в каком году он с медведем в трубки играл? А он не помнит, тогда и поставили тоже примерный год.
Почему теперь милиционеры обвиняют Хорхоя, они ведь сами присутствовали, сами выдавали паспорта? Обидно.
Хорхой вдруг заметил впереди колыхавшуюся траву. Он сбросил одеревенелый брезентовый плащ, поднял острогу и, встав на ноги, стал тихонько подталкивать оморочку. Холодный дождь сыпал за ворот рубашки, но Хорхой ничего не чувствовал, ничего не видел, кроме пучка травы, которую подминал и ел амур. Взметнулась острога, саженная рыба на мгновение замерла, потом рванулась в сторону и поволокла древко остроги.
— Есть! — не удержавшись, воскликнул Хорхой.
Это был первый амур, добытый в Нярги за нынешнее лето. Если амуры заходят в заливы, значит, вода еще прибудет. Но няргинцам теперь не опасно никакое наводнение, все они переселились на высокую таежную сторону. Переселились даже те, которые на песчаной стороне жили в фанзах, а на таежной не имели еще своего дома: они жили в берестяных хомаранах. Вера людей в колхозную силу была так велика, что все надеялись нынче же заиметь собственный рубленый дом.
Хорхой подобрал древко остроги, тихонько стал подтягивать бечевку и, когда показалась толстая лобастая голова амура, сильно ударил его колотушкой. Через минуту красавец амур лежал в оморочке позади Хорхоя. Дождь продолжал сыпать, но Хорхой не стал больше надевать тяжелый плащ.
В выставленных на ночь сетях бились сазаны, караси, щуки. Улов был хороший, Хорхою хватило бы его на неделю, а то и больше. Но хозяин сетки уже распределил весь улов: одного сазана и хороший кусок амура — Пиапону, другого сазана и кусок амура — Калпе, потом Улуске, Ойте, Гаре. Такое родовой обычай. Теперь у Хорхоя есть еще соседи слева, справа и через улицу — им тоже положено по одной рыбе. Это уже новый обычай, появившийся после распада родов.
Хорхой направил оморочку в Нярги и замахал веслом, обдумывая предстоящие дела. Милиционеры закончат сегодня с паспортами. На строительстве дома тоже все в норме, пол и потолок есть, крыша есть, дверь и окна вставлены, землю требуется наверх натаскать — это сделают дети. С коровами, с собаками надо решить дело. Райисполком выделяет ссуду колхозникам на приобретение коров, но сколько ни уговаривает их Хорхой, пока не находится желающих. Кое-кто из многодетных приучают детей к молоку, покупают в колхозе, но от своей коровы отказываются — хлопотное дело, для коровы стайка потребуется, корм надо заготовлять на зиму, доить каждый день. Никому не хочется уделять корове столько времени. Держит хозяин свинью, накормил утром, накормил днем, а осенью — мясо. Никаких хлопот. А о собаках так и говорить нечего, их даже кормить не надо, пусть сами добывают корм.
Вот из-за этих собак пришлось Хорхою крепко поссориться с няргинцами. И так на Хорхоя со злобой смотрели многие, не могли простить сожженных сэвэнов, а тут еще собаки, загрызли они колхозного телка.
— Ты советская власть, надо какие-то меры принимать, — сказал Пиапон. — Думай, Хорхой.
— А что думать? — ответил Хорхой. — Взыскать с хозяев собак стоимость телка — и все.
— Тебе говорят, думай, а ты — «и все». А чьи собаки загрызли? Твоих или моих там не было? Не видел?
— Не видел.
— Так вот, сделать надо так, чтобы собаки без мяса колхозных телок были сыты и телки живы. А если за каждого телка штрафовать всех колхозников — что получится?
Хорхой, по своему обыкновению, конечно, не стал долго шевелить мозгами. Посоветовался с Шатохиным и издал указ: привязать всех собак! Вот тогда-то и взбунтовались няргинцы. Кргда это было видано, чтобы собак держали на привязи? Где это было видано, чтобы их лишали свободы? Пришли колхозники в контору Хорхоя, окружили его.
— Кормить собак ты будешь?
— Мы будем на себя работать, а ты тогда на собак работай!
— А если тебя держать на привязи?
— Эх ты, дырявое ухо, додумался!
Много обидного услышал Хорхой, но все же стоял на своем. Сам угрожал и угрозы слышал, сам советовал и советы выслушивал — все было. Но наконец не выдержал и закричал:
— Стрелять будем всех собак!
На минуту затихли охотники, так были удивлены они этим заявлением.
— Как стрелять? В кого? В собак? — спросил кто-то тихо.
— В собак! Не привяжете — стрелять будем!
— Тогда я тебя, сукиного сына, заставлю вместо моей собаки по тайге рыскать, — спокойно заявил Оненка.
— Тогда ты сам пойдешь вслед за моей собакой, — сказал за ним Киле. — Я-то в ухо не стану стрелять.
И все замолчали. Хорхой тоже молчал. Он не ожидал такого хладнокровия и спокойствия, ожидал ругани, криков.
— Ты лучше в меня стреляй, чем в мою любимую собаку, — сказал Тумали.
— Чего придумал, в собак стрелять, — промолвил Оненка. — Из-за какой-то твари, называемой коровой, убить моего лучшего друга. Надо же такое придумать. Моя собака за зиму добудет в двадцать раз больше мяса, чем весит твоя вонючая корова.
— Нехорошо ты сказал, хотя ты и председатель, — наконец проговорил присутствовавший при ссоре Холгитон. — Балаболка ты, головой думать не хочешь. Поговорил бы ты с народом, народ тебе сказал бы верное слово. Зачем привязывать собак? Охотничьи собаки не могут жить на привязи, с тоски завтра же умрут. А твои коровы — они не свободные, их можно держать на привязи.
— Дом у них есть, коровник есть свой!
— Вот, слышишь, что тебе говорят? Дом есть у них, а у собак нет, загони этих коров в дом, и никакая собака туда не полезет и не тронет. Собаки умные, они не зайдут в чужой дом.
— А кормить коров кто будет? — спросил Хорхой.
— Колхоз.
— Колхоз — это ты, Оненка, Киле, Тумали и все другие. Вы будете каждый день косить траву и носить, с утра до вечера будете только на них работать? Так, что ли? А когда рыбу ловить, на огородах работать?
Ответ был весомый. На самом деле, если запереть этих прожорливых коров, придется их кормить, траву косить где-то на стороне, на лодке перевозить и носить на своем горбу в коровник. Нелегкая работа.
— Ну что, согласны на них работать? — спросил Хорхой. Он торжествовал. — Работать будете бесплатно, колхоз не выдаст ни копейки за эту работу, потому что, когда коровы бродят на свободе, они сами щиплют траву и колхозу не надо за это кому-то платить. Так что, решили?
Ничего не могли придумать охотники: собак не хотелось держать на привязи и коров не хотелось кормить в коровнике. На помощь пришел Митрофан Колычев, приехал он на катере с халкой и перевез коров на остров. Охотники остались довольны — собаки на свободе. Зато запротестовали доярки — Мима и Исоака, далеко им ездить на остров доить коров, в непогоду не переедешь протоку. А охотникам что, собаки на свободе — это главное, а доярки пусть сами выходят из положения. На женщин они смотрели свысока. Можно за короткий срок привести народ к новой жизни, организовать колхозы, возвести новые села, но за этот срок изменить отношение мужчин к женщинам не удалось. По-прежнему еще можно было видеть, как мужчина на корме лодки сидит, правит, а жена на веслах гребет из последних сил — это муж везет больную жену в соседнее село к фельдшеру.
...Хорхой пристал на берег, вытащил оморочку. Никто его не встречал. Дом его стоит на верхней улице, туда подниматься по крутому склону, потом надо обогнуть огород — далеко и тяжело тащить улов. Да еще самому тащить! Раньше женщины управлялись с этим делом, мужчина добывает рыбу и мясо, а добычу должны прибирать женщины. А новое Нярги самим своим местом расположения изменило этот старый, казавшийся вечным уклад жизни.
Председатель сельсовета развесил сети и потащил в мешке половину улова. Дома еще спали. Он вывалил рыбу, разбудил жену и пошел обратно за другой частью улова.
«Вот так теперь придется на себе таскать, — думал он, возвращаясь с тяжелой ношей. — Жена не видит, вернулся я или нет, до нее не докричишься, чтобы шла за рыбой. Неудобное место выбрали».
Когда он вернулся, жена уже разделала амура и крошила талу. Хорхой разбудил старших детей, дал каждому по сазану, по хорошему куску амура и наказал отнести Пиапону, Калпе, Улуске. Тала из амура была сочная, жирная. Хорхой с удовольствием съел ее полную тарелку. Потом похлебал поспевшей ухи, попил чаю.
— Давай покажем пример, — сказал он жене. — Купим корову.
— Я боюсь коров, — ответила Кала.
— Привыкнешь. Пример надо показать. На первых порах тебе мама поможет, она уже опытная доярка. Надо обязательно купить корову.
— Как ты желаешь, отец Боло, если хочешь — купи.
— Не я хочу, пример надо показать.
К семи часам в селе застучали топоры, плотники принялись за работу. Хорхой тоже взял топор и пошел к Шатохину.
— Вкусного сазана ты поймал, — встретил его Шатохин, — такая тала получилась — пальчики оближешь.
— А я все еще не могу привыкнуть к сырой рыбе, — сознался Кузьма Лобов.
— С водкой даже не идет? — поинтересовался его сосед.
— Летом не-е, зимой идет.
Дом Шатохину заложили на днях, секретарь сельсовета решил накрепко осесть в Нярги. Хорхой с Шатохиным работали на стройке по утрам и по вечерам, а днем надо было исполнять обязанности в конторе. Дождь продолжал моросить, но никто вокруг не обращал на него внимания, отовсюду доносился стук топоров, шорканье пил.
К десяти часам Хорхой с Шатохиным пришли на работу в контору, там было необычно многолюдно и тихо.
— Все, связь налажена, можете звонить куда угодно, — сказал связист.
— С Москвой можно говорить? — с насмешкой спросил кто-то.
— Можно.
— Вот врет, даже не улыбнется. Хорхой подошел к связисту, поздоровался.
— Принимай работу, председатель, — улыбнулся связист. — Можешь разговаривать с кем угодно. Связь такая, сперва Малмыж, потом уже они свяжут тебя с кем надо.
Вошел Холгитон, пробрался вперед к висевшему на стене аппарату.
— Нет, давай ты свяжись сперва сам, — попросил Хорхой. — Покажи, как делается. Ну, попроси Троицкое, председателя райисполкома Богдана Заксора.
Связист покрутил рычажок аппарата, снял телефонную трубку и закричал:
— Малмыж! Малмыж! Как слышите? Хорошо? Давайте мне Троицкое. Что? Занято? Пойми ты, тут полная контора людей, все хотят поговорить с председателем райисполкома. Лады. Сразу звони...
Телефонная трубка повисла на рычажке.
— Твои слова по железной нитке идут? — спросил Холгитон. — Ты, правда, с Богданом можешь говорить?
— Вот сейчас соединят и поговорим.
— Ты только один можешь?
— Почему? Ты тоже можешь. О чем будешь говорить? Вот у председателя сельсовета, должно быть, дело есть, а тебе о чем говорить?
Холгитон обиделся на связиста, но не стал ему отвечать, пусть думает, что старому Холгитону нечего сказать Богдану.
Зазвонил телефон. Связист потребовал райисполком, председателя. Прошло немного времени, и в трубке раздался приглушенный расстоянием голос.
— Товарищ председатель райисполкома, связь с Нярги установлена, докладывает связист Сидорчук, — закричал связист. — Передаю трубку председателю сельсовета.
Сидорчук протянул трубку Хорхою, но Холгитон спокойно взял у него трубку и закричал:
— Я Холгитон! А ты кто?
— Отец Нипо, здравствуй! — ответила трубка. — Я узнал твой голос. Я Богдан. Ты меня слышишь?
— Хорошо слышу, нэку, очень хорошо! Будто ты совсем рядом, под моим ухом говоришь. — Холгитон отстранил от окна связиста и смотрел на далекую голубую сопку, за которой находилось Троицкое. — Ты совсем рядом. Как хорошо! Что? Все здоровы в Нярги, я совсем здоров, с утра до вечера на ногах, слежу, как дома строят, не ленятся ли некоторые, подгоняю. Да. Да. Доктор будет у нас? Насовсем работать приедет? Хорошо. Что? Дом ему построить? Построим, построим. Я сам буду следить. Верь мне. Аха. До свидания, нэку, до свидания. Работай, заседай.
Холгитон важно повесил трубку. Все присутствовавшие враз заговорили, начали осаждать старика, хотя в притихшей конторе все слышали далекий голос Богдана.
— Какой доктор? Может, коровий доктор?
— Какой ему дом, жилой?
— Молчите! — прикрикнул Холгитон и сказал Хорхою: — Приедет человеческий доктор, будет здесь работать. Рабочий дом ему надо построить.
— Медпункт, — подсказал Шатохин.
— Я сам буду смотреть, как строите, слышал ты, я дал такое слово.
— Хорошо, отец Нипо, — ответил Хорхой.
Холгитон, не слушая его ответа, уже крутил телефон.
— Малмыж! Малмыж это? Хорошо. Митропана знаешь? Зови его. Как не позовешь? Эй! Эй! Чего молчишь? Эй! А? Митропан? Ты? Бачигоапу! Это я, отец Нипо, Холгитон. У нас телепон поставили. Ай, как хорошо. Раньше надо было тебе одно слово сказать, надо было садиться на оморочку и ехать, грести надо было. Теперь хорошо, крутнул ручку, а ты уже меня слышишь. Очень хорошо этот телепон! Митропан, я теперь каждый день буду разговаривать, буду рассказывать новости тебе. Хорошо?
— Старик нашел себе игрушку, — рассмеялся кто-то.
— Да, помогать позову, в гости позову. Как, сено косят? После сена приедут опять помогать? Хорошо. Так только друзья помогают. Кто приехал? На пароходе приехал? Сегодня приехал? Аха, аха, ладно. До свидания, Митропан.
Холгитон повесил трубку, обернулся ко всем:
— Кирка вернулся. Наш доктор.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Нанайские национальные районы 1927 года — Болонский, Толгонский, Горино-Самагирский — не могли выполнить свои задачи по переустройству жизни нанайцев по простой причине — не хватало грамотных людей, не было своих национальных кадров. Председатели райисполкомов, сельских Советов были вчерашние охотники, многие из которых не держали никогда в руках карандаша, не умели ни писать, ни читать. Недоставало учителей, не было своей письменности. За два года существования национальных районов только Интегралсоюз сыграл свою роль, он упорядочил цены на пушнину, стал снабжать охотников всеми необходимыми товарами. А для коренного изменения жизни нанайцев требовалось много грамотных людей из своей среды. Это понимали нынешние руководители Нанайского района, начиная от женотдела, который возглавляла Гэнгиэ, и кончая секретарем райкома партии Глотовым. Они знали всех своих студентов, обучавшихся в Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Ленинграде. Студенты находились на полном государственном обеспечении, питались и одевались за счет государства.
— Это наши основные кадры, — твердил Павел Григорьевич. — Это костяк нанайской интеллигенции, их надо беречь, им надо помогать. Кадры — главный вопрос, от его решения зависит все. Курсы ликвидаторов неграмотности в Найхине должны выпускать по-настоящему грамотных людей, МТС должна готовить мотористов. Нанайцы с оружием в руках отстаивали новую жизнь, так стройте эту жизнь сами, своими руками. Это вам под силу...
Богдан, вернувшись из поездки по району, сообщил, что только Джуен вроде бы находится в изоляции, там никто не собираетсяучиться ни в техникуме, ни в институте.
— Токто инертный человек, — сказал Глотов. — Знаю его. Но что же твой отец? Энергичный человек, что же он? А мать — общественница, ее слушаются женщины...
За два года работы секретарем райкома партии Павел Глотов десятки раз объезжал район. Он знал в лицо всех руководителей сел, бригадиров рыболовецких и полеводческих бригад, передовых промысловиков. В первые же дни своей работы он встретился со старыми знакомыми. С Пиапоном он обнимался и, хлопая по спине, спрашивал:
— Ну, председатель, встретились? Работать вместе будем. Говорил я тебе, придется...
Минуту спустя, вспомнив далекое прошлое, засмеялся и спросил:
— Школа в Нярги есть?
— Есть, как же без школы? — удивился Пиапон.
— Дети курят?
— Ты что, Павел, разве можно?
— Ага, нельзя, значит? А помнишь, когда я в школе у вас учительствовал, ультиматум мне объявляли: если не разрешишь нашим детям в школе курить, то не пустим их учиться? Помнишь?
— Было, было, — засмеялся Пиапон.
В Малмыже Глотов упорядочил колхозные дела Митрофана Колычева. Помнили крестьяне ссыльного Глотова. В Малмыже, как и во многих других русских селах, крестьяне с неохотой вступали в колхоз, хозяйство было маломощное, на всех районных совещаниях говорили, что нанайские колхозы тянут на буксире русских.
— Раскулачивать всех! — кипятился Митрофан.
— Кого надо было — раскулачили, — отвечал Глотов. — Надо убеждением действовать. Не хотят вступать в колхоз, подождем. :
— Подождем, пока все не разбегутся? В Комсомольск переезжают, в соседний район бегут.
— Не тревожься, Митрофан Ильич, там тоже советская власть, никуда они не денутся от наших законов.
В Джуене Павел Григорьевич встретился с Токто, Потой, от души смеялся, слушая рассказ Токто об организации и распаде хурэчэнского колхоза.
— Теперь я охотник, забот колхозных нет, душа не болит, — бахвалился Токто. — Освободился я.
— Даже бригадром не хочет быть, — пожаловался Пота.
— Эх, Токто, Токто, а еще воевал за советскую власть, — укоризненно покачал головой Глотов. — Люди тебя уважают, слушаются, ты должен работать...
— Нет, председателем не буду, завловом не буду, бригадиром не буду. Сейчас приходят грамотные люди, пусть они все делают, а я работал, пока они подрастали, пока людей расторопных не хватало. Теперь все, хватит. Все равно я ничего не понимаю в законах.
— Внуки твои грамотные?
— В ликбезе учились, грамотные.
— Надо им дальше учиться, на курсах, например.
— Женатые они.
Самой интересной была встреча с Валчаном в Сакачи-Аляне. После колхозного собрания, на котором присутствовал Павел Григорьевич, к нему подошел плотный белоголовый старик.
— Ты меня помнишь? — спросил он. — Я тебя в Хабаровск отвозил.
Глотов вспомнил. Это был Валчан, который хотел его, беглого ссыльного, выдать жандармам, чтобы завладеть его великолепным охотничьим ружьем. Вспомнил он и рассказ Пиапона о Валчане и спросил:
— Хунхузом был, Валчан?
К его удивлению, Валчан не растерялся, он засмеялся в ответ, скаля желтые, хорошо сохранившиеся зубы.
— Был, конечно. Это так давно было.
— Потом контрабандой занимался?
— Занимался немного, потом перестал.
— Границу закрыли?
— Просто перестал, советской власти испугался, милиционеры не то что полицейские, нюх у них острый.
«Откровенный, знает, что за прошлое не ответит», — подумал Глотов.
Павлу Григорьевичу на первых порах большую помощь оказывал Ултумбу, второй секретарь райкома партии. Посетовал он, что плохо пока обстоят дела с вовлечением передовых колхозников в партию, не было среди нанайцев членов партии, только кандидаты с большим стажем. На последней партийной чистке из партии были отчислены несколько таких кандидатов. Партийные организации существовали только в Болони и в Найхине.
— Надо принимать в партию передовых тружеников, — сказал Глотов. — Председателей колхозов и сельских Советов надо принимать.
— Разтваривал я со многими, — ответил Ултумбу. — Некоторые готовы вступить в партию, и будем их принимать. Говорил с Пиапоном. Не понимаю, почему такой умный и авторитетный человек не вступает в партию.
— Отказался в партию вступать? — удивился Глотов. — Не ожидал от него. А в чем дело?
— Поговорите с ним сами.
Встретившись в следующий раз с Пиапоном, Глотов спросил напрямик:
— Почему не вступаешь в партию, Пиапон?
— Я не все понимаю в новой жизни, Павел, — ответил Пиапон задумчиво. — Многого не могу понять. Однажды Воротин стал мне объяснять, что такое государство, сказал, что государство — это я, ты и все вместе. Позже мне растолковали многое, но я все равно плохо понял. Как я могу в партию идти, когда не понимаю того, что другие хорошо знают?
— Понимание придет позже, в учебе, а сердцем ты всегда был за советскую власть, за коммунистов. Кому же быть членом партии большевиков, если не тебе? Я же тебя знаю уже столько лет, вместе воевали, и мне больно, что ты не в наших рядах.
— Когда вступали в партию Пота из Джуена, Булка Киле из Болони, я тоже собирался, но потом оробел. Позже передумал, смотрю, то принимают в партию, то выгоняют...
— Исключают недостойных, не исключили же Поту, Булку и других.
— Верно, не выгнали, но теперь я совсем решил не вступать в партию.
— Почему?
— Слухи всякие ходят... Я так не привык, я всю жизнь еду своими руками добывал, не хочу даром есть.
Глотов ничего не понял из этого объяснения, попросил Пиапона яснее растолковать, что за слухи ходят и кто собирается его даром кормить. Оказалось, что когда-то Ултумбу разъяснял Пиапону значение партии и сказал:
— Страна наша выполняет вторую пятилетку, потом будет третья, четвертая, пятая, потому что мы должны совершенно обновить нашу страну. Тогда наша страна будет очень богатая, всего будет вдоволь. Если при социализме мы говорим: «Кто не работает, тот не ест», то при коммунизме будем говорить: «От каждого по способности, каждому по потребности». Понимаешь, что это такое? Этс значит, что ты можешь с чистой совестью идти в магазин и брать все, что пожелает твоя душа.
— Много всяких людей, — возразил Пиапон. — Один недоест кусок мяса, выбросит, потянется за лучшим, другой наденет одежду раз-два и выбросит. Разве на всех напасешься?..
— К тому времени мы, члены партии, должны перевоспитать людей. Люди должны прийти в коммунизм с чистой совестью, с открытой душой...
Все ликвидаторы неграмотности, все комсомольцы в меру своих способностей и фантазии пересказывали эту же мысль еще более примитивно. Слушатели, захваченные услышанным, интересовались, кого же в первую очередь будут пускать в магазин. Не может такого быть, чтобы в магазин первым пролез лежебока-лентяй. Теперь неизвестно, кто из агитаторов ответил, что первыми, какая бы очередь ни была, будут пускать коммунистов, потом комсомольцев, а затем уже всех остальных. Услышав это, и отказался Пиапон вступать в партию, потому что не желал лезть первым в магазин.
Глотов без усмешки выслушал рассказ Пиапона и спросил:
— Только из-за этого отказываешься вступать в партию?
— Да, из-за этого.
— А когда наступит коммунизм?
— Скоро, наверно.
— Не скоро, Пиапон. Мы еще социализм не скоро построим. Нам еще работать да работать, еще не две, не три пятилетки потребуется выполнить. Как ты мог поверить этим россказням о коммунизме? Ну зачем, если много продовольствия и товаров, люди будут стоять в очереди? Чепуха. Мы сейчас провели коллективизацию, теперь полным ходом идет индустриализация страны. Для хлеборобов, рыбаков требуются тракторы, комбайны, разные машины, катера, сети. Все это делают на заводах, но пока мало. Мы находимся во вражеском окружении, должны готовиться к обороне. Знаешь, наверное, из газет — фашизм в Германии и Италии, самураи все чаще нарушают нашу границу. Поэтому заводы производят оружие, самолеты, танки. Все это оттягивает наступление социализма. До дармовой еды, как ты говоришь, еще далеко, да ее и не будет, откуда она появится, если все будут только есть, а работать не станут? Запомни, Пиапон, для построения коммунизма мы должны обновить всю нашу страну. Ваш рыбацкий труд совсем изменится, моторы, механизмы будут всюду, не придется руками невода таскать. Охотиться, может, и не надо будет, на фермах будут выращивать соболей, черно-бурых лисиц, песцов. Большие колхозы уже разводят черно-бурых лисиц...
— Это и женщины могут, — возразил Пиапон. — А охотник должен в тайге добывать пушнину.
— Может, еще и в тайге будут добывать, я просто к примеру сказал. Так какие еще мысли мешают тебе вступить в партию?
— Я подумаю, Павел, не торопи меня. Партия — это большое дело, я должен сердцем все понять. Когда ты всю жизнь прожил в худой маленькой фанзе у подножия горы, не сразу войдешь в большой стеклянный дом, стоящий на вершине горы. Страх берет. Прежде чем зайти, надо у порога почиститься, сбросить с себя лохмотья, помыться. Не торопи меня.
— Ты сам тоже не тяни, каждый день дорог. Коммунисты должны возглавить всю работу в селах, в колхозах, в районе. Без боевой партийной организации трудно поднять район.
После этого разговора с Пиапоном прошло два года, теперь в каждом крупном селе работала партийная ячейка, при райкоме партии открыли парткабинет, где обучали агитаторов. А Пиапон все еще не решался вступать в партию.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
За два года в селе Троицком понастроили много жилых домов, все возвышенное место между Амуром и болотистой тайгой расчертили прямые улицы. Не хватало места новоселам, и село стало разрастаться в длину вдоль Амура. На самом видном месте, на пригорке, возвышалось первое двухэтажное здание, где разместились все районные учреждения: райкомы партии и комсомола, райисполком со своими отделами. На прибрежной улице рядышком заняли дома райвоенкомат и районная милиция, райсберкасса и районное отделение связи.
В центре Троицкого, напротив райкомовского дома, зеленым ковром расстелился стадион. На краю стадиона стоял кинотеатр, а через улицу огороженная забором районная больница с несколькими отделениями. В этой больнице вела прием больных Людмила Константинова Гейкер.
— Новая моя фамилия изысканная, европейская, — шутливо поясняла она в Ленинграде, а в Троицком говорила: «Нанайка я. Не верите? Что сказать по-нанайски?»
Нанайский язык давался ей с трудом, но успехи все же были, она почти все понимала, когда к ней обращались пациенты по-нанайски. Обучали ее своему родному языку Михаил, а также Гэнгиэ с Богданом, Саша и многие их товарищи.
— Ты эксплуатируешь все районное начальство, — смеялся Михаил.
К Людмиле Константиновне на прием пришла Гэнгиэ с сыном.
— На что жалуешься, Владилен? — спросила Людмила Константиновна, поздоровавшись с Гэнгиэ.
— Горло болит, — прошептал мальчуган.
— Эх ты, ленинградец. Забудь, что гы ленинградец, ты на Амуре живешь, а здесь все люди крепкие.
— Я тоже крепкий.
— Ну-ну, покажи горло. Скажи: «а-а-а». Еще. Катар опять. Лето наступило, какие катары верхних дыхательных путей могут быть? Наверное, мороженым кормили или холодный квас пил?
— Квас.
— Мать поила? Отец?
— Папа.
— Балует он тебя, с самого рождения балует. А имя какое тебе он дал? Владилен, — Людмила Константиновна вздохнула тяжело и спросила Гэнгиэ: — Слышала известие о Горьком? Умер еще один великий человек. Владимир Ильич его очень ценил. Ты читала его произведения?
— Рассказы читала, в театре видела «На дне».
— Это уже хорошо.
Людмила Константиновна выписала рецепт, подала Гэнгиэ и спросила:
— Богдан куда едет?
— В Хабаровск, в крайисполком вызывают.
— Михаил мой вчера вернулся из Найхина, привез рыбу, которую я никогда не видела. Аухой называется. Я теперь, Гэнгиэ, почти всех амурских рыб попробовала, сама могу отличить максуна от верхогляда, красноперку от желтощека. Успехи, верно? Любую рыбу теперь сама разделываю.
— Ты скоро совсем нанайкой станешь, — улыбнулась Гэнгиэ.
— Стану, Гэнгиэ, вот рожу Михаилу сына...
— Ты ждешь ребенка? Вот хорошо.
Гэнгиэ вышла с сыном на улицу. Шел мелкий теплый летний дождь. «Хорошо, пусть поливает огороды», — подумала Гэнгиэ, направляясь в райисполком. Шла она по дощатому тротуару, прижав сына к груди. Вышла на пригорок, и открылся перед ней Амур, широкий и многоводный; сверху подходил к Троицкому двухпалубный пароход «Коминтерн».
— На этом пароходе мы к папе приехали, — сказала Гэнгиэ сыну.
Больше двух месяцев томилась в Ленинграде Гэнгиэ после выезда Богдана. Днем слушала лекции, готовилась к выпускным экзаменам, вечера просиживала с сыном, Полиной и Людмилой Константиновной.
— Нигде, кроме Ленинграда, не была, — говорила Людмила. — Выезжала только в пригороды, километров за пятьдесят. А теперь за тысячи километров ехать, Боязно.
— У нас хорошо, Люда, — отвечала Гэнгиэ, — увидишь, все будет хорошо. Понравится тебе Амур наш, тайга. Рыбы много у нас, зверей, птицы много. Хорошо.
— Быстрее бы уехать домой, — говорила она Поле, — не могу я больше без него, соскучилась. Сын скучает тоже.
Экзамены Гэнгиэ сдала кое-как и заторопилась с выездом. Людмила, ожидавшая ее, собралась за день, распрощалась с родителями и любимым городом без слез.
— Какая огромная наша страна! — восхищалась в пути Людмила. — Сколько уже едем, которые сутки? Восьмые? Боже мой, сидела бы в Ленинграде, если б не вышла за Мишу, и не увидела бы всего этого. Гэнгиэ, я сейчас только начинаю понимать нашу Родину, ее величие. Не в расстояниях тут дело. Теперь только я понимаю геройство тех юношей и девушек, которые Комсомольск строят на Амуре...
Людмила редко отходила от окна, смотрела ненасытными глазами на проплывавшие поля, луга, деревни, на каждой большой остановке выбегала из вагона, возвращалась оживленная, веселая, с малосольными огурцами, жареной картошкой, вареными яичками или простоквашей.
— Как все интересно! Я ведь другой жизни, кроме ленинградской, и представить не могла. А тут на каждой станции говорят по-русски, а все же как-то не так. В Ленинграде снивелированный, городской язык, а тут весь аромат разных говоров...
Когда подъезжали к Хабаровску, Гэнгиэ вспомнила про мост, который ее поразил своими размерами три года назад. Людмила прильнула к окну так, что нос в лепешку расплющился.
— Вдвое или втрое шире Невы? — спрашивала она Гэнгиэ, морщась от грохота.
В Хабаровске им удалось в этот же вечер сесть на «Коминтерн», и рано утром показалось Троицкое. На дебаркадере было немного народу, и Людмила с Гэнгиэ сразу увидели своих мужей. На больших очках Богдана прыгал солнечный зайчик, и сам он улыбался ослепительнее солнца. Пароход причалил к дебаркадеру, и не успели матросы закрепить тросы и уложить трап, как Богдан с Михаилом уже обнимали и целовали жен. Богдан нежно прижал к груди сонного сына и целовал его пухлые теплые щечки.
— Товарищи специалисты, прибывшие в наш новый Нанайский район, — сказал он торжественно, — вы люди, нужные району, золотые наши кадры...
— Жены, — подсказала Людмила.
— ...поэтому вас встречают сам председатель райисполкома и главный кооператор района. Разрешите представиться, товарищи, меня зовут Богдан Потавич Заксор.
Гэнгиэ все восприняла как шутку и, засмеявшись, спросила:
— Почему вы оба здесь, разве не Найхин районный центр?
— Троицкое. Нам из Найхина вечером сообщили о вашей телеграмме, — ответил Михаил.
— Так вы здесь и живете? — спросила Людмила.
— Тут. Вам тоже придется жить тут, — ответил Богдан.
— Вы что, районное начальство?
— Людочка моя, сказали тебе, отрекомендовались, что ты еще хочешь?
— Богдан, ты правда председатель райисполкома?
— Все еще не веришь? — спросил в ответ Михаил. — Все ленинградцы теперь начальники. Саша — редактор районной газеты и отвечает за радиопередачи на нанайском языке, Яша — секретарь райкому комсомола, Гэнгиэ только выехала из Ленинграда, а ее уже назначили руководить женским отделом, про тебя сказали, чтобы сама выбрала работу...
...Гэнгиэ вошла в здание райисполкома, поставила сына на ноги, стряхнула с плаща капли дождя.
— Зайдем, сына, к маме на работу, а потом домой, — сказала она.
В женотделе кроме Гэнгиэ работали еще три женщины, все они находились на месте.
— Владик, ты опять заболел? — спросила Алла Игнатьевна, заместитель заведующей. — Опять оторвал маму от работы?
— Алла Игнатьевна, если какое сложное дело, вызывайте меня, — сказала Гэнгиэ. — Я приду.
— Хорошо, я позвоню.
Гэнгиэ вышла, прикрыла дверь и бросила взгляд на вывеску «Женотдел». Два года она работает в этом отделе райисполкома, два года не знает покоя. В первые месяцы особенно трудно приходилось ей. Председатели сельсоветов не обращали должного внимания на женсоветы, да и сами женщины без охоты работали, мало еще находилось среди них таких боевитых, как Идари в Джуене, Булка в Болони. Приходилось все время подталкивать и председателей сельсоветов и женсоветы. Гэнгиэ из-за Владилена не могла выезжать в дальние командировки, бывала только в соседних стойбищах: в Джари, Найхине, Даде, Эмороне. О жизни женщин в дальних поселениях она знала только со слое сотрудниц и председателей сельсоветов. Вначале Гэнгиэ представляла свою работу как помощь сельским Советам в улучшении быта и труда женщин, в организации детских яслей и садов, в защите женщин от старых родовых обычаев и законов, в утверждении их равноправия. Но на деле ей пришлось выполнять роль педагога, судьи, врача санэпидстанции: разрешать семейные неурядицы, бороться за чистоту в домах, за правильное воспитание детей, и хотела того Гэнгиэ или нет, ей приходилось иметь дело и с детьми и с мужьями-драчунами.
Гэнгиэ взяла сына на руки, зашагала по мокрому тротуару. Заглянула в магазин, взяла хлеба, сливочного масла, конфет.
— Конфеты отдашь гостю, — сказала она, передавая сыну пакетик карамелей и ирисок.
Третий день гостила у них Идари с внуком, сыном Дэбену. Идари приезжала в гости и в прошлом году летом, тогда Гэнгиэ впервые встретилась с ней. Встреча была радостной, теплой, такой, какую и представляла себе Гэнгиэ. Ранее она ездила в Болонь к отцу и матери, они тоже ни словом не упрекнули за побег, ничего не сказали и о ее замужестве, о Гиде и только обнимали и целовали внука, которого ожидали гак долго. Не добралась тогда Гэнгиэ до Джуена, честно призналась Богдану, что ей неприятно встречаться с Токто, Кэкэчэ и Гидой.
— Ты встретишься с ними, — ответил Богдан. — Работа твоя такая, что ты должна во всех стойбищах побывать, своими глазами посмотреть, как там живут, побеседовать со всеми женщинами. С Онагой встретишься...
Гэнгиэ подошла к дому, заметила дым над трубой летней кухни.
— Мама, сказала я тебе, отдыхай, ты в гостях, — проговорила она, подходя к летнику. В дверях появилась улыбающаяся Идари, взяла на руки Владилена.
— Как ты? Что доктор сказал? — спросила она торопливо.
— Баба, тебе конфеты и мальчику, — сказал Владилен и подал Идари кулечек.
— У меня зубы болят, я совсем старая, лучше отдадим конфеты Коле. — Идари повернулась к Гэнгиэ: — Когда ты видела меня сидящей со сложенными руками? Здесь тоже не могу без дела находиться. Обед варю. Что еще делать? Дров Богдан наколол, воды ты натаскала. Что делать мне?
— Сиди сложа руки, — засмеялась Гэнгиэ. — О Владике не беспокойся, горло покраснело, пройдет скоро.
— А у нас все еще нет доктора, — проговорила Идари, — ездим лечиться в Болонь, к Бурнакину. Люди говорят, шаманам не разрешают камлать, а доктора не присылают.
Идари много рассказывала о своей работе с женщинами, о том, что Онага взяла на себя заботу о беременных, как в свое время учила ее Нина Косякова.
В полдень прибежал на обед Богдан.
— Звонил в крайисполком, — сообщил он, — отказался ехать, дел много. Плохо с обсуждением новой Конституции в стойбищах и селах, надо грамотных людей, хороших лекторов посылать. А сегодня траурный вечер памяти Горького в кинотеатре.
Богдан торопливо поел, выпил чаю и, закуривая на ходу, вышел из дому. В райисполкоме его ждал сотрудник хабаровского Дома Красной Армии Ковальчук.
— Товарищ председатель райисполкома, — начал Ковальчук, — Дом Красной Армии находится в дружбе со многими городами и селами края. Сейчас, когда идет всенародное обсуждение проекта Конституции, наш ДКА хочет организовать выставку, где бы нанайцы могли показать старый быт, свое прошлое и настоящее.
— Это очень хорошо, товарищ Ковальчук! — воскликнул Богдан.
— В парке ДКА можно поставить юрты со всем убранством, лодки, оморочки...
— Вот как? Даже лодки, оморочки.
— Да. Я видел оморочки, это же здорово! Из бересты изготовить такое — это настоящее мастерство. Надо показать. В зале ДКА выставим ковры, унты, торбаса, перчатки, шапки и всякие другие вещи. Это будет выглядеть красочно, я видел вышивки, удивительно красивые. Надо показать...
— Отберем самое лучшее. Для этого выделим вам помощников из молодежи, а возглавит их Александр Оненка, наш писатель, редактор районной газеты.
— У вас есть уже свои писатели?
— Если человек написал книгу, думаю, его можно назвать писателем. Тем более что народ с удовольствием ее читает. Кроме того, мы можем послать в город наш нанайский театр, молодой он, с осени только существует. Правда, выступают наши артисты только на нанайском языке...
— Переводчик найдется?
— Можем послать Новикова, заведующего районо, хотя Александр Оненка и сам неплохой переводчик.
Богдану приятно было удивлять приезжего.
— Вы обрадовали меня, товарищ Заксор! Когда меня командировали к вам, никто еще толком не знал, что можно показать о нанайцах, а теперь я спокоен, выставка будет, и театр покажет свои спектакли.
— Мы еще стахановцев пошлем, пусть они расскажут красноармейцам, как трудятся...
Богдан заканчивал беседу с Ковальчуком, когда Гэнгиэ пришла в женотдел по вызову Аллы Игнатьевны. Возле ее стола на краешке стула сидела маленькая молодая женщина с тугими черными косами, завязанными на затылке. Это была Сиоя из Джари, первая посетительница женотдела: в прошлый раз она зашла к Гэнгиэ не как к заведующей женским отделом, она и не знала о существовании такого отдела, а зашла как к жене председателя райисполкома. Жаловалась на молодого мужа, который избивал ее из-за ревности, а председатель сельсовета не хотел ее защитить, потому что являлся дружком и родственником мужа. Гэнгиэ сама тогда сходила в Джари, поговорила с председателем сельсовета, с мужем Сиои, с комсомольским вожаком, и казалось ей, что она добилась успеха, приструнила молодою драчуна.
Гэнгиэ поздоровалась с Сиоей, как со старой знакомой.
— Мы разошлись, — сообщила Сиоя. — Он говорит, что по новой Конституции, которую сейчас люди обсуждают, женщины равны с мужчинами, и говорит, что будет драться со мной, как равный с равной. Я сказала — драться не буду, будешь ты драться, уйду от тебя. Он говорит — уходи, только тори возвращай.
— Обожди, обожди, какое тори? — спросила Гэнгиэ.
— Не знаешь, что такое тори?
— Знаю. Когда вы поженились?
— Три года только прожили вместе.
— Почему он тори платил? Законом ведь запрещено.
— Закон законом, а тори все платят. Я не хуже других, почему меня одну без тори должны отдавать?
— Ты комсомолка, как можешь так рассуждать?
— Все так рассуждают, все исподтишка дочерей продают, тори берут. Я и лицом и телом не хуже других.
Гэнгиэ не знала, как продолжать разговор, убеждать Сиою не было смысла, взывать к ее комсомольской совести — тем более.
— Зачем ты пришла? — спросила она.
— Он требует обратно тори, а отец говорит, если он сам не хочет со мной жить, то тори не возвращается. Что делать?
— Когда отец твой брал тори за тебя, он тогда уже нарушил советский закон. Вот скажи, что делать с твоим отцом?
Сиоя вспыхнула, поднялась.
— Отец не просил, он сам принес тори! Пусть сам он отвечает.
— Иди в районный суд, расскажи все, там разберутся.
— Его будут судить? — глаза Сиои разгорелись зловещим огоньком, она напряженно ждала ответа.
— Это дело судьи разобраться в деле. Скажу тебе сразу: ты красивая, а не дорожишь своей честью, позволяешь себя продавать и покупать, как бессловесная корова. Стыдно мне за тебя, за комсомолку стыдно.
Сиоя вскочила со стула, метнула на Гэнгиэ огненный взгляд и вышла, хлопнув дверью. Гэнгиэ сняла телефонную трубку.
— Нарсуд, — попросила она и, подождав немного, тем же ровным голосом продолжала: — Зайдет к вам Сиоя из Джари, поговорите с ней серьезно, растолкуйте, почему запрещены тори, а то она знает о своем равноправии с мужчинами, но в толк не возьмет, почему ее нельзя продавать, как животное. Растолкуйте, но не угрожайте, как это вы любите делать. Очень прошу вас, не пугайте моих женщин, они и так пугливы.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Речушка Сэунур петляла до головокружения, про такие горные речушки говорят охотники, что они похожи на утиную кишку. Было жарко и душно, солнце висело над головой и беспощадно палило непокрытую голову. Токто надел старую узкополую шляпу. На западе из-за островерхих сопок надвигалась гроза, там высоко в тебе курчавились бело-розовые облака. Дождь предвещали и кулики, купавшиеся в небольшом заливчике, и поникшие травы на берегу.
Речушка круто свернула налево; здесь она делала огромную петлю и возвращалась сюда же в каких-нибудь двадцати метрах. Токто пристал к берегу, взвалил на плечо берестяную оморочку и зашагал по тропке среди высокой травы. «Если прорыть канаву, вода потом сама здесь пробьет себе дорогу, — подумал Токто. — Сейчас посмотрим, на самом ли деле строится большое село да еще прокладывается дорога. Когда так, то часто придется сюда ездить».
Токто вышел на Сэунур, сел в оморочку и замахал веслом. Эту речку Токто знал как свои пять пальцев, он мог по ней плыть с завязанными глазами, на этой речке он убил столько лосей, косуль, что счет потерял. Летом, когда жил в Джуене, часто приезжал сюда на охоту, Осенью несколько раз поднимался по ней на зимнюю охоту. Теперь говорят, что на том месте, где паслись лоси, строится большое село, которое уже называется станцией Болонь. На днях приезжал в Джуен милиционер с одним жителем станции Иваном Коневым, знакомились с джуенцами, заодно искали сбежавшего заключенного. Из-за них, беглых, джуенцы приобрели замки и впервые в жизни повесили на дверях амбаров.
За длинным рядом тальников открылась марь, отсюда Токто нередко замечал лосей, отсюда начинал подкрадываться к ним. А теперь перед ним стояли невиданные раньше, причудливые островерхие дома. Крыши их были остры, будто ножи, пропарывающие знойное небо.
— Понастроили, — пробормотал Токто. — Какой зверь теперь придет сюда.
Долго еще поднимался Токто по речушке, добрался до широкого залива, где не раз убивал лосей и тут же свежевал. По заливу лениво плавали домашние гуси и утки.
— Странные люди, эти русские, — проговорил Токто, — где бы ни поселились, обязательно гусей и уток разведут. Охотиться на них лень, что ли?
Токто вышел на берег, огляделся. Там и тут стояли заселенные островерхие дома, рядом достраивались другие. Справа складывали огромный кирпичный дом, дальше через Сэунур строили железный мост. Токто видел такие мосты на Харпи, Олкане. Встретился он со знакомым милиционером возле будущего станционного здания.
— Станция Болонь будет большой станцией между Хабаровском и Комсомольском, — объяснял милиционер. — Вон кирпичный дом строят, это депо. Здесь будет наш вокзал, если поедешь в Хабаровск или в Комсомольск, тут билет купишь, тут будешь ожидать свой поезд. Ты видел когда-нибудь поезд?
— Нет, — помотал головой Токто.
— Скоро увидишь, — милиционер вышел на железнодорожный путь. — Вот по этим железкам и бегает поезд с вагонами. Осенью готова будет дорога, сможешь поехать куда захочешь.
Токто попинал ногой рельсы и подумал: «Если эта дорога в две железные линии тянется из Хабаровска до нового города, то сколько же потребовалось железа? Что это за поезд такой, неужели он может ходить только по железу? Надо же такое выдумать. Пароходы по Амуру пустили, теперь через всю тайгу поезда пускают, на Амуре рыбу разгоняют, а в тайге зверю путь перегородили. Плохо, совсем плохо».
Обо всем этом хотел Токто поговорить с милиционером, но русских слов маловато оказалось в его памяти, поэтому он сказал:
— Говори хочу, говори не могу.
— Ничего, Токто, теперь мы рядом будем жить, научишься говорить, — успокоил милиционер. Это же сказал и Конев, пригласив его в свою квартиру обедать.
— Дружить будем, Токто, — говорил он за столом. — Буду я к тебе ездить рыбалить, охотиться, куплю моторку. Места здешние мне нравятся, охотничьи места, а я заядлый охотник, поэтому остаюсь здесь работать в депо.
А Токто хотелось рассказать новому приятелю, что место, где строят станцию, действительно было хорошим охотничьим местом, здесь, где стоит дом Ивана Конева, он однажды свалил хорошего быка.
— Осень приходи Джуена, — сказал он. — Моя кета лови, лови и дома. Твоя приходи, мы Харпи ходи, лоси стреляй, гуси, утика. Хоросо.
— Хорошо, Токто, приеду. Отпуск возьму, — пообещал Конев. — Поохотимся вместе, поживем, а там, глядишь, и подружимся крепко. Нравишься ты мне.
— Друг, хоросо.
— Надо нам всем в дружбе жить, об этом и Конституция новая говорит, в дружбе наша сила.
— Да, да, — закивал головой Токто, вспомнив беседу учителя Андрея Хеджера о новой Конституции.
На прощание Иван подарил Токто широкий нож из нержавеющей стали. Токто понравилась сталь, но сам нож был неудобен для разделки туши зверя. Он вытащил свой охотничий, узкий, как змеиное жало, нож и протянул Ивану.
— Ты таким пользуешься? — спросил Иван. — Да, удобный нож. Ладно, я себе выточу, мне это чепуха, я слесарь. Привезу и тебе такой нож, твоему брату Поте тоже привезу.
Токто распрощался с новым приятелем, зашел в магазин, купил правнукам гостинцев — конфет и печенья.
«Вот какая железная дорога, — думал он, спускаясь по Сэунуру. — Богдан говорил, будто такая дорога тянется между всеми городами. Надо же столько железа зря тратить, будет лежать на земле без толку, как будто простой дороги нельзя построить. А нам железные полозья на нарты приходится искать...»
Загрохотал вдалеке гром и затих. С запада ползла тяжелая черкая туча. Все замолкло вокруг в ожидании грозы и дождя. Токто вдруг вспомнил, что позабыл взглянуть на трактор, который колхоз покупал у строителей. «Толк-то какой от меня, — подумал он. — Ну, взглянул бы, а потом что? Поговорить, расспросить даже не смог бы. Купит Пота — посмотрим...»
Токто выезжал на озеро Болонь, когда ветер ударил ему в затылок, гром загрохотал над головой, и ливень обрушился водяным потоком. Крупная волна заиграла на озере, как щепку, начала бросать оморочку. Добрался Токто до Джуена весь мокрый, сухой нитки не осталось на нем. Кэкэчэ, накинув на голову старый халат, встречала на берегу.
— Чего мокнешь, не с охоты возвращаюсь, — проворчал Токто.
Дома он переоделся во все сухое, похлебал супу, попил горячего чаю и закурил.
— Большое село построили, — сообщил он домашним. — Дома в два этажа и какие-то странные, таких даже в русских селах не строят, наверно, они нужны только на железной дороге. Когда кончат строить дорогу, можно по ней ездить и в Хабаровск и в новый город. Это хорошо, город вроде бы ближе становится.
— Куда тебе ездить? — сказала Кэкэчэ.
— Как куда? Куда захочу, туда и поеду. В гости, например, поеду к Богдану. Идари каждое лето ездит, мы с тобой тоже можем поехать в гости. Отсюда до станции на оморочке поднимемся, сядем в дом на колесах и поедем в новый город. Если хочешь, можно в Хабаровск, там сядем на пароход и будем у Богдана. Гэнгиэ встретишь. Я тоже хочу посмотреть, какая она стала, на внука взглянем. Не спорь, наш внук, Богдан-то нам как сын.
Токто делился вдруг пришедшим в голову планом поездки в Троицкое и сам распалялся незаметно для себя.
— А чего ждать, мать Гиды, мы можем даже завтра выехать, — возбужденно говорил он. — Деньги есть, Пота меня отпустит на несколько дней.
— Поезд еще не ходит, — хмуро возразил Гида, которому всегда больно было слышать даже имя бывшей любимой жены.
— Мы в Малмыж поедем, там на пароход сядем. Токто, не дождавшись согласия жены, пошел к Поте.
— В гости хочу ехать к Богдану, — заявил он, поздоровавшись с названым братом.
— У него, наверно, полный дом гостей, — усмехнулся Пота.
— На полу найдем место. Гэнгиэ с сыном охота встретить. Тебе хорошо, ты у них часто бываешь на всяких больших собраниях.
— Кто тебе воспрещает? Сам виноват, не хочешь даже бригадиром быть.
— Не хочу. Я сам на свои деньги поеду.
— Бригадир отпускает?
— Не знаю, не спрашивал. Если ты, председатель колхоза, отпустишь, чего у бригадира спрашивать?
— Бригадир тут главнее, отец Гиды, он с людьми рыбу ловит, он следит за порядком. Ты у него в подчинении — такая дисциплина.
— Ты мне всякие непонятные слова не говори, я не последний человек в колхозе.
— Все равно должен подчиняться общим правилам, законам. Это есть дисциплина. Ты поехал на станцию Болонь, отпрашивался у бригадира?
— Нечего мне отпрашиваться, не ребенок я, он мне не отец. Я выбрал рыбу из сети, сдал на базу и уехал.
— А они гон устраивали, много рыбы поймали, заработали хорошо.
— Денег не надо мне, хватает тех, что зимой на охоте заработал.
— Не о деньгах разговор, а о дисциплине. Если мы всех распустим, никто никого не будет слушаться, то в соревновании с няргинским колхозом мы отстанем.
— Трактор ты покупаешь, чтобы переплюнуть Пиапона?
— У него нет трактора, а у нас будет. Чем плохо?
— Досоревнуешься, как я с тобой, колхоз по нитке распустишь.
— Мы соревнуемся по всем правилам, бумаги подписаны. Сегодня сельсовет письмо получил из райисполкома да газета пришла из Хабаровска, на заем будем подписываться. В прошлый раз мы взяли верх, больше няргинцев подписались, и сразу деньги наличными выкладывали. Сейчас тоже надо верх брать. Ты в прошлый раз больше всех подписался.
— Я не последний охотник, а лучший в районе, потому обязан больше других подписываться. Деньги-то не на ветер идут, возвращаются домой, мы половину денег уже обратно получили, выиграли.
Токто попрощался и вышел. Гроза прошла, но приближалась вторая, то и дело освещая полнеба яркими всполохами молний.
«Интересная жизнь пришла, думать не думал, гадать не гадал о такой жизни, — подумал Токто. — Я, охотник-рыбак, даю деньги взаймы не соседу, а какому-то государству, которое знать не знаю и понять не понимаю. Ах! Возвращают мне изредка — хорошо, чего еще надо? Говорят, эти деньги нам же приносят достаток и хорошие товары, катера и сети, капканы и новые ружья. Может, и так, кто его разберет».
Токто вспрмнил, что не слышал новостей уже два дня, но заходить к учителю постеснялся: поздно.
«Два дня не слышал газетных новостей и вроде бы чего-то недостает, — подумал он. — Давно ли стал слушать эти новости, а уже привык. Раньше жили, о соседях, которые через стойбище живут, слышать не слышали, а теперь все знаем: один план выполнил, другой — за одно притонение столько-то рыбы вытащил, третий — неряха, в баню не ходит, четвертый — лентяй, в ликбезе не учится. Все известно. А стыдно все же, когда про тебя говорят, что ты неряха, лентяй. Большая газета сообщает новости уже со всех концов земли, это еще интереснее. В одном месте война идет, в другом какие-то фашисты власть захватили. Откуда это известно, поди узнай...»
Токто подошел к дому, постоял, прислушиваясь к далекому урчанию грома, почувствовал боль в желудке, прижал ладонями живот и вошел в дом.
— Опять живот, — сказал он жене и лег на постель.
С полгода назад заболел у Токто желудок, обращался он к Бурнакину, тот признал язву, выписал лекарство, посоветовал не есть сырую рыбу, недоваренное мясо. Токто слушал фельдшера, согласно кивал головой, а вернувшись в Джуен, ел и талу, и недоваренное мясо — добрую и сытную пищу таежников. Живот изредка так схватывало, что хоть криком кричи, тогда Токто пил медвежью желчь, и боль утихала, чтобы вновь возвратиться через неделю.
— Собрался в гости, — укоризненно проговорила Кэкэчэ.
— Там доктор есть, может, он лучше Бурнакина. — Токто тяжело вздохнул. — Старость это — и больше ничего. В жизни ничем не болел, разве что поясница иногда побаливала. Теперь старость пришла, с желудка начал стареть.
На другой день Токто явился в школу на собрание как ни в чем не бывало, будто его вечером не корежила желудочная боль. Пота открыл собрание, председатель сельсовета Боло говорил о втором государственном займе, заключал учитель. У него странно тряслась голова, он щурил узкие глаза, говорил прерывисто, резко.
— Не первый раз мы на государственный заем подписываемся, все знаем, на что идут наши деньги. Чего я буду вновь растолковывать?
— Не надо!
— Конечно, не надо. Жизнь наша сама показывает, раскрывает нам глаза, убеждает нас, что партия Ленина — Сталина правильно нас ведет вперед. Конституцию мы обсудили, убедились. Но нынешний заем — особый заем. Я вам уже рассказывал, что Гитлер угрожает Советскому Союзу, нам, значит, угрожает. Я читал вам, что японцы нарушают нашу границу. Войной хотят идти на нас фашисты и японцы. Деньги, которые мы дадим взаймы государству, пойдут на оборону страны. Думайте об этом, когда будете подписываться на заем. Вспомните прошлую нашу жизнь и сравнивайте с сегодняшней, когда будете подписываться на заем...
«Чего вспоминать? — подумал Токто. — В сплошных долгах у торговцев находились». Он подошел к секретарю сельсовета, который вел подписку.
— Для новой жизни ничего не жалко, — сказал он. —
В прошлый раз я больше всех подписался, нынче нельзя ударить в грязь лицом. Бери деньги, считай, сколько.
— Шестьсот двадцать, Токто, — подсчитал секретарь. — На все и подпиши.
Поставив крестик на подписном листе, Токто отошел от стола. Пота пожал ему руку.
— Везде ты первый, — сказал он. — Ну что, отпускает тебя бригадир?
— Не спрашивал, да и денег нет на поездку.
— Возьми в колхозе.
— Даже у торговцев в долг не брал. Зачем брать, пойду наловлю рыбы, и деньги будут. Не в старое время живем.
Желудок не болел, и Токто забыл о докторе, к которому собирался ехать.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Школа нарушила стройность планировки нового Нярги. Хорхой был недоволен Каролиной Федоровной, это она настояла, чтобы школа стояла в стороне от улиц, потому что детям требуется площадка для игр. Школу поставили, как требовала учительница, а через некоторое время появился новый ряд срубов от школы вниз к ключу, где был расчищен участок под конюшню, где уже стучал молотками в кузнице Годо. Так появилась новая незапланированная улица.
— Ты виновата, нарушила наш генеральный план, — укорял Хорхой Каролину Федоровну.
— Это хорошо, Хорхой Дяпович, новая улица появилась, село будто выросло. А вы давайте мне рабочую силу, школу надо глиной обмазывать. Женщины нужны. Школа должна быть готова к середине августа.
— Будет, будет.
— Нам изготовили новые парты, привезти их надо из Троицкого. Краски нет...
— Все будет, Каролина Федоровна, слово даю! — Хорхой хитро подмигнул и добавил: — Кирка едет, отец на катере за ним выехал.
Каролина Федоровна вспыхнула.
— Правда? Он уже в Малмыже?
— Скоро здесь будет.
— Он в Нярги останется работать?
— Райисполком, Богдан заставят. Никуда не денется.
Каролина Федоровна перебирала в шкафу школьные принадлежности: карты, глобус, диаграммы, старые стенгазеты, портреты, коробки с образцами минералов, микроскоп. Как загорались глаза у ребят, когда она показывала коллекцию минералов и говорила, что амурская земля несказанно богата полезными ископаемыми. В недалеком будущем люди откроют подземные кладовые, и тогда на том месте, где найдут залежи, вырастет город такой же, как Комсомольск. Где это будет? Может быть, рядом, на Корейском мысу или около кирпичного завода...
— Каролина Федоровна, на горе, напротив Малмыжа, дыры есть, — подсказывали ребята. — Там давным-давно серебро, говорят, добывали. Речка называется Серебряная...
После уроков отчаянные ребята брали отцовские ружья, садились на лодки и выезжали на таежную сторону, где сейчас вырастает новое Нярги, бродили по тайге, по сопкам и привозили столько разных камней, что Каролина Федоровна не знала, куда их деть и где хранить. Дети мечтали о городе, дети мечтали об открытиях, и она была бесконечно счастлива, что ей удалось возбудить в них любопытство, развить мечту.
С микроскопом дети познакомились в третьем классе. Каролина Федоровна берегла это ценное пособие, хранила у себя в комнате. Когда она впервые в микроскоп показала ученикам каплю болотной воды с инфузориями, те были поражены увиденным. Потом они стали разглядывать под микроскопом все, что попадалось под руку. А маленький сын Ойты Федя нашел в голове соседки вошь, положил под микроскоп, взглянул и вскрикнул:
— Ой! Смотрите!
Мальчики и девочки, прильнув к микроскопу, отскакивали.
— У-у, противная какая!
Каролина Федоровна до этого дня днем занималась со своими учениками в школе, вечером — в ликбезе, потом читала молодежи книги, журналы, газеты, учила их играть на струнных инструментах. И ни разу она не заговаривала с женщинами и девушками о гигиене быта, потому что этим занимался Бурнакин, изредка приезжавший из Болони. Случай с микроскопом заставил Каролину Федоровну по-новому взглянуть на всю свою деятельность в стойбище. Вечером она показала всем женщинам, пришедшим на занятия, вошь под микроскопом. Матери так же, как и их дети, отскакивали от окуляра и спрашивали:
— Что это такое, Каролина? Страшно как.
— Вошь, обыкновенная вошь, — отвечала Каролина Федоровна.
Женщины еще и еще подходили к микроскопу и разглядывали насекомое, избавиться от которого они не могли всю жизнь. Каролина Федоровна весь вечер отвела разговору о чистоте, о бане, о стирке и смене белья.
— Простыни и наволочки сейчас можно иметь, — заявили женщины. — Раньше материи мало было, а денег совсем не было. Теперь можно, деньги есть и материя есть. Ты, Каролина, учи нас, что надо делать, а то Бурнакин мужчина, как нам его слушаться? А ты женщина, ты сама стираешь...
Так у Каролины Федоровны появились новые заботы. А ученики ее приносили все новые и новые камни. Каролина Федоровна вытаскивала свои образцы, перебирала принесенные мальчишками камни и сравнивала их, похожие отбирала, откладывала в сторону, чтобы назавтра дать ответ вновь испеченному геологу.
— Это горный шпат. Это гранит, — объясняла она на следующий день, хотя не была уверена в правоте. Но что она могла поделать? Ребята ждали ответа, и их нельзя было оставлять в неведении. «Главное, развить мечту, больше фантазии», — успокаивала она себя.
Каролина Федоровна улыбнулась и вдруг вспомнила о Кирке, который должен вот-вот появиться в Нярги. Она переписывалась с Киркой, получала от него письма, где он сообщал о своей жизни, учебе, интересовался новостями. В прошлое лето, когда Кирка приезжал на каникулы, она ближе познакомилась с будущим фельдшером, узнала о его жизни. Застенчивый, немногословный, Кирка храбро рассказывал о своем прошлом, и Каролине Федоровне он казался человеком, смело бросающимся в ледяную воду. Нелегко было молодому человеку рассказывать девушке о том, как его, помимо воли, женили на Исоаке. Каролина Федоровна прониклась к нему уважением. Они изредка оставались в школе наедине, говорили о комсомольских или колхозных делах, но ни разу не заикнулись о чувствах. Между тем она стала терять покой, когда Кирка долго не появлялся, и радовалась, когда он возвращался в Нярги из поездки в соседние стойбища.
«Почему я радуюсь? — спрашивала она себя. — Почему так волнуюсь при встрече? Влюбилась? Нет. Просто нет других молодых людей, с кем бы можно было побеседовать о книгах, медицине, педагогике, искусстве. Ведь Кирка единственный образованный человек в Нярги. В этом все дело. Это не любовь. Уедет он заканчивать учебу, и я забуду его. Мне просто скучно».
Как ни старалась Каролина Федоровна убедить себя, что ничего особенного не происходит, ее все больше тянуло к Кирке. Перед его отъездом они провели вдвоем весь вечер, танцевали под граммофон. Уехав, Кирка первым написал сдержанное, но теплое письмо.
— Ты, доченька, случаем, не влюбилась ли в этого бледнолицего? — спросила Фекла Ивановна. — Все загорелые, медные, а он один бледный.
— Горожанин, много занимается, мама.
— Он ведь человек другой совсем народности. А ты могла бы и за русского выйти. Лучше бы было, роднее как-то...
Каролина Федоровна радовалась каждому письму Кирки, садилась тут же за ответ, писала день, второй, и ей казалось, что она сидит рядом и беседует с ним. А он прислал за зиму всего три письма и ни одной строчки не написал о своих чувствах. «Ты ему никто, — сказала себе Каролина Федоровна. — Возьми себя в руки, обуздай свое сердце». Но легко это сказать — на деле же так больно...
Поклонников у Каролины Федоровны было предостаточно. Летом наезжали в Нярги морячки с военных кораблей, зимой, по воскресным дням, бывали красноармейцы и командиры. Со всеми поклонниками учительница держалась ровно, ликому не давая предпочтения, беседовала, танцевала, пила чай и провожала с той же обворожительной улыбкой, с какой встречала.
— Какие парни, орлы, — вздыхала Фекла Ивановна. — В наше время таких парней не упустили бы.
— Хорошие ребята, — соглашалась дочь. — Веселые, остроумные.
— Так чего ты тогда с ними тырк-тырк — и за дверь?
— Они мне не женихи, друзья просто, зашли проведать. Ты, пожалуйста, не сватай меня за каждого, я сама себе выберу.
— Внуков мне скоро не дождаться, разведу кур. Вот собак бы только, окаянных, привязали, передушат, — ворчала Фекла Ивановна. — Корову надо б да поросенка...
На Фекле Ивановне лежали все домашние заботы, кроме того, она учила женщин стойбища печь пироги, шанежки, булочки и целый день была на ногах.
— Забот тебе мало, мамочка, — смеялась дочь. — Отдыхай. Корова нам сейчас ни к чему, молоко, творог мы в колхозе покупаем, хватает. А курочки не помешают...
Каролина Федоровна услышала шум мотора, выглянула в окно и увидела подходивший к селу колхозный катер. Она захлопнула дверь шкафа, повесила замок, еще раз выглянула в окно. Катер подошел к берегу, и несколько человек осторожно спустились по узкому, шаткому трапу. Среди них был и Кирка, он держал чемодан. На берегу его встречали мать, сестра, дяди и тети.
«Если бы он написал мне не три, а хотя бы четыре письма, я пошла бы его встречать», — подумала Каролина Федоровна.
Когда Кирка, окруженный толпой родственников, поднялся в новый отцовский дом, учительница вышла из пустого класса и побрела на берег. Весь измазанный мазутом, Калпе возился в машинном отделении. Выглянув в иллюминатор, он улыбнулся.
— Кирка вернулся, — сообщил он.
— Насовсем? — поинтересовалась Каролина Федоровна.
— Не говорит, — Калпе прислушался и сказал: — Из района кто-то едет.
Каролина Федоровна заметила юркий быстроходный катерок, мчавшийся со стороны Малмыжа.
— Может, Богдан едет, может, Глотов, — предположил Калпе. — Им своими глазами все надо видеть, потому ездят.
Катерок, изящно развернувшись, пристал возле колхозного катера. Из рубки вышел Павел Григорьевич Глотов.
— Калпе, здравствуй, — он взял за локоть моториста, встряхнул. — Ты, говорят, на катере днюешь и ночуешь.
— За сыном ездил, Кирка вернулся, — обрадованно проговорил Калпе.
— Знаю, слышал от Богдана. Каролина Федоровна, здравствуйте! Издалека увидел вашу школу, значит, к учебному году будет готова?
— Это зависит от Хорхоя Дяповича, — ответила учительница, — да от заведующего районо товарища Новикова, он парты обещал.
— Новиков в Хабаровске по важному делу, можете вот прочитать. — Глотов подал несколько экземпляров краевой газеты. — Читайте за Девятое и двенадцатое июля.
Каролина Федоровна пробежала глазами по заголовкам. Газета сообщала, что в Хабаровске устроена выставка быта нанайцев. Посетители с любопытством рассматривают берестяные юрты, оморочки, лодки; в одном из залов Дома Красной Армии выставлены красочные ковры, унты, торбаса, перчатки, праздничные и свадебные халаты. Из Нанайского района приехали передовики рыбной ловли и охоты, среди них стахановец Ченгси Бельды. Вечером в переполненном зрителями летнем театре был доклад о новой Конституции СССР...
— Что интересного? — спросил Калпе.
— Первую нанайскую выставку в Хабаровске устроили, — ответила Каролина Федоровна. — Как это хорошо! Павел Григорьевич, надо больше рассказывать об этом народе.
— Взгляните за двенадцатое число, — подсказал Глотов.
«Тихоокеанская звезда» на третьей полосе давала литературную страницу. Напечатала песни ульчей, нанайцев, нивхов, негидальцев, их поговорки, загадки, ульчскую и корейскую сказки. На четвертой полосе «Нанайцы в Хабаровске» продолжался рассказ о выставке и показе самодеятельным театром пьесы «Двоеженство».
— Переводил Новиков, — сказал Глотов. — Вот ваш заведующий где. Переводит, большое дело делает.
«Тематика выступлений нанайских артистов — прошлое и настоящее, — читала дальше учительница. — В ДКА они встретились с артистами Большого театра Москвы. В ответ москвичи показали несколько отрывков из спектаклей и сфотографировались все вместе...»
— Почаще бы такие выставки, встречи, — проговорила учительница, возвращая газеты Глотову.
— Жизнь налаживается, Каролина Федоровна, — ответил секретарь райкома. — Нанайский театр будем всячески поддерживать, руководителя просим в Хабаровске. Одаренный народ, это я заметил тогда еще, когда здесь учительствовал...
Каролина Федоровна не раз слышала рассказы старых няргинцев об учителе Павле Глотове, прозванном Кунгасом из-за того, что он ездил на тяжелой неуклюжей лодке. Слышала, как русский учитель заступался за своих учеников, когда малмыжский поп притеснял ребятишек; слышала, как много лет спустя вернулся в Нярги русский учитель командиром партизанского отряда, собрал лыжников-нанайцев и пошел с ними уничтожать отряд полковника Вица в Де-Кастри.
— Это было давно, с тех пор народ неузнаваемо переменился, — продолжал Глотов. — А через несколько лет и подавно...
— Конечно, теперь столько грамотных людей вырастает, — усмехнулся Калпе, вытирая масляные руки ветошью. — Пойдем, Павел, ты голодный, наверно. Пиапона увидишь. А Хорхоя нет, он на кирпичный завод поехал...
— Каролина Федоровна, вместе будем проводить беседу о новой Конституции, — произнес Павел Григорьевич. — Не возражаете?
«Будто так и нужны вам помощники», — подумала учительница.
Глотов и Калпе поднялись на пригорок, скрылись за первым домом. Учительница мысленно представила, как они подходят к конторе, как встречает их Пиапон, смущенно улыбаясь, не зная, подать просто руку или обнять Глотова как давнего друга. Потом секретарь райкома здоровается с остальными, шутит, смеется. Пиапон начинает рассказывать о колхозных делах, жалуется, что плохо с кирпичом, пиломатериалами, что не хватает шарниров, гвоздей и если интегралсоюз будет так и дальше снабжать их, то многие дома останутся недостроенными.
Каролина Федоровна улыбнулась, представив хитрое, печальное лицо Пиапона; она-то знала, что дома не останутся незаселенными, потому что вместо шарниров тот же Калпе употребил толстые куски кожи, и двери вполне нормально открываются и закрываются. Другое дело, что интегралсоюз плохо снабжает продовольствием и в магазине нечего купить, кроме муки, крупы и сахара. Раньше охотники удовлетворялись этим, а теперь требуют сливочного масла, колбас, консервов, конфет и печенья — изменилась жизнь, пришел достаток, изменились и требования охотников.
Каролина Федоровна развернула оставленную ей газету, и от первых же сообщений повеяло тревогой: фашизм в Германии, воинственные высказывания Гитлера, нарушение границ на Дальнем Востоке японцами. Особо яркие сообщения следовало подчеркнуть, чтобы не сегодня, так завтра рассказать о них колхозникам.
На разговор о новой Конституции няргинцы и их помощники — плотники собрались в школе. Каролина Федоровна устроилась позади всех, за широкими мужскими спинами. Глотов не стал ее отыскивать и начал рассказывать о первой Советской Конституции, разработанной Лениным и принятой в 1981 году, потом перешел к разъяснению особо важных, касающихся няргинцев, статей новой Конституции.
«Все это знают они, понимают, — ревниво подумала Каролина. — Я разъясняла им эти статьи».
Павел Григорьевич будто услышал ее. — Товарищи, знаю я, что все это уже известно вам, — сказал Глотов, — вам разъясняли все статьи новой Конституции, но я все же повторю, потому что каждое слово в тексте Конституции — это подтверждение нашей победы. Это и наша гордость и наше счастье. Никто из вас еще не отдыхал в домах отдыха, не лечился в санаториях, поэтому я затрудняюсь привести факты...
— Холгитону живот распороли, — сказал кто-то.
— Это больничное лечение, — усмехнулся секретарь райкома. — Вот если бы после больницы его послали отдохнуть в санаторий, это и было бы как раз по статье Конституции. Повсюду теперь оформляются документы на получение пособий по многодетности. Есть еще у меня примеры. Конституцию мы только обсуждаем, а многие молодые люди уже воспользовались своим правом на образование. Няргинец Богдан Потавич учился в Ленинграде, теперь работает председателем райисполкома. Сегодня вернулся Кирка, будет работать фельдшером. Иван Заксор — по ликвидации неграмотности. А еще сколько ваших детей учатся в Хабаровске, Николаевске, и вы все учитесь в ликбезе. Перейдем теперь к более деликатным вопросам — о равноправии женщин, о равноправии граждан СССР...
«Ну, теперь держитесь, Павел Григорьевич», — подумала Каролина Федоровна.
Тут же поднялся Оненка и сказал по-нанайски:
— Мы слышали это, много говорили. Мы предлагаем, не надо много прав давать женщинам, а то они на шею нам сядут, совсем плохо мужчинам будет. Надо им половину мужских прав дать. Так мы думаем...
— Оненка, я тебя помню, помню и твою жену, — ответил Глотов. — Сейчас она многодетная мать, работает в колхозе. Почему ты хочешь ущемления ее прав?
— Плохо, когда женщина верховодит.
— Чем плохо?
— Сядет, как клещ, сосет кровь...
— Это я сосу твою кровь?! — закричала жена Оненка, а вслед за ней поднялись самые бойкие женщины.
— Кровососы сами! Рожаем мы, с коровами возимся мы. На огородах не хотите работать — мы...
Глотов поднял руку, кое-как успокоил разошедшихся женщин.
— Вот вам ответ, Оненка, — сказал он. — Когда я тут жил, ни разу не слышал такого женского протеста. Да они и не осмеливались голос подать. Теперь колхоз, они сами трудятся, сами деньги получают и не так зависимы от вас, как было раньше. Нет, женщины не ниже мужчин и равноправие они получат. Мы будем выдвигать их на руководящие посты.
— Чего зря спорить, — высказался Пиапон. — В нашей школе второй уже человек учителем работает, и обе — женщины. Мы у них учимся, потому что они умнее нас.
Каролина Федоровна почувствовала, как разгорелись щеки, и пригнулась ниже. Она не заметила подсевшего к ней Кирку.
— Здравствуй, Кара, — прошептал Кирка. — Хвалят тебя.
— Здравствуй, Кирка, — Каролина взглянула на молодого фельдшера и застыдилась еще пуще.
— А как ты думаешь о равноправии граждан СССР независимо от национальности, расы, вероисповедания? — продолжал Глотов, обращаясь к Оненка. — Ты был до Октябрьской революции равноправным, например, с русскими? Почему Александр Салов, Феофан Ворошилин считали себя выше?
— Они богатые были, торговцы они были.
— Воротин, как думаешь, ставит себя выше? Он ведь торговец тоже.
— Он советский торговец.
— Так. Прежние торговцы ставили тебя ниже потому, что богатыми были, а Воротин не ставит, потому что живет в советское время...
— Кирка, ты в Нярги остаешься работать? — спросила Каролина.
— Не знаю, не решил еще.
Секретарь райкома продолжал беседу, отвечал на вопросы, своими вопросами пытался вызвать активность слушателей, предлагал высказаться по отдельным статьям, спрашивал, есть ли у кого дополнения к новой Конституции. Нет, дополнений не было, обсуждаемый закон по всем статьям подходил охотникам, Конституция оберегала их честь, совесть и давала такие права, о которых они и не смели мечтать в прошлом. Дополнений пока не было.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Молодые руководители района не забывали своей студенческой традиции, вместе отмечали праздники, по вечерам собирались у Богдана побеседовать, поделиться новостями. Правда, собраться им всем удавалось теперь редко, потому что кто-нибудь обязательно находился в командировке.
В этот вечер бывшие ленинградцы наконец собрались все вместе. Гэнгиэ с Идари приготовили пельмени из осетрины.
— Люда, это варвары, — возмущался Михаил. — Смотри, на что они переводят осетрину. На пельмени! Пельмени надо готовить из менее ценной рыбы, а осетрину — только на талу. Верно говорю?
— Миша, в чужой монастырь не лезь со своим уставом, — засмеялась Людмила Константиновна.
— Да, да, еще с интегралсоюзовским! — подхватил Саша.
— Началось, никогда серьезно не поговоришь с ними, — пожаловалась Гэнгиэ Идари.
— Хорошо это, — улыбнулась Идари, — смотрю на них на всех, не налюбуюсь, такие все необыкновенные, то ли дети нанай, то ли откуда-то со стороны приехавшие. Такие красивые, умные. Большие дянгианы, а шутят, смеются, как дети.
— Они еще успеют обюрократиться, — засмеялся Богдан. — Пока молоды, пусть веселятся. Люда, ты талы хочешь?
— Хочу.
— Так, так. Раз хочу, в другой раз не хочу, — прищурился Яков. — Это о чем говорит? Михаил, спорю на то же, на что поспорил ты однажды в Ленинграде, — на любимую рубашку с галстуком.
— Ты о чем, Яша? — удивился Саша.
— О том. Если через полгода не появится наследник у Михаила, отдаю ему рубашку с галстуком.
— Ох, какой догадливый... — начал было Михаил, но Саша не дал ему договорить, обнял его за шею.
— Веселые люди, без водки пьяные, — смеялась Идари.
— Хватит вам, задушите его, ребенок без отца останется, — толкая в бок Сашу и Якова, говорила Людмила. — Оставьте его, я выдам другую тайну. Гэнгиэ с Богданом тоже ждут второго, на этот раз — дочь.
— Эх, Богдан, по этому поводу выпить бы неплохо, — проговорил Михаил.
— В этом доме пьют только по праздникам, — ответил Богдан.
— Ну вот, бюрократ налицо! — радостно подпрыгнул на стуле Яков.
— Чего обижаешь их, водки жалко? — прошептала Идари на ухо сыну.
Богдан громко засмеялся.
— Мама, они кого угодно уговорят, но только не меня. Размягчили они твое сердце? Это они могут. Ну-ка, хватит, комедианты, пельмени остыли.
— В Ленинграде он был не таким, — сказал Саша. — А тут? Власть развращает личность...
Яков с Людмилой и Гэнгиэ с Богданом смеялись, а Идари никак не могла взять в толк, над чем и почему они смеются, когда двое за столом обижены. Она тихо поднялась и пошла за перегородку за водкой, которую приготовила для Поты. Принесла она бутылку, поставила на стол и сказала при общем удивленном молчании:
— Из-за водки не ссорьтесь, дети, не стоит она этого.
— Никто не ссорится, — пробормотала Гэнгиэ.
— Не маленькая, вижу. Михаил и Саша...
Теперь уже засмеялись все враз. Богдан обнял мать, но ничего не мог проговорить из-за душившего его смеха.
— Артисты они... ха-ха-ха...
— Бессовестные, выклянчили...
Михаил раскупорил бутылку, разлил в принесенные хозяйкой стаканы.
— Ладно, нарушили закон моего дома, — сказал Богдан, — но если вы нарушите наш уговор и будете пить где-нибудь в стойбище с колхозниками...
— С родственниками...
— Дайте закончить! Нарушите уговор, не ждите снисхождения, на бюро райкома сразу вызовем.
— Сын, зачем ты так? — сказала Идари. — Зачем пугаешь? После этого разве водка полезет в горло?
— Вот именно.
— Это им-то? Погляди, как еще выпьют.
— А ты не гляди им в рот, водка вкус потеряет.
Опять раздался дружный хохот.
— За заступницу нашу! — прокричал Саша.
После водки набросились на пельмени, на салат из огурцов. Разговор за столом стал еще оживленнее. После пельменей пили традиционный чай.
Богдан хитро поглядывал на развеселившегося Сашу, вспомнив рассказ джонкинского председателя колхоза.
«Ученые стали, да? Шибко грамотные, да? — возмущался председатель колхоза. — Приехал он, встретили его, как настоящего нанай, а он что? Не настоящий оказался. Радовались, вот грамотный! До чего грамотный — книгу сам написал, районную газету выпускает. Очень радовались. Хвалили, говорили, пиши про нас, про колхоз. Пригласил его поесть. На стол что? Наша нанайская еда, вкусная еда. Уха из сазана да хлеб из магазина. Ест он, похваливает. Смотрю, маленький кусочек рыбы оставил да с ложку ущицы. Спрашиваю: что, не лезет этот кусочек рыбы? Отвечает, лезет, да по-культурному на дне надо кусочек оставлять. Для собаки, что ли? Нет, так, говорит, положено. Может, тебе добавки долить, тогда все съешь? Отказался от добавки и закурил. Тут жена чай горячий подает с сахаром, с желтым коровьим маслом. Говорю, ешь, потом покуришь. Нельзя, отвечает, надо подождать немного, чтобы в желудке пища улеглась. Сидит, курит. Я, хотя не курю, тоже не притрагиваюсь к чаю. Он спрашивает меня о том о сем, сам рассказывает. Чай совсем остыл. Плюнул я да без чая пошел в контору. Второй раз подогретый чай — разве чай? Умники дурацкие! Заучились совсем!»
Богдан еще никому не рассказывал об этом, чтобы не смущать Сашу, не давать в руки Михаила с Яковом лишнего повода для насмешек. Своими студенческими товарищами Богдан был доволен, работали они с огоньком, с выдумкой, не жалея себя. Была их заслуга и в том, что район в прошлом году по всем показателям вышел на первое место в крае и завоевал переходящее Красное знамя. Нынче район удерживал первенство, хотя из-за большого строительсгва во всех селах несколько снизился улов рыбы. Но Богдан не беспокоился, он знал, подойдет в сентябре кета, и колхозы наверстают упущенное. Уже надо начинать подготовку к осенней путине. Через день-два все опять разъедутся по району, будут тормошить председателей колхозов, заведующих ловом, бригадиров, чтобы готовили невода, лодки, будут требовать от моторно-рыболовецкой станции дели, веревок, сплавных сетей.
— Что-то сегодня жалоб не слышно, — сказал Богдан, — выпили и позабыли отчитаться и пожаловаться.
— Выпили, называется! — поднял пустой стакан Саша. — Вот в Хабаровске нас угощали командиры Красной Армии, это было здорово. Пей сколько хочешь...
— Хватит хвастаться, — перебил его Яков. — Расскажи толком.
Саша поставил стакан, посерьезнел сразу, на лбу забугрились волнами крупные морщины.
— Жаловаться не хотел я, ребята, — начал он, — но придется. Назначен я редактором районной газеты, хочу писать статьи, очерки, задумал новую книжку, а что делаю? Заседаю в Найхине в комиссии по новому алфавиту. Комиссия работает уже много времени, работа трудная, научная. Потом меня командируют в Хабаровск с нанайской выставкой. Вы в краевой газете уже читали сообщения. В газете все коротко, а на деле нам, переводчикам и экскурсоводам, передыху не давали. Новиков еще распустил слух, что я писатель, тогда совсем житья мне не стало. Хорошее дело — выставка, но нужно посылать переводчиками менее загруженных людей, например учителей. Такое мое предложение.
— Хорошо, что Саша поделился своими мыслями, — сразу заговорил Яков — Все мы выполняем кроме основной работы разные поручения. Чего об этом говорить? Обязаны — и все. Комсомольские дела в районе, сами знаете, неплохие. Но мы должны выращивать новых комсомольцев, пионерами обязаны заниматься. У нас два пионерских лагеря: районный и колхозный, много там занимаются спортом. На районной олимпиаде некоторые показали хорошие результаты: Гонго Бельды гранату здорово метал, прыгал хорошо. Получили приглашение на краевую олимпиаду. Обрадовались ребята, готовятся к ней. Мы пошлем спортсменов и небольшой коллектив художественной самодеятельности, самых лучших ребят и девочек. Саша и артисты нанайского театра встречались с московскими артистами, мы не будем, конечно, удостоены такой чести, но все же...
— Ты, как всегда, не можешь без подвоха, — усмехнулся Богдан.
— Но главное в комсомольской работе сейчас, — продолжал Яков, — это овладение военным делом. В Испании война. Молодые просятся в армию, каждый день приходят в райком, в военкомат...
Идари вглядывалась в лица говоривших и удивлялась перемене, которая так незаметно для нее произошла за столом, где только что шумели, шутили и хохотали. Как они теперь серьезны, эти молодые дянгианы.
— Вы праздники справляете, идут у вас дела в гору, — Михаил затянулся, выпустил дым через нос и продолжал задумчиво: — Ездите вы по району, все замечаете. А заметили, как оскудели продовольствием и товарами магазины в селах, стойбищах? Дело не только в том, что товаров мало, спрос стал большой. В одном магазине появились балалайки, мандолины. Вы бы видели, как ринулись молодые люди за ними! Нарасхват разобрали. Малыши притащились за балалайками, а их уже нет. Плачут. Матери их насели на меня, подавай им сухофрукты! Понравился компот из сухофруктов. А где я достану их? Плохо со снабжением, интегральная кооперация отжила свое, не может больше удовлетворять спрос рыбаков. Надо другую, более сильную, концентрированную кооперацию. Об этом и в крае говорят... К полуночи, переговорив о делах, с шутками, со смехом гости разошлись по домам.
— Какие люди, — уже в который раз повторяла Идари. — Какие люди, не подумаешь, что дянгианы, веселые, хорошие.
— Мама, хорошо бы тебе все время с ними рядом жить, а? — подхватил Богдан.
— Нет, сынок, не смогу я здесь жить, да и отец тоже не захочет. Мы привыкли к своему Джуену.
— А Владилен привык к тебе, — проговорила Гэнгиэ.
— Верно, привык. Сердце вы разрываете мое: там, в Джуене, тоже внуки и внучки, здесь — вы. Так и придется жить: в Джуене — думать о вас, здесь — думать о джуенских.
Утром, поспешно позавтракав, Гэнгиэ с Богданом собрались на работу.
— Как хорошо, что мама здесь, — говорил Богдан по дороге, — тебе меньше забот, завтрак не готовить, Владилена не водить в детсад.
— Я будто отдыхаю, — вздохнула Гэнгиэ. — Скоро кончится этот отдых.
На работе ее поджидала незнакомая нанайка.
— Приехала я из Дады, — сказала посетительница. — Зовут меня Зина, фамилия Бельды. Это правда, что многодетным женщинам какие-то деньги будут выдавать?
— Правда, — ответила Гэнгиэ. — Бумаги оформляют загс и сельсовет.
— А у нас никто не верит. За что платить? За то, что с мужем спала да детей наплодила?
— Это говорят те люди, которые детей не выращивали, не знают, как трудно приходится матерям. Не надо слушать глупых людей.
— Сами многодетные так говорят.
— Они просто себя не уважают.
— Может, так. А еще скажи, это верно, если муж побьет жену и случится при этом выкидыш, то судят мужа?
— Да, судят. Этот указ защищает нас, женщин. Судят и врачей, которые по просьбе беременной сделают ей аборт.
Женщина замолчала, задумалась. Гэнгиэ, глядя на нее, прикидывала, сколько еще по району осталось многодетных матерей, не оформивших документы на получение пособий по многодетности.
— У меня шестеро детей, — наконец проговорила Зина Бельды. — Носила седьмого, упала, и выкидыш случился.
«Муж виноват, — догадалась Гэнгиэ, — да детей жалеет».
— В сельсовете сказали, на шестерых детей денег не дают. Это верно?
— Верно. Вот если бы родился седьмой, сразу после родов оформили бы бумаги и ты получала пособие.
— Откуда было знать...
— Надо было осторожнее...
— Будешь с ним осторожнее! — вдруг выкрикнула женщина и тут же спохватилась, замолчала.
— Так что будем делать с ним?
— Не надо его трогать, — тихо ответила Зина. — Жили столько, проживем еще. Терпеть — это наша доля. Ты не объясняй, мол, по новым законам не так надо. Нового мужа мне не найти уже.
Женщина поднялась и вышла.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Контора правления колхоза «Рыбак-охотник» стала вторым домом Холгитона. Утром он заявлялся раньше всех, садился на свое место под телефоном и закуривал. За ним появлялся Пиапон, затем один за другим — колхозники.
— Отец Нипо, как твоя игрушка, не звенела? — спрашивали Холгитона.
— Рано еще, — серьезно отвечал старик.
— Ничего не рано. Звони, узнавай, какой пароход идет с низовья.
Пароходами снизу интересовались многие родители, дети которых учились в Николаевске-на-Амуре, в педучилище. Летом они возвращались в родные стойбища, привозили юношеский задор, веселье, новые игры. С их легкой руки в Нярги и молодые взрослые приобщились к городкам, волейболу и футболу. На берегу протоки, на травяном поле гоняли мяч, здесь же натянули волейбольную сетку.
— Отец Нипо, дом доктора как, строится? — спрашивали Холгитона.
Пообещал старик следить за строительством медпункта, и кто-то назвал его бригадиром, вот с тех пор и стали к нему приставать с этим вопросом.
Холгитон и на самом деле часто приходил к плотникам, будто отвечал за строительство, и, выкурив с ними трубку, шел к будущей электростанции — так именовался небольшой домик, где должны были установить движок, динамо-машину и щит с рубильниками.
— Все хочу своими глазами видеть, — говорил он, — все хочу понять своей глупой головой. Жизнь-то какая наступила, что ни день — новость.
Приходили утром колхозники в контору не за указаниями и не с просьбами, хотя такие тоже находились, а послушать новости. Читал газету Иван-зайчонок, пропагандист, ликвидатор неграмотности, комсомольский вожак. Газеты приходили с недельным запозданием, но это не уменьшало интереса к ним — новости всегда новости, даже если и не первой свежести.
Няргинцы внимательно следили за событиями на далекой, неизвестной испанской земле. Привыкли они отмечать на карте Пиапона те места, где происходили какие-нибудь события. Нр на карте Пиапона не было Испании, тогда принесли школьный глобус, Испания выглядела на нем с ноготь большого пальца — ничего не разглядишь. Зато события, происходящие в нашей стране, были у всех как на ладони.
— Хорошо ты сделал, отец Миры, что купил эту умную карту, — в который раз расхваливал Пиапона Холгитон. — Будто сидишь на небе и сверху на землю смотришь.
Однажды Иван прочитал сообщение о беспосадочном перелете «АНТ-25». Этот перелет экипажа Чкалова взбудоражил няргинцев.
— К нам прилетели! К нам! — закричали они.
— Это же совсем недалеко, вот остров Удд!
Иван с помощью Кирки и студентов Николаевского педучилища прослеживали по карте маршрут «АНТ-25».
— Эх! Как хорошо, что дети наши выучились! — восклицал Оненка, похлопывая по плечу Ойту. — Все они знают, все понимают, что ни спросишь...
— Помните «Челюскина»? — комментировал Иван. — Так вот они пролетели через мыс Челюскин. Девять тысяч триста семьдесят четыре километра пролетели за пятьдесят шесть часов...
— Все время летели?
— Все время. Сказано же, беспосадочный.
— В Хабаровск они, может, через Нярги пролетят?
В Хабаровск «АНТ-25» пролетел через Комсомольск, где выбросил вымпел, и никто из няргинцев не видел самолета и не слышал даже его гула.
— Наверно, над Болонью пролетел, — гадали они.
— Нет, скорее над Джуеном.
Завидовали няргинцы болонцам и джуенцам, которые, как они полагали, видели самолет Чкалова. Больше всех завидовал Иван-зайчонок, и не болонцам, а тем, кто находился рядом с героическим экипажем. Иван часто встречался на Амуре с моряками канонерских лодок, мониторов. Как восхищался он, глядя на них! Как он хотел быть похожим на них!
«Моряки — это люди особые, — думал он, — куда мне до них, мне бы в красноармейцы».
Молодой охотник давно мечтал о военной службе. Что натолкнуло его на мысль служить в Красной Армии — встреча ли с красноармейцами, кинофильмы или газетные статьи, — он не сказал бы определенно. Когда он учился на курсах в Найхине, то подружился там с молодым учителем Акимом Самаром. Допоздна прогуливались друзья по уснувшему Найхину, садились на берегу тихой протоки в лодку и продолжали бесконечный разговор. Прочитали они вместе первые нанайские книжки «Бедный человек Гара», потом «Как Бага пошел учиться».
— По-нанайски написано, — мечтательно говорил Аким, — и хорошо написано. Нанай написал.
Иван слышал грусть в словах Акима, но не знал о его думах.
— Ты ведь редактируешь школьный журнал, там дети пишут тоже по-нанайски.
— То дети, а это настоящие книжки. Настоящие. Был я в типографии, впервые увидел, как газеты печатают. Дух захватывает. Ведь так печатали и эти книжки.
Через несколько дней Аким Самар показал Ивану газету «Учебный путь», в которой была напечатана его заметка.
— Сам написал? — недоверчиво спросил Иван.
— Сам, — выдохнул Аким, — боялся сильно, потом махнул рукой, написал и отнес в газету. Напечатали.
— Ну вот, напечатали тебя. По-настоящему напечатали.
— Иван, писать я хочу! Грудь распирает, голова от мыслей кружится, писать хочу.
— А я в Красную Армию хочу, — вдруг выпалил Иван.
— Наши мечты должны сбыться, Иван! Мы живем в такое время, советская власть идет нам навстречу, чтобы наши мечты сбывались. Только и от нас самих многое зависит. Я будут писать. Буду учиться еще и буду писать.
Аким Самар начал писать статьи в газету, стихи, песни, собирал у стариков сказы и легенды. Он осуществлял свою мечту.
— А мне как быть, что делать? — растерянно спрашивал Иван.
— Учиться, прежде всего учиться, — отвечал Аким.
Учиться. Иван мог, как его сверстники, поступить в Николаевское педучилище, но учительская работа его не прельщала, он все еще надеялся на что-то, хотя ему сотни раз твердили, что нанай не берут в армию и не возьмут. Когда Яков Самар возглавил райком комсомола и потребовал от сельских комсомольцев усилить военную работу среди молодежи, Иван воспрянул, с азартом начал учиться сам военному делу и других обучать. Организовал кружки ПВХО, ворошиловских стрелков, советовался с Яковом, бывал на военной подготовке, встречался там с командирами Красной Армии. Юноши-няргинцы серьезно занимались военным делом, на груди у многих красовались по два, а то и по три значка. Секретарь райкома комсомола был доволен Иваном, хвалил, ставил его в пример другим.
— Яков, зачем все это, нас все равно не берут в армию? — спрашивал Иван.
— А если японцы нападут, как люди будут защищаться, если сейчас их не научить? Это не лишнее, Иван, ты делаешь очень нужнее дело. Учти еще одно. Твой дед ходил в партизаны, воевал. Может, и тебе придется в партизаны идти. Время тревожное, Иван, фашизм на земле силы наращивает, японцы собираются захватить нашу землю до Урала. Мы должны быть всегда наготове, мы должны научиться держать в руках винтовку...
Иван учил молодежь держать винтовку в руках, организовал женскую группу, женщины тоже учились пользоваться оружием и противогазами.
...Героический экипаж «АНТ-25» вновь разбередил душу Ивана. Нет, Иван не мечтал о полетах, он понимал, что летать не сможет, потому что боялся высоты, он просто видел себя в форме красноармейца, с боевой винтовкой, охраняющим самолет Чкалова.
— Дед, я поеду в военкомат, — сказал он Пиапону. — Всех забирают в армию, почитай газету. Я хочу красноармейцем стать. Ты был партизаном, ты за советскую власть воевал, а я хочу ее защищать.
— Вояка, — добродушно улыбнулся Пиапон.
— Дед, ты только не смейся... Я поеду.
Через день Иван приехал в Троицкое, явился к военкому.
— А, наш первый помощник, — улыбнулся военком. — Готовишь воинов?
— Я хочу красноармейцем стать, — заявил Иван.
— Опять за свое?
— Опять.
— Так вот, я на русском языке тебе объяснял: нанайцев в армию не берут. Почему не берут?
— Потому что их очень мало на земле, — подхватил Иван.
— Вот, вот, помнишь. Так вот, случись война, и они погибнут на войне. Кто в ответе? Зачем советская власть спасла вас от полного вымирания? Чтобы на войне погибли? Her, советская власть спасла вас от полного вымирания и она же сохранит вас. Вот так, молодой товарищ.
— Нет, не так! Вы новую Конституцию знаете?
Военком наморщил лоб, брови его поднялись.
— Причем тут Конституция? Мы говорим...
Иван выскочил из военкомата и направился в райком партии. К Глотову его не пропустили.
— Я по очень серьезному делу, Конституции дело касается. Мне надо обязательно товарища Глотова, — объяснял он.
Через полчаса закончилось какое-то заседание, и Глотов пригласил Ивана.
— Ну, здравствуй, здравствуй, внук Пиапона, — проговорил Павел Григорьевич, пожимая руку молодого охотника.
— Иван я.
— Помню, Иван.
— Я пришел сказать насчет Конституции.
— Интересно. Выкладывай...
Иван вскочил и заговорил возбужденно:
— В Красную Армию хочу я, а меня не берут. Почему так? Неправильно это! Статья сто тридцать вторая. Всеобщая воинская повинность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР. Правильно?
— Да ты назубок знаешь Конституцию! Молодец!
— Пропагандист я, сотни раз это повторял людям. В Конституции сказано одно, а на деле получается другое. Почему меня не берут в Красную Армию? Что я, не гражданин СССР?
— Гражданин, гражданин.
— Статья сто тридцать третья. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Если я гражданин СССР, то почему не пускают меня защищать отечество? За советскую власть дед воевал, а меня защищать ее не пускают.
«Какая молодежь растет! — восхищенно подумал Павел Григорьевич. — И за такое короткое время так выросла. Не зря мы, старики, потрудились».
— Все верно, Иван. Ты садись, садись. Успокойся.
— Хорошо вам так говорить, да еще повторять про равноправие, что все равны в правах. Где тут равны? Русских берут в Красную Армию, а я нанай — и не берут.
— Ну, брат, подкузьмил! — засмеялся Павел Григорьевич. — Да ты настоящий полемист. Ну, молодец, обрадовал старика. Садись, Иван, садись. Ты, думаешь, один в армию рвешься? Не один ты, вас много. Спроси Якова Самара, спроси военкома, подтвердят они. И не одни нанайцы обижаются, другие национальности тоже считают за большую честь служить в Красной Армии. Но ты один явился с обидой на Конституцию. Молодец! А может быть, тебя на партийную учебу отправить?
— Нет, в Красную Армию хочу.
— В Институте народов Севера на отделении партийного строительства готовят партийных работников. Кстати, на днях уехал туда поэт Аким Самар.
— Аким Самар?
— Да, он. Что, знаком?
— Друзья мы.
— Может, тогда вслед за ним поедешь?
— Нет. Он мечтал учиться, писать, а я думал красноармейцем стать, а если выучусь, то и командиром.
— Хорошо. Думаю, будешь ты служить в армии. Если не в этом году призовут тебя, то в следующем, потому что законы теперь пересматриваются. Пиши заявление и оставь при военкомате.
— Спасибо, товарищ Глотов, — обрадовался Иван.
— А в армии, если пошлют учиться, учись на политработника.
— Хорошо, товарищ секретарь.
Павел Григорьевич, глядя вслед Ивану, проговорил:
— Достойный внук достойного деда.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Редко теперь встречались старые друзья. Митрофан почти не заезжал в Нярги, Пиаион в Малмыже бывал проездом. Чаще говорили они только по телефону.
— Телефон виноват, — смеялся Пиапон при встрече. — Раньше как бывало? Захотел я тебе слово сказать, садился в оморочку и ехал. А теперь? Снял трубку, але, але — и ты тут рядом, только лица твоего не видно.
— Не хитри, зазнался ты, — отшучивался Митрофан. — Колхоз твой передовой в районе, тебя хвалят, мол, добыл рыбы больше всех, село новое построил, вот ты и не хочешь теперь знаться со мной. Что Митрофан, у него отстающий колхоз, в хвосте плетется...
— Вот, Митропан! Ну, Митропан! Да кто нынче за одно притонение пятьсот центнеров рыбы взял? Не твои разве рыбаки? Разве не о тебе в газете писали?
— Ладно уж, писали, писали. Как у тебя дела-то идут? Как наши помогают?
— Очень хорошо! От души работают, хорошие плотники. Если бы не они, мы не смогли бы так скоро новое село построить. К осени почти все в новых домах будут жить, на столбах белые чашечки появились, провода натягивают, свет к зиме будет.
— Размахнулся ты, зависть берет.
— Ты тоже ставь столбы, тяни провода.
— Что толку от этого? В этом году мы не сможем свет провести, сил нет, денег маловато.
Митрофан закрыл на ключ выдвижной ящик стола и поднялся. Пиапон молча наблюдал за ним — постарел Митрофан, движения рук медлительны, волосы совсем поредели, побелели. Поднялся тяжело, в ногах захрустели суставы.
— На оморочке приехал? — спросил Митрофан, закрывая на замок дверь конторы.
— На чем еще ездить? — удивился Пиапон.
— Катер есть.
— На катере работать надо, для дела нам его дали.
— А твой зять Пячика по своим делам на катере разъезжает.
— Плохо это, мотор не бережет, людей не бережет, горючее зря тратит. Плохо. В колхозе все беречь надо, иначе как он разбогатеет?
Митрофан, улыбаясь, слушал друга.
— Особенно людей надо беречь, для них надо все делать, тогда будет хорошо, — продолжал Пиапон.
Надежда, как всегда, радостно встретила Пиапона, начала с упреков, мол, совсем, забыл он дорогу в Малмыж и в ее дом, потом посадила мужчин за стол, подала наваристый борщ.
— Сейчас опять по-нанайски будете лопотать, — ворчала она. — Теперь у вас колхозных дел по горло, есть о чем поговорить. А мне опять молчать.
— Надя, ничего, нанайский язык хороший язык, удобно говорить, — успокаивал ее Пиапон. — Ничего, ты слушай.
— Чего слушать? Ни слова не понимаю.
— Вот и хорошо, — засмеялся Митрофан. — У нас секреты.
Мужчины примолкли, налегли на борщ. Пиапон всегда с удовольствием ел приготовленные Надеждой борщи, свежие и кислые щи, его домашние хозяйки еще не научились так вкусно готовить.
— Пиапон, ты газеты читаешь? — спросил Митрофан.
— Маленько читаю, больше Ивана слушаю, он вслух читает для всех.
— Вот негодяи, расстрелять их мало, этих врагов народа — Зиновьева, Каменева...
— Росомахи они, не люди.
— Верно, не люди, Кирова убили, всю верхушку власти хотели уничтожить. Удалось бы им это злодейство, не стало бы нашей власти, вернулись бы к старому.
— Торговцы старые вернулись бы...
— Расстрелять их мало. Но беда, не одни они были, помощников много имели. Начнут, наверно, после суда помощников их выкорчевывать, корни-то, видно, успели пустить.
— В газетах пишут. Нелегко их выловить, откуда узнаешь, враг народа или не враг?
— Узнают, на то люди есть специальные. Ты на зверей умеешь охотиться, а они на врагов наших. Выловят.
— Выловят, — согласился Пиапон. Насытившись, мужчины встали из-за стола, закурили.
— К Воротину я приехал, — сообщил Пиапон. — Не может ничем помочь, совсем обеднел интегралсоюз, говорит, рыбаков будут отделять от охотников.
— Как отделять? — не понял Митрофан.
— Рыбаков будет снабжать один кооператив, охотников — другой. Так, говорит, будет лучше. Ему виднее. А я захожу в магазин, смотрю на полки, много товаров, таких товаров не было у прежних торговцев. Мука, крупы, сахар, соль — все есть. Но колхозники недовольны, мало, говорят, выбора. Понимаешь, им мало выбора.
— Это хорошо, Пиапон, это оттого, что достаток пришел в дом охотника.
— Достаток, это верно. Чем богаче будет колхоз, тем лучше люди будут жить — это я крепко понял. Теперь все время думаю, что бы еще такое сделать, чтобы новый доход был.
— Я тоже ломаю голову, решил пчеловодством заняться.
— Это мед собирать, по тайге ходить?
— Зачем по тайге? Ульи поставим, пчелы будут сами собирать мед, а мы будем только в бочки качать мед и продавать. Вот и доход...
Пиапон засомневался. Где же это было видано, чтобы бессловесная тварь слушалась человека? Корова, лошадь — это другое дело, они понимают человека.
— Корову ты подоил и сказал, иди, ешь травы побольше, принеси побольше молока. Корова тебя поймет. А как ты скажешь пчеле, принеси меду? Да их и не соберешь.
— Собирают, Пиапон, и заставляют мед носить. Есть такие умельцы, пчеловоды.
— Им, как коровам и лошадям, тоже корм заготовлять? Какой корм им требуется?
— Сахар, говорят, на зиму надо.
— Сахар дорогой, его покупать надо. Это невыгодно.
— Так они тебе за лето столько меду заготовят, что все окупится, и доход будет.
— Не верю, Митропан. Вот увижу своими глазами, попробую мед, подсчитаю доход — тогда поверю.
— Ладно, договорились.
— А я тоже займусь новым делом. На охоту не надо ходить, на лыжах не надо бегать, стрелять не надо, а шкурки чернобурки будут.
— Чернобурок разводить хочешь?
— Аха, разводить.
— Не подохнут? В неволе ведь.
— С чего им подыхать? Сытно будем кормить.
— Доброе дело, если все гладко пойдет, доходное дело. Ну, давай начинай, а я погляжу.
Друзья рассмеялись.
«Неужели пчелы для человека мед собирают? — думал Пиапон, возвращаясь домой. — Не верится, какой-нибудь шутник, наверно, обманывает Митропана. Свинью не заставишь рылом огород вскапывать, так же и пчелу не заставишь мед собирать. А чернобурок можно выращивать, они ведь как собаки. Приживутся. Будем кормить вдоволь рыбой, мяса только маловато будет. Ничего, детей заставим рогатками бурундуков бить, на крыс и мышей ловушки ставить. Будут чернобурки, доход будет, колхоз разбогатеет».
Опьяненный радужными мыслями, пристал Пиапон напротив своего дома. Время было вечернее, молодежь ошалело гоняла мяч на берегу, крик и смех доносились до Пиапона. Председатель колхоза был заядлым болельщиком, не выдержал, не заходя домой, пошел смотреть футбол. Болел он всегда за команду Ивана.
— Мокрая тряпка! Бей, чего сопли распустил?!
— Разваренная макарона!
«Ишь, чего придумали, — усмехнулся Пиапон. — Разваренная макарона. Кого это они так?» Болельщики разносили нападающего команды Бориса Оненка, не забившего гол в пустые ворота.
— Чему тебя в Николаевске учаг? Пинать мяч не научился!
Пиапон подсел к отцу Бориса.
— Правильно ругают, так ему, паршивцу, и надо, — посетовал Оненка. — Я старик, и то правильно пнул бы.
— Ты его без ужина оставь, — посоветовал кто-то.
— Кто побеждает? — спросил Пиапон.
— Наши. Пять мячей забили, да мой паршивец шестой промазал, — недовольно ответил Оненка.
— Если побеждают, то чего сердишься?
— Ты бы видел, как он промазал! — и Оненка заныл, как от зубной боли.
Но тут опять прорвались вперед Иван с Борисом, ловко пасуя мяч, все ближе и ближе подходили к воротам.
— Бей! Пинай! Сын, пинай! — заорал Оненка.
— Ну и ну! — Пиапон не заметил, как привстал. — Ну, давай! Давай, Ива-ан! Пинай!..
Защитники окружили нападающих, мяч затерялся между ногами футболистов. Вратарь бросился вперед, и в это время мяч затрепетал пойманным сазаном в сетке ворот.
— Ну вот, хорошо, — сразу успокоившись, проговорил Оненка и неторопливо стал набивать трубку, будто не он только что надрывал глотку.
— Кто забил? Не заметил, кто забил?
Пиапон не заметил, кто забил гол, это было ему безразлично, главное, что побеждала команда внука. Сумерки сгущались, и матч закончился. Няргинские футболисты не признавали никаких таймов и других правил игры. Будь светло, они играли бы еще несколько часов.
— Хорошо, дед, сегодня Иван играл, — раздался голос Хорхоя. — Ты видел, как он забил шестой мяч?
— Не заметил. А ты чего не играл? Или председателю сельсовета неудобно мяч гонять?
— Дед, из райисполкома звонили, — не отвечая Пиапону, продолжал Хорхой, — требуют, чтобы мы съездили в Джуен и подытожили соревнование наших колхозов и сельсоветов.
— Безмозглые. Сидите в райисполкоме и в сельсоветах, простых вещей не понимаете...
— Богдан тоже?
— Если он звонил — тоже, выходит, безмозглый. У кого сейчас время найдется, чтобы проверять обязательства? Ну скажи, у кого есть время? Надо на кетовую выезжать, план государственный выполнять. Понял? Дома достраивать надо, люди дорожат каждой минутой. Тебе одному нечего делать, вот и езжай с Шатохиным.
— Колхозное соревнование тоже надо проверить.
— Будет время — проверим...
Хорхой обиженно засопел. На следующее утро, когда он заикнулся было о катере, то получил такую нахлобучку от Пиапона, что, сгорая от стыда, выбежал из конторы, сел в оморочку и выехал в Джуен. Вдогонку за ним устремился Шатохин, но только в Джуене догнал его.
Вернувшаяся из Троицкого Идари радушно встретила племянника и его секретаря, наварила, нажарила вкусного и до поздней ночи угощала их, расспрашивала о братьях, сестре, родственниках. А Пота все твердил, что пусть няргинцы не зазнаются, они, озерские, тоже многого добились.
— Завтра покажу, сами увидите, — твердил он, немного захмелев.
Утром Хорхой встретился в конторе с председателем Джуенского сельсовета Боло Гейкером, просмотрел документы и убедился, что джуенцы работали не хуже его, а по подписке на заем даже опередили на несколько сот рублей; ликбез посещали почти все колхозники, кроме престарелых; боролись за чистоту в домах, только художественная самодеятельность не была организована, руководителя не находилось. Школа была подготовлена к началу учебного года.
Настала очередь Поты показывать свое хозяйство. Колхоз «Интегральный охотник» выполнил план заготовки пушнины на триста процентов, занял первое место по району; плач добычи рыбы тоже перевыполнили за полугодие, но запустили работу на полях, огородах и в животноводстве.
— Не умеют и не хотят ухаживать, как заставишь через силу? — спрашивал Пота и сам отвечал: — Не заставишь никак. Здесь мы уступаем «Рыбаку-охотнику». Домов рубленых тоже мало. Мы зимой будем лес готовить, трактором будем вывозить.
Пота посмотрел на Хорхоя и Шатохина — какое впечатление на них произведет упоминание о тракторе — и улыбнулся, когда от удивления брови Хорхоя полезли вверх.
— Да, у нас есть трактор. Купили. Пни будем корчевать, пахать будем, лес вывозить. Много работы. Сильный трактор, все может делать.
Председатель «Интегрального охотника» показал гостям свое детище, гордость свою,, хлопал по железным бокам трактора и повторял:
— Сильный трактор, сотню лошадей заменяет.
Трактор произвел впечатление на Хорхоя и Шатохина, и на обратном пути они не раз заводили о нем разговор. Вернувшись в Нярги, Хорхой, позабыв об обиде, с берега прямо явился к Пиапону.
— Дед, отец Богдана трактор купил, — сообщил он.
Изумленный Пиапон только спросил:
— Зачем ему трактор?
— Пни корчевать, землю пахать, лес вывозить.
— Он, наверно, все колхозные деньги на него ухлопал?
— Не знаю.
— Нет, так нельзя, нам рано еще дорогую машину покупать, да и работы для него маловато у нас. Пни корчевать, лес вывозить? Это и лошадьми сделаем. Нет, рано трактор покупать. Ну, расскажи, что у него еще.
Хорхой с Шатохиным подробно доложили об увиденном и проверенном. Выслушав их, Пиапон сказал:
— Итоги надо подбивать в конце года, так и скажи в райисполкоме.
Хорхой пошел домой, встретившая его на крыльце жена сообщила о болезни матери.
— Вернулся, сын? — спросила Исоака, увидев Хорхоя. — Заболела я, сын, отца твоего каждую ночь вижу, плачет он, дорогу в буни не находит. Совсем исхудал, кожа да кости. Надо касан устроить, отправить его душу в буни. Знаю я, ты председатель, тебе нельзя. Но я каменного дюли деда твоего украдкой сохранила, перевезла сюда, спрятала. Теперь, говорят, по Конституции шаманить разрешают...
Исоака не первый раз обращалась с этой просьбой к сыну и совсем лишила его спокойствия. Хорхой не знал, что ему делать. Он недавно жег сэвэнов, отбирал и ломал бубны шаманов, за что схлопотал пулю и его зовут «Дырявое ухо». Как же ему теперь отправить душу отца в буни без шамана? К лицу ли председателю сельсовета организовывать касан? Но он уступил настойчивым просьбам матери. Он наизусть выучил статью Конституции, где говорилось: «Свобода отправления религиозных культов... признается за всеми гражданами». Он упускал только небольшую и, как ему казалось, незначительную часть статьи: «...и свобода антирелигиозной пропаганды...», которая ничего ему не говорила.
— Разрешают, — ответил он, — в новом законе сказано.
— Тогда касан надо делать.
— Надо, только не в селе, на дальних озерах, чтобы никто посторонний не узнал. Если пронюхают, нехорошо мне будет, председатель сельсовета я.
— Ладно, ладно, никто не узнает. Великого шамана тайком привезем, он сам все понимает, он твой дед, — ответила Исоака.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Приезжих было пятеро, возглавлял их этнограф, как он отрекомендовался, Казимир Дубский. Расположились они в школе. Дубский потребовал от Хорхоя, чтобы он обеспечил явку всех няргинцев в школу, назначил время отдельно для мужчин и для женщин. Няргинцы привыкли ко всяким медицинским комиссиям, приезжавшим для обследования легких, глаз и других органов. Врачи охотно помогали всем больным. Но про группу Дубского никто не мог сказать ничего определенного — врачей среди них не было.
— Эти ученые будут тебя измерять, — говорили наиболее осведомленные.
— Чего меня измерять?
— Найдут что измерить, ты же голый будешь.
Пиапон разозлился на Дубского и, встретившись с ним, поссорился.
— Тебе, бездельнику, всегда время есть, а у нас нет времени, нам завтра на кету выезжать надо! — горячился он.
Дубский стоял перед ним прямой и высокий, как столб, с каменным лицом.
— Обзывать меня не надо, я выполняю задание, — спокойно отвечал он, — важное тоже дело. Государственное.
— У меня важнее дело, мы пищу для людей готовим, ты без еды не стал бы работать.
— Не будем спорить, Пиапон. Рыбаки выедут на тони послезавтра или позже, когда мы закончим все исследовательские работы.
— Ты мне план срываешь, я в райком жаловаться буду, я в Хабаровск пожалуюсь.
— Бесполезно, у меня есть документы.
Казимир Дубский по привычке, совсем не желая того, похлопал тяжелой ладонью по кобуре пистолета и стал расстегивать пуговицу кармана.
— Не надо твоих документов, мы давно знаем тебя, — неприязненно глядя в лицо Дубского, проговорил Пиапон.
Он помнил, как Дубский несколько лет назад проявил интерес к Воротину, и тот на несколько месяцев исчез из Малмыжа.
— Только мы никак не поймем, кто ты, — продолжал Пиапон. — Больше ученый или больше НКВД?
— Когда надо — ученый, когда надо — НКВД. Вот сейчас, когда ты меня оскорбляешь, — я НКВД.
— Плохо, Дубский, очень плохо. Человек должен иметь одно лицо, а ты имеешь два лица.
— С вами как обойдешься одним лицом? Вас еще учить да учить надо. У меня еще есть третье лицо, я ваш учитель.
— Не надо нам такего учителя, как ты.
— Это от тебя не зависит, меня партия, советская власть направила к вам. Газеты читаешь? Слышал о расстреле врагов народа? А сколько осталось у них последышей? Надо их выловить? Надо. Вот какое дело, Пиапон. Может, здесь, среди вас, прячется враг народа, ты не знаешь.
— А ты все, конечно, знаешь. Откуда тут враг народа может появиться, от амурской ракушки, что ли?
— Ты еще слепой, Пиапон, как только что родившийся котенок, зря тебя в кандидаты партии приняли. Никакой ты еще не большевик, нет у тебя бдительности.
— В партию не ты принимаешь, — Пиапон слегка побледнел. — Только я знаю, что человек, имеющий три лица, — нехороший человек.
— Пиапон, запомни, наступает время, когда каждый человек будет в ответе за каждое свое слово.
— Раньше мы слова на ветер бросали?
— Раньше было не так, теперь, после разоблачения врагов народа, мы будем по-новому относиться к каждому слову. Понял?
— Кто это — мы?
— Мы. Сам понимаешь. Будь осторожным, Пиапон, предупреждаю.
— Не пугай, Дубский, я старик, отжил свое. Тебя я не боюсь, ничего ты со мной не сделаешь.
— Это еще как сказать.
«Собака, запугать меня решил, — думал Пиапон, когда ушел Дубский. — «Новое время наступает!» Какое новое время? Врагов расстреляли и правильно сделали. Почему новое время должно наступить? Есть одно, советское, время и новая жизнь, ничего другого нет, собака. «Еще не большевик...» Росомаха».
Пиапон вспомнил райком и прием в кандидаты партии. Все происходило буднично, без торжественности, казалось, что все райкомовские вместе с Глотовым куда-то спешат, торопливо задают вопросы, подают кандидатскую карточку, жмут руку, — и выходи из кабинета. Пиапон остался недоволен таким приемом в партию. Одно оправдывало Глотова — вступающих было много, со всего района, из каждого села приехали рыбаки, охотники, лесозаготовители, механизаторы.
— Дед, Дубский требует людей, — прервал размышления Пиапона Хорхой.
— Который Дубский: ученый, учитель или НКВД?
— Один Дубский...
— Он здесь хозяин, пусть берет хоть всех колхозников.
Казимир Дубский от Пиапона вернулся в школу, где помощники поджидали его в прибранном классе. В коридоре толпились охотники, одни курили, сидя на корточках у стены, другие нетерпеливо шагали по длинному коридору, — всех их ожидала неотложная работа, которая накапливалась перед осенней путиной. Когда пригласили в класс, все устремились туда, но пропустили только четверых. Были среди них Калпе и Оненка.
— Я совсем здоров, чего меня смотреть, — заявил Калпе.
— Тебя не спрашивают, — по-нанайски ответил Дубский. — Зашел — так делай, что тебе прикажут.
— Ты позвал, чтобы приказывать?
— Не задерживай людей. Раздевайся.
Калпе разделся, подошел к одному из сотрудников Дубского, тот на листке бумаги записал его фамилию, имя и стал измерять рост, руки, ноги, аккуратно занося данные на листок. В конце записал: «кожа № — 5 по шкале Лушана». Другой помощник ворошил волосы Калпе, разглядывал и записал: «цвет волос № 27 по шкале проф. Фишера». Третий долго измерял лоб, межглазие, голову. Записал: «форма черепа брахикефал».
— Не ошиблись? — спросил стоявший рядом Дубский.
— Нет, Казимир Владимирович, типичный брахикефал, хотя можно отнести и к мезокефалу.
— Восемьдесят один и два. Пишите мезокефал.
Калпе прислушивался к незнакомым словам, пытался понять их смысл, но, так ничего и не поняв, начал одеваться.
— Это все? — спросил он. — Из-за этого ты приказывал раздеваться?
— Все, — отрезал Дубский. — Можешь идти.
Когда Калпе вышел в коридор, его окружили, стали расспрашивать.
— Руки, ноги, голову измеряют да по-своему разговаривают, — недовольно ответил он.
— Как по-своему, не по-русски, что ли?
— А кто их разберет, бездельников, людей только от работы отрывают.
Антропологические исследования никогда всерьез не интересовали Дубского, он считал себя больше этнографом и археологом, хотя и в этих науках не преуспел. Он много ездил, делал записи на сотнях страниц, но не написал ни одной более или менее серьезной статьи. Каждый раз, выезжая в экспедицию, он мечтал привезти необычный материал и опубликовать статью, которая бы сразу принесла ему славу. Интересные материалы были, вдумчивый ученый написал бы не одну статью, но Дубский не обладал аналитическим умом и писал только расплывчатые, обширные отчеты, которые как-то оправдывали его поездки и денежные расходы.
После полудня Дубский собрал молодых охотников, пригласил Хорхоя и выехал с ними в старое Нярги, где одиноко жил Полокто.
— Почему он один остался? — спросил Дубский Хорхоя.
— Ушли от него дети, жены, вот он и остался. В колхоз не вступил.
Дубский поздоровался за руку с Полокто, дал ему папиросу. Полокто неумело, осторожно закурил.
— Почему ты один остался? — спросил Дубский.
— Один хочу жить, — нехотя ответил Полокто.
Дубскому вскоре надоело вести беседу с неразговорчивым Полокто, и он зашагал к древнему кладбищу. Молодые охотники с лопатами на плечах, неуверенно, гуськом шли за ним. На той стороне Дубский не сказал, куда они едут, и теперь только они смутно стали догадываться о цели своего приезда. Когда пришли на кладбище, юноши столпились в кучу, страх обуял их. Их с детства пугали страшилищем — калгамой. Стоило им в летнюю пору задержаться в прохладной воде, как со стороны кладбища появлялся калгама. Лишь много позже они узнали, что это кто-то из взрослых надевал вывернутую вверх мехом шубу и пугал их.
— Что это, раскапывать могилы? — спросил Хорхой.
— Будем копать, — бодро ответил Дубский. — Испугались? Эх вы, а еще комсомольцы! Ну, смелее! Ради науки надо потрудиться. Ладно, если вы еще верите злым духам, разгоним их. — Дубский вытащил пистолет и выстрелил в крест. — Все, духи исчезли. За работу.
Молодые охотники копали в трех указанных Дубским местах. В одном вскоре докопались до человеческого скелета. Дубский выхватил лопату и стал ею отгребать землю от костей. Копал он точно так, как мальчишки копают в поисках червей. Хорхой со страхом смотрел на белевший череп, на позвонки, ребра. Дубский осторожно взял череп, поднял, и позвонки оторвались от земли.
— Черт, — выругался дубский и острием лопаты отделил череп от позвоночника.
«Что он делает? Это же наш предок. Это же кощунство».
— Типичный брахикефал, — бормотал Дубский, разглядывая череп, — самый распространенный среди... — Он спохватился, взглянул на Хорхоя. — Копайте, копайте! — прикрикнул он на юношей.
Следующий могильник озадачил его, в истлевшем берестяном гробу лежали куски шелка и травы-наокты. Хорхой вдруг побледнел, он вспомнил погибшего деда Баосу, безуспешные поиски тела, похороны набитой травой шелковой фигуры, приблизительно напоминавшей человеческое тело.
«Может, это его откопали, — тревожно подумал он, оглядываясь по сторонам.— Нет, место другое. Его похоронили в деревянном гробу».
— Что за чушь? Где скелет? Почему шелк и трава? — бормотал Дубский, палочкой вороша остатки травы и шелка.
Солнце опускалось, и в густых тальниках становилось сумрачно. Молодые охотники испуганно оглядывались, им совсем не хотелось оставаться на кладбище ночью.
— Почему шелк без скелета? — спросил Дубский.
— Это давно захоронили, никто не знает почему, -ответил Хорхой. — Мы пошли, копать больше не будем.
Дубский не ответил, взял череп и пошел за ними.
В Нярги все узнали о потревоженных могильниках, о черепе, который Дубский отделил от позвонка лопатой. Никто больше не хотел встречаться и разговаривать с этнографом-»могиловорошителем». Дубскому больше нечего было делать в Нярги, основная его цель — Хулусэн, великий шаман Богдано. На следующее утро, оставив антропологов в селе, он выехал в Хулусэн.
Старый Богдано встретил названого сына с распростертыми объятиями, ведь благодаря ему он сохранил бубен, шапку с бычьими рогами, шаманскую одежду.
— Приехал, сын, приехал, — бормотал старик, обнимая Дубского.
— Приехал, обещал ведь, — улыбнулся этнограф. — Что нового? Как здоровье?
— Старый уже, трухлявое дерево...
— Э, ты еще долго проживешь, ты еще научишь меня шаманским хитростям, обещал ведь в прошлый раз.
— Хитростей, сын, у меня нет, у меня все по-настоящему.
«Знаем, знаем, — думал Дубский. — Хватит сцены разыгрывать. Я должен, старик, из тебя все выжать, как сок из лимона». Сравнение показалось Дубскому буквальным, он усмехнулся: лицо старого нанайца и на самом деле было желтым, как лимон.
— Научишь меня настоящему делу, — сказал он.
«Сегодня он другой, — обидчиво думал старый шаман. — В прошлый раз вроде все иначе было, а теперь не обнял меня, ни разу не назвал отцом. Кончилась, наверное, игра».
— Чему тебя научить, ты и так все знаешь, — проговорил старик.
— Накорми меня, и начнем работать. На Амуре ты единственный шаман, который может отправить душу умершего в буни. Вот и расскажешь об этом.
«Что-то случилось в его жизни, силу, что ли, почувствовал, или его большим дянгианом сделали, — думал старик. — Покрикивает, повелевает, косо смотрит. Я тебя, сын, сразу разгадал...»
После еды Дубский вытащил большой блокнот из полевой сумки, с которой не расставался, и стал записывать обряды религиозного праздника касан. Поздней ночью при коптилке он закончил запись, выпил кружку чая и уснул. Утром старик Богдано показал, как просят, счастья у восходящего солнца, как режут свинью. В полдень оба усталые, разморенные жарой, отдыхали под развесистым дубом. Старый шаман прикрыл веки и задремал сидя. Дубский полулежа курил папиросу и обдумывал следующий свой ход. Записей он сделал достаточно, но чувствовал, что старик многое еще скрывает от него. Он мог припугнуть шамана, сила и власть были на его стороне, но он понимал, что тогда старик совсем запрячется, как улитка в панцире, замкнется, и ничем его больше не расшевелишь.
Дубский лениво смотрел на широкий Амур, на дальние голубые сопки. Вдруг он увидел пароход, поднимавшийся против течения, и долго наблюдал за ним. Молчать больше было невыносимо, да и старик мог крепко уснуть.
— Старик! Богдано!
Шаман открыл глаза.
— Пиапон твой близкий родственник? — спросил Дубский.
— Близкий.
— Председатель райисполкома Богдан Заксор тоже?
— Да.
— Почему он председателем райисполкома стал?
— Не знаю, люди подняли, наверно.
— Он был одним из хозяев священного жбана?
— Да, имел право брать священный жбан.
— Может, поэтому стал председателем?
— Может быть.
«Хорошо, все пригодится, — думал Дубский, делая записи. — Что касается Пиапона, будет касаться и председателя райисполкома. Покладистее будут, когда услышат такое».
Дубский закрыл блокног, опять на глаза ему попался пароход. И вдруг ему пришла в голову озорная мысль.
— Богдано, ты великий шаман, все можешь сделать, — продолжал он. — Сможешь остановить, вон тот пароход?
— Люди там, а я человек тоже.
— Ну, останови!
Старик в упор пристально и долго глядел в глаза Дубского и строго проговорил:
— Человек движет пароход, а ему все можно повелеть. Я повелел. Смотри, остановился твой пароход.
Дубский взглянул на широкий Амур и от удивления приоткрыл рот, глаза округлились, как у совы, — пароход застыл на месте. Этнограф поморгал, потом протер глаза платком, встряхнул головой, но пароход по-прежнему стоял на месте, виднелся между развилинами впереди стоящего деревца. Но Дубский не был бы Дубским, если бы растерялся от этой неожиданности.
— Шаман, это советский пароход, он идет по распиеанию, а ты его остановил, — сказял он строго. — Ты будешь в ответе за это.
Старый Богдано презрительно взглянул на него и ответил:
— Тебе, человек с оружием на боку, власть вскружила голову. Тебе дали большую власть, а ты по своему скудоумию не знаешь, как ею пользоваться. Потому играешь. Сурово, несправедливо играешь. Смотри, где твой пароход.
Разгневанный Дубский бросил взгляд на Амур и не нашел парохода на прежнем месте, пароход будто на крыльях перелетел далеко вперед и уже исчезал за дальним кривуном.
«Волшебник, природный гипнотизер», — отметил про себя Дубский, а вслух сказал:
— Собирайся, поедешь со мной в Хабаровск.
— Что взять с собой? — спросил старик, давно догадавшийся, куда клонит его собеседник.
— Одежды немного, денег.
В этот же день Дубский перевез старого шамана в Малмыж, где собирался сесть на пароход.
— Куда поехал, старик? — спросил шамана Митрофан Колычев, случайно оказавшийся на берегу.
— В Хабаровск еду, вот к нему, к названому сыну.
Митрофан позвонил в Нярги и сообщил Хорхою, оказавшемуся у телефона, что старый шаман Богдано поехал в гости к Дубскому.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Холгитон порядком надоел Кирке, он каждый день являлся к нему советоваться, как дальше достраивать медпункт.
— Обыкновенный дом, пятистенный, — в сотый раз повторял Кирка.
— Нет, нэку, дом доктора не может быть обыкновенным, — твердил свое Холгитон, — я был в таком доме, знаю.
— Ты был в городской больнице, там другое...
— Мы не хуже их, у нас не должно быть хуже.
— У нас обыкновенный медпункт.
— Ох, нэку, как ты любишь это слово «обыкновенный». Ничего теперь не может быть обыкновенного, запомни это.
Подходил сентябрь, рыбаки собрались на кетовую путину, а Кирка все еще не решил, остаться ему в Нярги или уехать в другое село. В кругу своей семьи, рядом с ласковой матерью, рассудительным отцом Кирка обретал спокойствие, крепла уверенность в своих знаниях, и ему никуда не хотелось уезжать из-под теплого родного крова и из села, где родился и провел юношеские годы. Дома он принимал больных, выдавал порошки, микстуры, мази и спорил с ними, когда отказывались от сладкого лекарства. Уверенные в своей правоте, больные принимали медвежью желчь или иные домашние средства, потом вызывали шамана. Кирку это не беспокоило, он знал, пройдет немного времени, и его односельчане поверят ему. Конкуренции шамана он не боялся, но его тревожило спокойствие Хорхоя, бездеятельность его.
— Зачем мы недавно жгли еэвэнов, отбирали шаманские бубны? Зачем вывезли священный жбан? — спросил он однажды Хорхоя.
— Тогда так требовалось, — невозмутимо ответил он. — Теперь по-другому, Конституция разрешает. Я думал касан устроить, душу отца отправить в буни, да вот Дубский увез не вовремя великого шамана.
— С Богданом ты советовался?
— А чего советоваться? Голова есть своя, потом Конституция выше Богдана.
— Эх, Хорхой, слишком ты грамотный стал.
— Не такой, конечно, как ты, но ничего; понимаем.
— Ничего ты не понимаешь! Дурак! А еще председатель сельсовета.
— Что председатель? Что председатель? Ругаешь советскую власть? Недоволен? Ты осторожнее, брат, предупреждаю тебя. Газеты читаешь, знаешь, как с врагами народа...
Придет время, и Хорхоя подправят, в этом Кирка не сомневался. Не из-за него он собирался покидать Нярги — замучили его старики и родственники из-за священного жбана, который он вывез из Хулусэна и отправил в Ленинград.
— Не обращай на них внимания, — советовала Каролина Федоровна, — покричат, поругают и скоро забудут.
Кирка соглашался с учительницей, она права, жизнь так стремительно бежит, что скоро все забудут об этом проклятом жбане. Другие интересные дела захлестнут людей. Но как Кирке быть с Мимой, с первой любовью, с ее дочерью? Как глядеть в глаза своей бывшей жене Исоаке? По-прежнему его беспокоят красивые глаза Мимы, каждый раз при встрече с ней он чувствует, как начинает учащенно биться сердце. Заметив ее издали, он обходит ее стороной. Обходит он и Исоаку. Но сколько это может продолжаться? Ему же жить в Нярги, встречаться с ними каждый день, с первой любовью и первым позором. Как ему быть, не лучше ли уехать из родного села?
— Правда, уедешь? — спрашивала Каролина Федоровна. — Куда, в какое село? Из-за Исоаки бежишь? Ну, сознайся, мы же друзья, Кирка.
Кирка знал, что его отношения с молодой учительницей уже не были просто дружбой. Если бы не Каролина, то он давно уже покинул бы Нярги.
И Каролина знала, что пришла к ней большая любовь. С тех пор как Кирка вернулся в родной дом, встречаются они ежедневно, но признаться в своих чувствах не решаются. Все село знает об их встречах...
— Нанайку не может найти, что ли? — говорили одни.
— Там, в городе, к русским привык, зачем ему нанайка?
— Молодец Кирка! Такую красавицу в сетку запутал.
Каролина другое выслушивала от матери.
— Так кто же будут внуки, нанайцы? — спрашивала Фекла Ивановна.
— Может, нанайцы, а чем плохо?
— Плосконосые будут?
— Средний нос будет, ведь у меня острый. Тебя только нос беспокоит?
— Свой, русский-то человек привычнее.
— Перестань, мама, может, и русский будет у тебя зять, мы ведь ничего не знаем, мы с Киркой просто дружим.
— Чего мать-то обманываешь, не вижу, что ли? Моряков, командиров раньше приветливо встречала, а сейчас?
— А сейчас некогда, вон сколько работы в школе. К первому сентября школа должна быть готова, сама белю, крашу.
Каролина уставала за день в школе, но как только наступали сумерки, позабыв об усталости, шла на свидание.
— Медпункт почти готов, побелили уже, видела сама, — говорила она Кирке. — Кто хозяином будет?
Кирка молчал.
— Ты все еще не решился? Нерешительный ты.
— Если бы мне помогал Хорхой...
«Я тебе помогу, милый, любовь тебе поможет!» — хотелось крикнуть Каролине, но она сказала:
— Он мне помогает, дед твой помогает, обещают пристроить один класс в будущем году, потому что, я думаю, скоро семилетка будет в нашем селе.
— И ты останешься здесь?
— Останусь, мне здесь очень нравится. «И я останусь! Милая Карочка, останусь!» — Кара... Что мне делать? Хочу здесь работать, но сама знаешь...
— Знаю.
— Нет, не знаешь, ты ничего не знаешь... — Кирка почувствовал удушье, будто собирался прыгнуть в воду с высокой баржи или с рубки катера.
— Знаю. Из-за жбана и из-за бывшей жены Исоаки, но это глупо...
— Карочка, я тебя люблю, я потому не уезжаю, но ты еще не все знаешь...
Кирка замолчал. Молчала и Каролина.
— Я тебе все скажу, не могу больше молчать. Потом уеду.
— Ты скажи и останься. Или лучше я скажу за тебя. Ты был совсем молодой, пришла к тебе первая любовь, ты полюбил девушку, зовут ее Мима.
Кирка схватил руку Каролины, притянул ее к себе и охрипшим голосом спросил:
— Откуда тебе это известно?
— Стойбище Нярги маленькое, все, что происходило в одном конце, знали в другом. Ты думаешь, люди не знали про вашу любовь? Разве женщины не могли подсчитать, когда Мима вышла замуж и когда родила дочь? Когда тебя женили на тете, думаешь, не жалели тебя люди? Ты же был такой несчастный...
Кирка словно прыгнул в воду, ушел глубоко и стал задыхаться, будто и на самом деле тонул.
— Давно все знаешь?
— Женщины все мои подруги, даже Мима...
Он, кажется, всплыл на поверхность, вдохнул полной грудью свежий, ароматный воздух.
— Я люблю тебя, Карочка, люблю!
— Не уедешь?
— Нет! Никуда я не уеду, я всегда буду здесь жить!
Он крепко обнял ее, отыскал ее губы, и сердце его бешено забилось.
— Я тоже, Кирка, остаюсь... Я тоже... очень... — шептала Каролина.
На следующее утро Кирка сам разыскал Холгитона и потребовал, чтобы тот немедленно завершал работу на медпункте, будто старик на самом деле являлся бригадиром. Потом позвонил в райздрав и тут же выехал в Троицкое за медикаментами. Возвратился он после выезда рыбаков на кетовую путину, когда начались занятия в школе. Медпункт был готов, в углу, как он велел, стоял шкаф для медикаментов и приборов, возле него стол, топчан.
— Как, доволен, все правильно сделал? — допытывался Холгитон, разглядывая пробирки и нюхая каждую бутылку с жидкостью. — Напугал ты меня в то утро. Скорей да скорей, думаю, с чего это он? Молчал, молчал — и вдруг скорей. Работать, наверно, захотелось, да? Соскучился по делу? Знакомые лекарства, по запаху чую, я у Косты-доктора все лекарства перенюхал. Что-то у тебя совсем мало ножей, всяких щипцов, пилы даже нет. У Косты все, все есть.
— Он, дака, хирург, большой доктор.
— Верно, большой доктор. Это что за лекарство, нэку? Очень хорошо пахнет!
Холгитон держал в руке бутыль с медицинским спиртом. Кирка усмехнулся, он еще в Троицком приклеил к бутыли бумажку с изображением черепа и костей, что, по его мнению, должно было отпугнуть желающих выпить.
— Это лекарство на спирту настоено.
— А, потому знакомый запах. Внутрь нельзя принимать?
— Сам видишь бумажку, смерть нарисована.
Старик с отвращением оттолкнул бутыль. Кирка отвернулся к окну, чтобы старик не заметил его улыбки, и увидел трех мальчишек, подходивших к медпункту. Все они были в ссадинах, в крови. «Опять, черти, дрались», — подумал он.
— С кем сегодня дрались, с рыббазовскими или с корейцами? — спросил он строго, когда мальчишки неуверенно переступили порог медпункта.
— Опять дрались! — набросился на них Холгитон. — Чего вы делите, из-за чего деретесь? Всю жизнь мы рядом живем с русскими, не дрались еще, а вы каждый день деретесь. Чего молчите? Опять камнями кидались?
— Они первые, — промолвил один из драчунов.
— Всегда они виноваты, а вы нет! Какие вы нанай, если камнями встречаете гостей? Они из другого села, они пришли к вам, ваши пости.
Кирка обрабатывал раны, перевязывал, слушая нравоучения Холгитона, и думал, как помочь Каролине, как подружить этих маленыких драчунов, собравшихся из трех разных сел. Кирке жалко было рыббазовских ребятишек, ходивших за три километра в Нярги в дождь и ветер, жалел он и корейчат, совершавших такой же путь с Корейского мыса.
— Не стыдно вам, ребята? — спросил он. — Русские и корейцы приходят в школу из такой дали, пешком идут, a вы их камнями провожаете. Я бы на вашем месте на лодке их отвозил.
Мальчишки сопели, кривились от боли и молчали.
— Ты их не лечи, будут тогда знать, — посоветовал Холгитон.
— Всюду мы твердим, дружба между народами, а они войну объявляют. Вы что, самураи? Смотри на них, дака, да это же настоящие самураи!
— Я не самурай! Не кочу быть самураем! — завопил один из мальчиков.
— Затем тогда нападаешь на мирных людей? Так только самураи делают да фашисты. Слышал, фашисты напади на Испанию?
Мальчишки притихли.
— У вас есть газета, где отличники летят на самолете, а двоечники ползут на черепахе. Так вот, будет еще одна газета, где драчуны будут названы самураями. Поняли? Сегодня же скажу об этом учительнице... Идите, передайте всем мои слова.
— Это ты хорошо придумал, нэку, — похвалил Холгитон, когда ушли мальчишки. — Голова умная, сразу понял, чего они боятся. Когда они играют в войну, я заметил, никто не хочет быть японцем, все хотят быть красноармейцами.
— Это же мальчишки, — улыбнулся Кирка, — повзрослеют и так еще подружатся с русскими и корейцами, водой не разольешь. Теперь они меньше будут драться.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Из-за большого строительства план добычи рыбы колхоз «Рыбак-охотник» провалил. Пиапон надеялся на кетовую путину, выставил все невода, какие только нашлись на складах, организовал бригаду из стариков, которая ловила сплавными сетями, но то, что недобрали летом, теперь было не восполнить. Пиапон день и ночь находился на бригадных тонях у Улуски, у Годо, у Ойты, подбадривал одних, ругался с другими, не давал покоя мотористам катеров, отвозившим рыбу на базу. Но кеты было мало, ее с каждым годом становилось меньше.
«Рыбы на Амуре меньше становится, — с грустью думал Пиапон, — на одном Болонском заезке столько ее погубили, что не скоро восстановятся прежние запасы. Надо учиться выращивать рыбу иначе скоро без рыбы останемся».
В конце путины на няргинские гони заехал Глотов. Он постарел, выглядел больным, усталым.
— Не выполнишь план? — спросил от Пиапона. — Плохо, строить новое село надо, но и про государственный план не следует забывать.
— Нынче не выполним, зато люди будут в тепле, в спокойствии, они в следующем году постараются, крепче будут трудиться. Так я думаю.
— Правильно, забота о людях дело хорошее, а план все же мы будем с тебя требовать. Мы с тобой никак не соберемся поговорить, как бывало раньше, — продолжал Глотов.
— Раньше ты не был секретарем и не требовал -это сделай, это выполни, не угрожал, что на бюро вызовешь.
— Работа, Пиапон, такая работа. Да и жизнь заставляет. Мы должны выполнять свои планы, иначе нам не выжить в случае войны. Нам надо жить, как говорят, поспешая. Ты выполнишь план, и рабочие, которые строят заводы и фабрики, тоже выполнят свой план. Так все идет цепочкой, и нельзя допустить, чтобы где-нибудь оборвалась она. Потом и личный интерес колхозника надо учитывать: не выполнишь план, откуда доход, чем станешь расплачиваться? Время наше, Пиапон, интересное, но и жесткое, мы многого добились, а сделать надо в сотни раз больше.
— Трудно тебе приходится, знаю. Теперь не собираешь листья, не ловишь бабочек и кузнечиков, не рыбачишь и не охотишься.
— Вспомнил. В ссылке времени было предостаточно. Теперь надо работать, идею воплощать в жизнь. Трудно, Пиапон, годы уже не те.
— Помощники у тебя молодые, все грамотные, ученые. Только слишком молодые, говорят, они в кабинетах в пятнашки играют, борются.
Был такой случай, пришлось Глотову строго поговорить с секретарем райкома комсомола и редактором районной газеты. Собрались они, поздоровались, стали в окно смотреть на футбольную игру и вскоре, по обыкновению, заспорили. Потом, как в студенческие годы, стали бороться. Заглянул в это время приезжий колхозник в кабинет секретаря райкома комсомола, да и замер от неожиданности. Борются. Бросился разнимать. А на следующий день разнесся слух, что молодые районные начальники такие еще несерьезные, что играют в своих кабинетах в пятнашки, борются.
— Правда, молоды еще руководители района, — ответил Павел Григорьевич. — Не надо только из мухи слона делать, просто поразмялись ребята, силы-то много. Дельные, грамотные они...
— Павел, люди интересуются, куда дели шамана Богдано? Мы слышали, названый сын его погостить увез в Хабаровск, больше ничего не знаем.
— Дубский — сотрудник НКВД, он арестовал шамана.
— Почему? За что?
— Его обвиняют, что он выступал против советской власти, агитировал против колхозов, шаманил, когда воспрещали ему шаманить, и деньги брал за это.
— Значит, он враг народа?
— Враг советской власти, колхозного строя.
— Не выполню я государственный план, меня тоже назовешь врагом колхозного строя?
— Не преувеличивай, — строго проговорил Глотов. — Где враг, где не враг — разберемся. В тебе жалость к старику заговорила, а жалеть шамана не стоит, хотя он твой родственник. Идеологическая борьба продолжается, он по ту сторону баррикады находился.
«Долго воевать придется, — подумал Пиапон. — И без великого шамана люди справляют касаны. В этой войне одним ударом не сокрушишь врага».
Пиапон искренне жалел старого шамана, дядю своего, он верил с юношеских лег в его шаманскую силу, а то, что привито в молодости, известно, трудно отсечь в старости. Когда комсомольцы объявили войну шаманам, он поддержал их, потому что считал мелких шаманов лгунами, верил он только великому шаману. Грустно стало Пиапону, хотелось ему сесть в оморочку и уехать куда-нибудь, чтобы в одиночестве поразмышлять о жизни, правильно ли он прожил ее, по совести ли. Против совести он никогда не шел, все делал по велению сердца. Разве его вина, что он верит великому шаману?
— Этот Дубский плохой человек, — сказал Пиапон. — Очень плохой. Ему нельзя доверять важное дело.
— Ему в крае доверяют, мы тоже должны доверять.
— Он к хорошему не приведет.
— Мы не можем ему указывать, он действует по приказу своего начальства. Если он преступит закон, тогда мы можем его остановить, приструнить.
— Плохой человек, — повторил Пиапон.
Он следил за одинокой лодкой, медленно подъезжавшей к ним. На корме сидел Токто, жена с невесткой гребли. «Что-то случилось, — подумал Пиапон. — Не может Токто в такое горячее время ездить без дела. Не такой он».
Токто, заметив старых приятелей; пристал. Он тяжело поднялся, вышел на берег.
— Что с тобой? — одновременно спросили Глотов и Пиапон.
— Рыбачить лень, еду погостить в Нярги, — улыбнулся Токто. Он сел рядом с Глотовым, закурил.
— Ты болеешь, похудел сильно, — сказал Глотов.
— Кто его знает. Вроде болею, все за мной ухаживают, глаз не спускают. Такое внимание — противно. Хоть в гроб ложись. Сейчас вот Пота с Идари насильно посадили в лодку и заставили ехать в Нярги к доктору.
— Что болит?
— Кто его знает. Живот, а в животе и желудок есть, и кишки, сам знаешь. Никогда я ничем не болел и не знаю, что у меня болит. Заставили ехать. Хотели в Комсомольск на пароходе отправить, отказался я, шибко далеко, да и доктор там нехороший, лекарствами не лечит, только ножом режет.
— Когда лекарства не помогают, нож помощник.
— Не хочу с поротым животом ходить.
— Эх, Токто, тебя не переделаешь, — вздохнул Глотов. — Человек для того рождается, чтобы жить, и как можно дольше жить. Всякие операции выдерживает. Слышал, вставляют трубку, чтобы человек через нее питался.
— Через трубку? Как вкус еды тогда чувствовать?
— Этого я не знаю.
— Если не знаешь, Кунгас, не болтай языком, — сердито проговорил Токто. — Зачем мне такая жизнь, если я вкуса пищи не смогу почувствовать, не смогу своими зубами грызть мясо, есть талу? Зачем? Это позор, это насмешка над человеком.
— Жизнь дорога...
— Это собачья жизнь, даже хуже. Сам дорожи ею.
«Ишь, распалился, — с усмешкой подумал Пиапон, -ему и ругать можно секретаря райкома, покрикивать, кличку старую вспомнить. Он никто, от него ничего не требуют, не вызывают на бюро райкома». Токто резко поднялся на ноги.
— Ты куда? — спросил Пиапон.
— Обратно, на рыбалку. Не надо мне докторов...
— К доктору не хочешь? — спросил Глотов. — Пойдешь к шаману?
— В жизни не верил ни одному шаману, даже великому шаману не верил, умирать буду — не позову.
— Токто, садись, покурим, — предложил Пиапон. — Ты чего так? Мы ведь старые друзья, а по-дружески так и не поговорили. Садись, может, в последний раз так втроем сидим. Кто знает, что будет со мной к вечеру или завтра утром?
Токто сделал было шаг к лодке, но остановился, постоял в задумчивости и сел на прежнее место.
— Поезжай в Нярги, тебя осмотрит мой племянник, первый нанайский доктор.
— Разгорячился я, совсем забыл о нем.
— Злой ты стал, Токто, — сказал Глотов.
— Ты и зайца разозлишь своей трубкой.
«Он сильно болен», — подумал Пиапон и умело перевел разговор. Вскоре Токто успокоился. Глотов рассказал о районных новостях. Пиапон поделился зимними планами.
— Наши нынче впервые собираются на Симине рыбачить. Совсем осмелели, — сообщил Токто, — не боятся хозяина Симина, злого Ходжер-аму. Говорят, хозяин Симина не сможет их оставить голодными, как бывало прежде, теперь колхоз.
Глотов засобирался, ему надо было ехать вверх, и он предложил Токто ехать в Нярги на катере, а лодку взять на буксир. Токто согласился. Когда отъехали от берега, он сказал:
— Кунгас, я помню все, что ты говорил, когда мы в партизанах ходили. Ты говорил, что внуки мои будут грамотные, будут мне письма писать, когда я куда-нибудь уеду. О новой жизни много говорил. Все верно, все изменилось. Младший внук на катере мотористом работает. Грамотный. А я тебе не верил тогда. Когда начали жизнь по-новому делать, я ее делал, а сам ничего не понимал. Теперь я состарился, заболел, потому, наверно, стал на все смотреть другими глазами. Теперь вижу, как все хорошо стало. Это смерть подходит, Кунгас. Когда умру, приезжай на похороны, вели хоронить, как партизана, чтобы из берданок стреляли. Хорошо? Чтобы слезы не лили, лучше бы пели.
— Выполню твою просьбу, Токто, но только рано собрался в буни, я, может, раньше тебя умру.
— Тебе нельзя умирать, ты голова района. Как район без головы останется?
— Другую голову поставят, — засмеялся Глотов. Катерок обогнул последний утес перед Нярги, и Токто увидел новое село, где среди зелени белели ровными рядами новые дома. «Вот это Пиапон, — восхищенно подумал Токто, — новое село построил за лето. Умом быстр и на руку скор. За ним разве угонишься?» Токто тепло попрощался с Глотовым и стал тяжело подниматься на пригорок. Он разглядывал новые дома, огороды, удивлялся столбам с белыми, как сахар, чашечками наверху. Возле конторы встретил Хорхоя.
— Здравствуй, отец Гиды, — сказал Хорхой. — Эти столбы для электричества и радио, — стал он тут же объяснять, — провода между ними натянут, и тогда у нас будет электричество и радио в каждом доме.
Электрический свет знаком был Токто, а вот что такое радио — он не знал, но не стал переспрашивать. Хорхой пригласил Токто в контору, где находился Холгитон, одетый во все новое, как на праздник.
— Это он заставил так одеться, — смущенно, словно оправдываясь, проговорил Холгитон. — Говорит, кино будут снимать, надень красивый халат. Это кино потом во всем мире будут показывать. Думаю, если так, то нельзя в старом халате, новый нужен. А еще думаю, вот мы сидели всю жизнь под густым тальником, никто нас не видел, а теперь выходим на середину Амура широкого, все нас увидят. Как же тут не одеться было? Ты к нам в гости?
— К доктору приехал.
— Правильно еделал, нанай приехал к нанайскому доктору. Но тот доктор, который мне лишние кишки вырезал, лучше, чем наш. Сам Кирка говорил.
Задребезжал на стене телефон. Токто, сидевший возле него, вздрогнул, от неожиданности. Холгитон неторопливо снял трубку, подул.
— Але! Нярги! Да.
Токто пересел на другой стул и с удивлением смотрел на Холгитона, так невозмутимо говорившего в черную трубку. «Ко всему они уже привыкли, — подумал он. — Кунгас говорил, что такой телефон будет у нас в Джуене. В Нярги уже есть, значит, скоро и у нас появится».
— Кто говорит? А-а. Здравствуй, здравствуй. Кого надо? Хорхоя? Тут он, тут, — Холгитон передал трубку Хорхою: — Жена Богдана говорит.
Токто привстал, схватил Холгитона за руку.
— Это правда? Это Гэнгиэ говорит, да? А мне можно с ней поговорить?
— Можно, почему нельзя. Хорхой, кончишь говорить, трубку мне дай.
Хорхой кивнул головой. Токто смотрел на черную трубку и не мог оторвать от нее взгляда. Там была Гэнгиэ, в этой черной трубке. Гэнгиэ, любимая его невестка. Токто помнил ее молодой, красивой, какой она была, когда жила в его доме; он не встречал ее после возвращения из Ленинграда. Он слышал о ее занятости на работе, понимал и ее боязнь встречи. Только он любил ее по-прежнему, любил, как невестку, как дочку.
— Слышишь меня? Это опять я! — кричал в трубку Холгитон. — Тут у нас гость. Он к доктору приехал, больной. Кто, говоришь? Токто! Что? Передаю, передаю трубку.
Токто одним прыжком оказался у телефона, вырвал трубку у Холгитона и почувствовал, как тугой комок застрял в горле.
— Отец Гиды! Отец Гиды! — услышал он далекий незабываемый голос бывшей невестки. — Что с тобой? Ты болен? Говори, отвечай, почему молчишь?
Ох, как хотелось Токто много-много сказать хороших, ласковых слов! Но этот комок в горле...
— Отец Гиды, что болит? Сам приехал или привезли тебя? Как чувствуешь себя?
— Ничего, Гэнгиэ, — наконец выдавил Токто.
— Давно заболел? Как мать Гиды? Как Онага? Как дети ее?
— Все здоровы.
— Хорошо, рада я за них. Беспокоюсь о тебе;
— Гэнгиэ, родная, болен я, сильно болит... Но теперь все хорошо, поговорил — и все хорошо. Если б еще увидеть тебя, совсем, может, стало бы хорошо... Приезжай, очень прошу...
По щекам Токто струйкой сбегали слезы, он их не вытирал, он их не стеснялся. Холгигон с Хорхоем отвернулись, им было неловко видеть слезы у этого мужественного человека.
— Приедешь? Правда, приедешь? Здоров я, совсем уже здоров. Когда приедешь? Я за мясом поеду, мясо привезу к твоему приезду.
Токто повесил трубку, попрощался с Холгитоном и Хорхоем и почти бегом направился на берег.
— Эй, Токто, к доктору когда? — крикнул вслед Холгитон.
— Она приезжает, в Джуен приезжает. Мне некогда, за лесом надо ехать.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В конюшне было так же холодно, как и на улице, не достроили ее, не успели, потому что в первую очередь готовили жилые дома и коровник. Пиапон прошел по конюшне, за ним шагал Ойта, конюх.
— Дед, тебе надо иметь свою собственную председательскую лошадь, — проговорил Ойта.
— Это зачем? — удивился Пиапон.
— Как зачем? Ты часто ездишь, тебе надо иметь резвого скакуна, лучшую лошадь в районе.
— Так. Моему заместителю тоже надо? И бухгалтеру?
— Не-ет, только тебе.
— В тебе собственник заговорил, отцовская кровь. Как же я могу иметь свою лошадь, когда я в колхозе, когда здесь все общее? Нельзя.
Ойта обиженно замолчал. Пиапон выбрал лошадь, которую Полокто возвратил сыновьям. «На его лошади поеду к нему», — решил Пиапон. Он вывел лошадь и стал запрягать в маленькую, изящную кошевку, подаренную ему Митрофаном. Ойта молча помогал ему. Рядом вертелся его сынишка, который по счету, Пиапон не помнил; у Ойты было восемь детей. Этот мальчишка вчера передал ему просьбу Полокто навестить его.
— Ни ты, ни Гара ни разу не ездили к отцу? — спросил Пиапон.
— Нет. Он от нас отказался.
«Дожил. Сыновья стали чужими, — подумал Пиапон. — Жены убежали, как от прокаженного».
— Дети наши ходят каждый день, — продолжал Ойта. — Гэйе бывает, готовит ему еду, ночевать иногда остается.
Упрямый Полокто сдержал свое слово, он отдал колхозу свой большой дом, в котором теперь зимовали семьи, не успевшие к холодам достроить свои избы. Сам он один остался на песчаной стороне, в заброшенной фанзе. Никто не понимал, почему Полокто одиноко живет в заброшенном стойбище, только Холгитон однажды верно высказался:
— Он всю жизнь одиноко жил среди людей. Теперь ему, старику, одинаково, что среди нас жить, что одному в старом Нярги, потому что он все равно одинокий. Мы — колхоз, а он один не в колхозе, не с нами.
Полокто осенью один ловил кету, заготовил юколы себе и собакам, перед ледоставом ушел в тайгу на промысел. Многие думали, что из тайги он вернется к Ойте или к Гаре, помирится с ними, останется жить. Но Полокто возвратился в старое Нярги, в холодную фанзу. Пушнину он сдал в Малмыже, набрал продуктов, заготовил дров и зажил, казалось бы, спокойной жизнью. Навещали его старшие внуки и внучки, сам же он ни разу не появился в новом Нярги, не хотел ни с кем встречаться. Говорили, что изредка он выезжает в Малмыж, будто ездил в Туссер к сбежавшей молодой жене. В конце января Полокто заболел. Кирка ездил к нему, обследовал, но не мог определить его болезнь.
— От одиночества, — высказался Холгитон, — и умрет он от одиночества.
Лошадь запрягли. Пиапон сел в тесную кошевку, посадил впереди мальчишку.
— Дед, попроси его переехать сюда, — сказал Ойта. — Он тебя, может, послушается. Место найдется и у меня и у Гары.
Пиапон тронул лошадь, и она затрусила по укатанной дороге, мальчишка восхищенно закричал, стегнул ее кнутом.
— Ты в каком классе учишься? — спросил Пиапон.
— В четвертом.
— Учительница довольна тобой? Не ругает?
— Не-ет.
Пиапон вспомнил свадьбу Кирки с Каролиной, как он готовил эту свадьбу. В Нярги впервые нанай женился на русской, и никто не знал, как справить свадьбу — по-нанайски или по-русски. Даже Холгитон был в затруднении. Свадьбу назначили на седьмое ноября.
— По-нанайски справим свадьбу, — требовала Каролина Федоровна.
— Ты русская, — возражала мать, и с ней согласились няргинцы; верно, зачем русской играть нанайскую свадьбу, которая, если соблюдать все законы, будет продолжаться многие месяцы. Однажды, когда в конторе вели об этом разговор, Холгитон молча снял телефонную трубку и начал крутить рычажок.
— Опять старый заиграл, не может он без этой игрушки жить, — засмеялись присутствующие.
К их удивлению, Холгитон попросил Троицкое и затребовал председателя райисполкома.
— Как, не может? Скажи, надо, скажи, старый Холгитон его просит, — кричал старик. — Аха, аха. Это ты, Богдан? Бачигоапу! Очень важное дело. Да, Кирка женится на учительнице. Как быть? Как вы там, в Ленинграде, женились, по-русски или по-нанайски? А? По-людски? Чего смеешься? Здесь люди голову ломают, а ты смеешься. А? Понял. Понял. Аха. Все. До свидания, поздравлю, поздравлю.
Холгитон повесил трубку и сказал:
— Комсомольскую свадьбу сыграем.
Легко сказать: «Комсомольскую свадьбу сыграем». А как ее сыграть? Какие обряды исполнять? Никто этого не знал, пришлось самим молодоженам придумывать эти обряды. Свадьба была веселая, такая веселая, что до сих пор няргинцы вспоминают ее.
— Но! Но! — стегал мальчишка лошадь.
Пиапон смотрел на приближавшуюся одинокую фанзу с тощим дымком, вьющимся из трубы, и думал: «Веселья столько в новой жизни, а он обрек себя на одиночество, ничего не слышит, не видит. Да и в молодости он был слепой и глухой, только о богатстве, мечтал, во сне видел себя торговцем». Привязав лошадь, он вошел в фанзу. После солнечного света в фанзе казалось темно, как ночью.
— Приехал? Не надеялся увидеть тебя, занятый ты человек, — раздался слабый голос Полокто. — Сюда подойди, не бойся, не прильнет моя болезнь к тебе.
Глаза Пиапона привыкли к полумраку, он подошел к нарам брата, сел и закурил.
— Что болит? — спросил он.
— Все болит: душа, сердце, голова. Скоро умру, жить не хочется. Зачем жить? Ничего у меня не осталось. Колхоз сыновей отобрал, комсомол — молодую жену... лошадь одну себе оставил, подохла.
«С этой лошадью умерла твоя мечта о богатстве, — подумал Пиапон. — Теперь ты на всех обижен».
— Скоро умру, не хороните меня, обрушьте на меня эту фанзу, тут и будет моя могила.
— Так хоронят прокаженных.
— Я для вас хуже прокаженного, думаете, я не знаю, о чем вы говорите там, в новом своем селе. Все знаю, все слышу, на расстоянии я стал теперь слышать. — Полокто сел, лихорадочно горевшими глазами уставился на брата. — Почему меня все время обижают? Тебя не обижают, а меня всю жизнь обижают. Ты был партизаном, я тоже был партизаном. Вот, гляди, зубы выбиты, рот разодран, это ранили на войне.
Пиапон удивленно смотрел на брата, пытаясь понять, всерьез тот говорит или бредит. Все в Нярги знали, что Полокто эту рану получил от нагайки колчаковца. Он перевозил белогвардейский груз и никогда не был партизаном.
— Я берданку еще отдал партизанам, порохом поделился. Вот. Тебе давали партизанский паек, а мне отказали. Тебя в большевики приняли, а меня не приняли. Тебе хорошо, придет этот коммунизм, ты в магазинах все даром, без денег брать будешь.
«Он бредит», — решил Пиапон.
— Тебе всюду почет, а мне что?
— Может, переедешь к детям, к внукам, они очень просят, — промолвил Пиапон.
— У меня нет сыновей, внуки есть, сыновей нет.
— Зачем ты позвал меня?
— Ты слышал, что я сказал? Позвал, чтобы это ты слышал. Все. Можешь вернуться в свое новое село.
С тяжелым сердцем возвратился Пиапон, встретившему его Ойте сказал:
— Отец твой обижен на весь белый свет и всех ненавидит.
...В конторе стояло веселое оживление, и было так накурено, что через синий дым еле проглядывался дальний собеседник.
— Дед, самолет прилетает, — раздался из синевы голос Кирки. — Завтра. Если погода не помешает.
— Какой самолет? — устало спросил Пиапон, усаживаясь на свое место. — Да, да, вспомнил.
Кирилл Тумали после трагической смерти жены года полтора ходил в холостяках, потом привез из села Бельга молоденькую красавицу жену. Когда она забеременела, Кирилл отказался от охоты, чтобы всегда находиться рядом с ней. Он очень беспокоился за нее. Опытные многодетные женщины, глядя на большой живот роженицы, качали головами. Встревоженный Кирилл сам попросил Кирку обследовать жену.
— Радуйся, Кирилл, двойня, — сказал Кирка после обследования. — Трудные будут роды, я не принимал еще таких. Надо опытных акушеров.
Но где поблизости зимой разыщешь опытных акушеров? Только в Комсомольске. А как везти беременную по тряской торосистой дороге, выдержит ли она? Тогда Кирка обратился за помощью в райздрав, а те в крайздрав, и там решили вывозить роженицу в Хабаровск на самолете.
— Кирилл беспокоится, сам собирается лететь с женой, но его не возьмут, — продолжал Кирка.
— Дед, ты был на той стороне, — спросил Хорхой. — Как он?
— Плохо, очень болен, с головой плохо.
— Он даже не порадуется за внуков, сегодня им деньги будут выдавать.
— Не им, а матерям, — поправил Шатохин.
— Им, если бы не было их, и матери не получили б эти пособия.
Пиапон усмехнулся, вспомнив разговор об этих пособиях. В Нярги никто не верил, что женщинам будут выдавать такие крупные суммы.
— На что им такие деньги? Они удовольствие получили, им еще и деньги, — говорили мужчины.
— Вам бы хоть раз родить да грудью вскормить, почувствовали бы, какое это удовольствие, — возражали женщины.
— Да не получите вы никаких денег, враки это.
Выдавать пособия по многодетности решили в школе, потому что присутствовать на этих торжествах желало чуть ли не все село. Короткое вступительное слово сказал инструктор райисполкома. Он упомянул о прежней жизни нанайских женщин, в каких условиях они рожали, о смертности детей, рассказал о том внимании, какое советское правительство обращает на многодетных матерей. Потом начали вызывать к столу виновниц торжества.
— Заксор Несульта, мать семерых детей. Две тысячи рублей единовременного пособия.
Несульта, жена Гары, боязливо, точно по тонкому льду, шла к столу президиума.
— Беги, чего ты так, — подталкивали ее. — За деньгами идешь. Смелее.
Она подошла к столу, приняла толстую пачку денег, прижала к груди. Все Захлопали в ладоши.
— Такие деньги за год не заработаешь. А мы не верили.
После Несульты три тысячи рублей получила Мида, жена Ойты. Последней вручали жене Оненка, которая вырастила десять детей.
— Пять тысяч! Эй, Оненка, ты сам никогда не зарабатывал столько денег.
— Как не зарабатывал? Это же мои деньги, разве она могла бы родить детей без моей помощи. Пусть-ка попробует!
— Правильно, половина твоя!
Жена Оненка, бойкая старушка, которая на одно слово мужа отвечала сразу десятью, теперь лишилась языка. Она стояла возле покрытого кумачом стола, и слезы бежали по ее морщинистым щекам. Концом платка она вытерла щеки, нос.
— Женщины, вот этими деньгами я заткну рот мужу, — неожиданно сказала она. — Он каждый раз твердит, что один нас кормит. Теперь что он скажет? Ничего не скажет. Женщины, правильная наша советская власть, она поняла нашу тяжелую жизнь, помогает нам. Спасибо ей, нашей власти. На все эти деньги я куплю детям одежды, обуви, а мужу ни рубля не дам на водку.
Воцарившаяся было тишина вновь разорвалась смехом присутствующих, аплодисментами.
— Так тебе, Оненка! Надеялся выпить! Шиш тебе!
— Эй, молодые, деньги какие! Старайтесь теперь, меньше спите.
На следующий день в ожидании самолета друзья подтрунивали над Кириллом.
— Ты молодец, Кирилл, правильно делаешь. На первый раз двойню, на следующий год закажи тройню, потом еще двойню или тройню, вот и будет жена пособия получать.
Погода выдалась солнечная, безветренная. Рыбаки на тонях подняли меховые уши шапок — прислушивались. Школьники не слушали Каролину Федоровну, все глядели на реку, где должен был приземлиться самолет. Холгитон занял пост у окна конторы, возле телефона. Но самолет все же появился неожиданно, сделал круг над Нярги, покачал крылом, спустился ниже и сел на реке. Кирилл с друзьями на нарте повез жену к самолету, его обгоняли школьники, молодые рыбаки.
— Будто за ними прилетел самолет, — смеялся Кирка.
Роженицу внесли в брюхо крылатой птицы, положили на носилки, пилоты собирались закрыть дверцу, когда Холгитон подошел к ним.
— Эй, сынок, обожди! — закричал он. — Ты дай мне взглянуть внутрь. В дверь только посмотрю.
Молодой летчик улыбнулся и посторонился от двери, Холгитон долго разглядывал слезящимися глазами пустое чрево железной птицы.
— Спасибо, все увидел, — сказал он, отходя от дверцы самолета.
— Что увидел? — спросил Пиапон.
— Все увидел, самолет увидел, руками потрогал. Счастливая эта жена Кирилла, на самолете полетит. Мне бы хоть маленько полетать бы, посмотреть сверху на наше село...
— Тогда ты мог бы уйти в буни, — подхватил Пиапон.
— Нет, отец Миры, не хитри, пока ты в селе не зажжешь эти стеклянные пузыри, не уйду я в буни. А еще радио...
Тут взревел мотор самолета, и старик на полуслове умолк, испуганно отошел подальше. Самолет разбежался и легко оторвался от искрящегося снега.
— На лыжах, — сказал Холгитон. — А летом как? На колесах, что ли?
— На колесах, — подтвердил Пиапон.
— Железный, а летает. Есть же такие головы, железо заставили летать. Да еще с трузом. Чего только не придумают люди. Отец Миры, когда ликриста будет? Когда зажгутся пузыри? Ты обещал к празднику, потом к новому году, а теперь на какой день обещаешь?
— Отец Нипо, ты сам каждый день бываешь на станции, беседуешь с Калпе, все знаешь лучше меня. К седьмому ноября не зажгли, потому что половина домов не была присоединена, проводки не было. Потом оказалось динамо неисправным. Что теперь Калпе говорит?
— Обещает на днях свет зажечь. А я устал ждать, Богдану хочу пожаловаться.
— Что он сделает, чем поможет.
— Хотя бы отругает тебя и Калпе.
— Легче тебе будет от этого? Или лучше, подгоняй Калпе. Ругай, если надо — помогай.
Старик кивнул головой и, заложив руки за спину, зашагал к электростанции. Черный, весь измазанный мазутом, Калпе встретил его широкой улыбкой.
— Помогать пришел? — спросил он. — А этим летающим людям чем помог?
— Чем надо, тем помог. Скоро ты свет зажжешь? Раньше, бывало, услышишь, как затарахтит твой мотор, сердце замирало, все смотрел на пузырь — вот-вот загорится в нем свет. Теперь никто тебе не верит, я тоже.
Калпе хитро улыбался и копошился в моторах с таинственным видом.
— Отец Нипо, объяви всем, сегодня ровно в семь часов будет свет, — наконец промолвил он.
— В моем доме тоже загорится свет? — насмешливо спросил Холгитон.
— Загорится.
— Обманщик ты, стыдно, сын Баосангасы обманщик.
Старик вернулся домой усталый, разбитый, но довольный тем, что видел самолет, щупал руками обжигающее железное его тело. Теперь он может придумать новую сказку о людях, которые летают на железной птице, о жене Кирилла, которая улетела в Хабаровск не за какими-нибудь важными делами, а просто рожать двойню.
Холгитон уснул. Проснулся он, когда наступили сумерки. Взглянул на бешено стучавшие стенные часы с гирями-железяками, махнул рукой — неправильное показывают время. Он вышел на улицу, и вдруг услышал стук мотора на электростанции. Старик позвал одного из внуков и послал посмотреть, что делается на станции. Внук вернулся тут же.
— Дед, там народу много, свет горит, — сообщил он и тут же опять исчез.
Старик торопливо оделся и пошел вслед за внуком. Он издали увидел толпу возле электростанции, яркий свет в окне и зашагал быстрее.
— Свет будет! Через пять минут будет! — кричали в толпе.
Холгитон вошел на станцию и оглох от шума мотора. Калпе что-то говорил ему, показывал на яркую лампочку и смеялся. Старик вывел его за руку на улицу.
— Не врешь? Будет свет?
— Будет, стой тут, жди.
— Нет, успею домой, пока зажигаешь тут, я успею.
— Как ты успеешь за молнией? — засмеялся Калпе. — Я только дерну рубильник — и тут же всюду загорится свет. Глаз не успеет проследить.
— Успею. Если не я, то внук успеет, у него ноги быстрее. Как зажжешь свет?
— Дерну рубильник вниз — будет свет. Время подходит, пусть бежит твой внук, пусть соревнуется с молнией, а ты смотри на меня и вон на тот конец села, там свет и загорится.
Холгитон следил из открытой настежь двери за каждым движением Калпе. Вот он подошел к щиту, взял рукоятку рубильника, и тут же старик краем глаза заметил, как одновременно загорелись на краю села лампочки. «Да, это молния, — подумал Холгигон, — сын Баосангасы поймал молнию, заставил ее светиться в пузырях. Молнию поймал!»
Старик почти бежал домой, ему хотелось скорее увидеть свой домашний свет, свою давнишнюю мечту. На полдороге ему встретился внук.
— Дед, не успел, — выдохнул мальчишка.
— Не успеешь, — Холгитон потрепал голову внука. — Это молния, никто за ней не угонится. А мне, старому, и за нынешней жизнью не угнаться.
— Дед, ты видишь, как светло над нами! Кругом темно, а над нашим селом светло.
Над новым Нярги куполом поднялась электрическая заря.
1973.
 СМИ не получает субсидий.
СМИ не получает субсидий.


