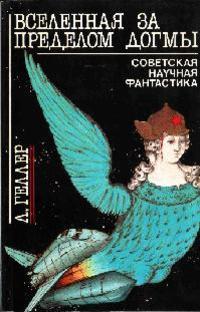 |
| |
В двух книгах
Книга первая
Леонид Геллер
ВСЕЛЕННАЯ ЗА ПРЕДЕЛОМ ДОГМЫ
Размышления о советской фантастике 1985
Leonid Heller
SOVIET SCIENCE FICTION
Overseas Publications Interchange Ltd
London 1985
Leonid Heller: VSELENNAIA ZA PREDELOM DOGMY.
Razmyshleniia o sovetskoi fantastike
First Russian edition published in 1985
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne’s Gardens, London W4 ITU
Copyright © Editions L’Age d’Homme
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd
All rights reserved
No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.
ISBN 0-903868-58-X
Cover design by Danuta Niekrasow-Heller
Printed in West Germany
ВВЕДЕНИЕ
О советской научной фантастике сказано уже немало. Интерес
к этому жанру, некогда считавшемуся второстепенным,
не случаен: в течение полутора десятка лет, с конца
50-х до начала 70-х годов, фантастика играла в советской
литературе весьма заметную роль. В Советском Союзе о
ней написаны внушительные монографии, диссертации,
обзоры, многие десятки статей и рецензий. Дискуссии о
ней велись на страницах самых авторитетных газет и журналов.
Несколько работ о ней вышло и на Западе: в Западной
Германии, Швейцарии, Франции, США.
Однако все эти дискуссии, все научные и критические
работы не дают убедительного ответа на вопрос, в чем же
заключалась роль научной фантастики, что нового внесла
она в советскую литературу?
Советские исследователи и критики не хотят или, чаще
всего, не имеют возможности поставить вопрос открыто,
высказать те заключения, к которым ведут их порой верные
и ценные наблюдения: все они вынуждены топтаться в пределах
дозволенного. Западные же исследователи обычно
5
скованы тем, что применяют методы анализа, разработанные
на другом материале и мало пригодные в приложении
к советской литературе.
Кроме того, и те, и другие, как правило, рассматривают
НФ (этим сокращением я буду часто пользоваться) в очень
узкой перспективе. Изучается — бессистемно — ее история,
описываются главные темы, перечисляются важнейшие
писатели-фантасты и пересказываются их произведения,
составляются перечни научно-фантастических гипотез и изобретений,
бывает даже, что строятся структурные модели
жанра, но нет, пожалуй, ни одной серьезной попытки связать
НФ с ее литературным контекстом. Создается впечатление,
что она развивается сама по себе. Когда же официальная
критика по долгу службы говорит о причастности НФ
к поступательному движению всей советской литературы,
в ход идут общеобязательные лозунги, старательно замазывающие
подлинную картину.
Мы знаем, что литература образует систему, все явления
в ней так или иначе взаимосвязаны. Каждый жанр наделен
особой функцией и, меняясь, участвует в процессе изменения
всей системы. Нащупать связи между миром НФ и
миром литературы ’’главного потока” , проследить за изменением
этих связей — задача важная и интересная для историка
литературы, важная не только из теоретических соображений,
не только ради поисков нового подхода, но ив силу
необходимости разобраться в реально сложившейся обстановке.
Эту задачу я и ставил перед собой в моей книге.
В первоначальном своем виде книга эта, под названием
”0 советской научной фантастике” , была опубликована в
1979 году на французском языке. Год тому назад, работая
по заказу французского издательства над антологией фантастики
советской эпохи, я вернулся к той же проблематике,
по мере возможности познакомился с тем, что появилось
нового в области НФ, и убедился, что дискуссии о
жанре и его месте в литературе окончательно увязли в
непроходимых штампах. Между тем, в самиздате и на Западе
выходили и продолжают выходить работы, пересматри-
6
вающие официальный взгляд на советскую литературу. Но
если их авторы и упоминают о фантастике (как это делают,
например, Ю. Мальцев и Г. Свирский), то лишь мельком.
Поэтому мне показалось, что мои размышления не
утратили своей актуальности и не лишены интереса для
русского читателя. Насколько я прав - судить читателю.
Для этого издания я переработал текст, устранил слишком
отвлеченные теоретические выкладки, дал введение о
’’научно-фантастической” традиции в русской литературе,
дал заключительную главу с замечаниями о последнем этапе
развития советской НФ. Основную часть книги по-прежнему
составляет хронологический обзор взаимоотношений
между фантастикой и нефантастической литературой после
революции и вплоть до начала 60-х годов, а затем — анализ
фантастики 60-х годов, взятой вне хронологии, как некое
целое. В этой части я сделал сокращения и уточнения, но
оставил в сохранности ход анализа и точку зрения, с которой
он велся.
Отказавшись от главы, посвященной теоретическим рассуждениям,
я должен вкратце пояснить методологические
посылки этого анализа. Не вдаваясь в тонкости, будем считать
литературным жанром в прозе такой тип произведений,
который сформировался на основе закрепленного традицией
однородного сюжета с четко выраженной прагматической
функцией. При этом я называю сюжетом данную в
тексте цепь событий (мотивов), которые в свою очередь
понимаются как изменение ситуации или изменение состояния
персонажа, его среды и т. д. Определенные события и
их последовательность, повторенные в значительном количестве
произведений и узнаваемые как повторение, становятся
закрепленным традицией жанровым сюжетом.
Жанровый сюжет может состоять из событий одного
типа (ряд препятствий на пути героя в сказках, приключенческих
романах, ряд недоразумений в бульварной комедии
и т. п .), но может включать и события разного типа. В
таком случае, если произведение не принадлежит к жанру,
специфика которого заключается именно в смешении эле-
7
ментов (такова мениппова сатира), то его однородность
обеспечивается тем, что одно событие (или мотив) воспринимается
как главное в сюжете, как — сюжетная доминанта.
Все другие события играют по отношению к доминанте
подсобную роль, это - более или менее необходимые для
ее реализации приемы.
В традиционном сюжете его доминанта является в то же
время и жанровой доминантой. Если в произведении, сохраняющем
традиционную сюжетную схему, ударение переносится
с жанровой доминанты на другие события, приемом
становится сама схема и произведение выходит из рамок
жанра — примыкает к другому жанру или вообще не поддается
жанровому определению на событийном уровне.
Так, детектив, в котором усилены социальные конфликты,
превращается в ’’черный” социальный роман, жанр, характерный
для американской литературы 30—40-х годов.
Так, детективный мотив следствия в ’’Преступлении и наказании”
Достоевского служит обострению центрального
события, и это социально-философское событие — крах
теорий Раскольникова — доминирует роман, который никому
в голову не придет назвать детективным.
Необходимое условие существования фантастики — наличие
’’фантастической” ситуации; иначе говоря, в произведении,
являющемся моделью некой действительности,
должны появиться элементы чуждые той действительности,
которую мы знаем и называем ’’эмпирической” . Каждая
фантастика — событие, изменение состояния, если и не в
самом мире литературного произведения, то по отношению
к системе отсчета: нашему миру. Фантастическое событие
бывает разным, ибо различаться могут исходные ситуации
и по-разному может направляться движение, определяющее
это событие.
В сказке дается модель двойственного мира, совмещающая
на одном уровне эмпирические и неэмпирические явления
и построенная по собственным законам игры с разнородными
элементами. В этом ее отличие от мифа, построенного
как отражение (и толкование) законов, управляющих
8
миром действительности, в понимании, разумеется, составителей
и потребителей мифов. Традиционная "сверхъестественная
” фантастика принимает аксиому о существовании
двух несовместимых миров, ее главное событие — вторжение
иного мира в повседневность, разрыв действительности,
появление необъяснимого на месте известного и понятного.
Для современной фантастики, родоначальником которой
был Гоголь, а вершиной в XX веке — Кафка, иного мира
нет, а фантастический, непонятный облик приобретает сама
окружающая нас действительность.
Научная фантастика предполагает, что мир един и однороден,
что все необычное в нем не принадлежит к качественно
отличному, магическому или потустороннему миру, а
представляет собой еще не познанные нами, но познаваемые
проявления нашей же реальности. Такое понимание мира
как непрерывного и однородного целого, управляемого
познаваемыми законами, упрочилось в европейской мысли
с XVIII века, достигнув апогея к середине Х1Х-го. Тогда
и родилась как отдельный и самостоятельный жанр научная
фантастика.
В этом смысле и можно говорить о ней как о жанре новом.
Ее новизна не в способности познавания, которую она
разделяет со всей литературой; не в большей, чем когда-
либо, связи с наукой — вспомним художников Ренессанса,
которые достигли такой гармонии в сочетании научного и
художественного мышления, о какой и не снилось большинству
современных писателей; и, наконец, не в факте
якобы исключительной роли науки в жизни общества — она
сравнима, скажем, с ролью астрономии и строительной техники
в жизни древнего Египта. Специфика НФ — в ее связи
с современным рациональным пониманием мира.
Обратимся к примеру. Очень много книг НФ рассказывает
о воображаемых диктатурах. О том же говорится в
романах В. Набокова ’’Приглашение на казнь” и ’’Под знаком
незаконнорожденных” . Но если авторы НФ стараются
придать своим мирам видимость ’’эмпирического правдоподобия”
, подчеркивая их зависимость от ’’реальных” явле-
9
ний и законов, то Набоков дает нам ничем, кроме нее самое,
не мотивированную картину несуществующего мира (нам
самим предоставлено найти ее связи с реальностью — если
мы этого пожелаем). Точно так же порывают с эмпирическим
объяснением книги Борхеса, Эрнста Юнгера, Буццати
или Беккета. В этом проявляется принципиально иная
функция их фантастики по сравнению с НФ. Ибо рациональное
объяснение необычного дает этому необычному шанс
эмпирической реализации, превращает в неосуществ ив ший-
ся или еще неосуществленный вариант, в альтернативу
реальности. В конечном итоге, все произведения НФ строятся
как ответы на вопрос: ’’Что было бы, если...?” (к этому
вопросу можно свести и три ’’гамбита” НФ по И. Азимову:
’’Что, если?” , ’’Хорошо, если бы” и ’’Что, если это будет
продолжаться?”) .
Итак, назовем научно-фантастическими произведения,
основанные на фантастическом сюжете, в котором событием-
доминантой является рационализация (рациональная
мотивировка) фантастики, и прагматическая функция которого
состоит в построении альтернативных моделей
реальности.
Все вышесказанное не претендует на оригинальность
— это систематизация ряда положений формальной школы
и некоторых идей советских теоретиков НФ (о них пойдет
речь дальше). Для того, чтобы изучать место жанра в литературе,
мне нужно, в чисто инструментальных целях, обозначить
его границы. Поэтому я предлагаю определение, позволяющее
отличить НФ от других видов фантастики, отграничить
’’жанровую доминанту” от ’’события-приема” , наконец,
ввести в анализ понятие ’’функции” . Проиллюстрируем,
как эти понятия могут применяться, и возьмем для этого
всем известный пример. В ’’Истории одного города” Салтыков-
Щедрин описывает градоначальника с ’’органчиком” в
голове. Полушутя можно утверждать, что это — научно-фантастический
персонаж, по-видимому, первый в русской литературе
’’киборг” . Между ним и, скажем, сказочным фаршированным
градоначальником — разница и генеалогическая,
10
и морфологическая, и мы можем исследовать, как эта разница
отражается на повествовании. И вместе с тем, функции
этих персонажей в тексте совпадают. Они равно участвуют
в главном событии произведения, характер которого противоположен
доминанте НФ: в нем не вымышленный мир
уподобляется реальности, а наоборот, окружающая эмпирия
искажается так, чтобы укрупнить некоторые ее черты. История
’’Органчика” не обособляется в ’’научно-фантастический”
сюжет и не определяет жанра книги, она служит
одним из приемов построения гротескной ситуации и выполняет
функцию сатирического остранения.
С помощью нашего определения мы можем провести четкую
грань между НФ и утопией. Зачастую утопиями называются
вообще все рассказы о будущем. Но утопия не только
’’место несуществующее” (оу-топия), но и ’’хорошее”
(эу-топия), и ее функция — построение не просто альтернативного,
но лучшего из возможных вариантов действительности.
Обязательная в ней рационализация сопряжена с другой
доминантой: ’’мельоризацией”, непрерывным доказательством
превосходства концепции над реальностью. И
это сильно влияет на структуру утопического повествования.
В классической форме близкая философскому и социально-
политическому трактату, современная ’’олитературенная”
утопия, потенциально сохраняя жанровую специфику,
близко соприкасается и взаимодействует с НФ. Отношения
между этими жанрами — одна из моих главных тем
в этой книге.
Резюмируя, можно сказать, что НФ воплощается в литературе
по-разному. Существует НФ как ’’чистый” жанр;
событие-доминанта играет в нем исключительную или преобладающую
роль, и суть его — игра в рациональное обоснование
воображаемых вариантов действительности. Более
или менее серьезная, близкая к научной популяризации,
или же к развлечению наподобие занятиям с петлей Мебиуса
или ’’кубиком Рубика” , ’’чистая” НФ довольно ограничена
в своих литературных возможностях. Давно замечено,
что жанровая ’’чистота” в наше время характерна прежде
11
всего для ’’массового” искусства. Именно среди массовых
жанров — детектива, романа ужасов, вестерна и т. п. —
место и ’’чистой” НФ. Бьюает, что научно-фантастическая
доминанта сохраняет свою роль в тексте, но другие мотивы
значительно усиливаются; тогда рождаются многочисленные
разновидности НФ — приключенческая, социальная и т. д.,
(подобно тому, как наряду с классическим уголовным
романом развивается социальный, психологический, политический
детектив). И наконец, НФ может сама превратиться
в подсобный мотив, в прием (как в ’’Истории одного
города”) , подчиняясь доминанте другого жанра или ’’внежанрового”
произведения.
Таковы посылки моей работы. Отталкиваясь от них, я
попытаюсь выяснить, в какой форме НФ входит в советскую
литературу, как действуют в ней самые общие формальные
категории (время, пространство, сюжет и т. д.);
затем, в главах о творчестве разных писателей, я постараюсь
раскрыть содержательный (философский, идеологический)
смысл применения тех или иных научно-фантастических
схем. При этом я буду описывать особенности формы и
содержания НФ в постоянном сравнении с общей структурой
литературы социалистического реализма, как она сложилась
в 30—50-е годы (об ее изменениях в более позднее время
кое-что сказано в заключительной главе): только так
можно оценить специфику и оригинальность НФ в общелитературном
контексте.
Остается предупредить читателя, что вне пределов моего
поля зрения, за малыми исключениями, остается поэзия.
Это богатый и благодарный для анализа материал (вспомним
произведения Хлебникова, Маяковского, Брюсова,
Заболоцкого, Сельвинского и многих других поэтов, черпающих
темы и образы из утопии и НФ), но он требует
аппаратуры более сложной и тонкой, чем мои только что
описанные инструменты. И последнее замечание: анализируя
фантастику 60-х годов, я занимаюсь лишь произведениями,
опубликованными официальным образом: у самиздата
своя история, его отношения с системой соцреализ-
12
ма открыты, очевидны и неплохо изучены. То же относится
и к произведениям 60-х годов, явно принадлежащим к анти-
утопической традиции: эта тема чаще всего привлекает внимание
западных исследователей. Я, разумеется, буду касаться
и проблемы антиутопии, но не она стоит в центре книги:
она кроет в себе опасность подмены идеологическим толкованием
собственно литературного анализа. Этого я хочу
избежать, отнюдь не во имя абстрактной объективности, а
в надежде, что толкование придет само собой, по мере проникновения
в толщу литературного материала.
13
Глава 1
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ФАНТАСТИКА
Прежде, чем приступить к разговору о научной фантастике
в советское время, мне хотелось бы поделиться с читателем
некоторыми наблюдениями о фантастико-утопической
линии в русской литературе, линии более долгой и богатой,
чем принято думать.
Начну с констатации очевидного: если самоопределилась
научная фантастика только в XIX веке, то корни ее уходят
очень далеко в прошлое. Историки жанра по праву обнаруживают
’’научно-фантастические” приемы везде, где только
составлялись утопии и описывались неизвестные страны:
в эпоху античности и Ренессанса, классицизма и Просвещения.
Зато о средних веках, когда якобы заглохла рационалистическая
традиция, говорится очень мало, — и напрасно.
Именно Средневековье было той плодоносной почвой, на
которой взошли побеги фантастической литературы.
14
Античным геометризованным космосом управляли незыблемые
законы, которым подчинялись даже боги Олимпа.
Иначе в Средневековье. В одной из известных по всей
Европе новелл кровь грешного епископа, обезглавленного
по Христову велению, впитывается в мраморный пол церкви.
В другой новелле император роняет кубок и прежде,
чем тот успевает упасть и разбиться, видит, как в его государстве
проходят десятилетия. Дух спящего священника из
византийской легенды возносится в рай и получает в дар
три яблока из райского сада; проснувшись, священник
находит вполне реальные яблоки возле себя. Таких примеров
можно привести множество; в них описаны не просто
метаморфозы, как в сказке или мифе (которыми, разумеется,
усиленно питалась средневековая фантазия), где
дерево может превратиться в мрамор и наоборот, но пока
оно дерево, у него свойства дерева, а после превращения
— свойства мрамора. В средневековом рассказе мрамор
может вести себя как дерево, оставаясь при этом мрамором,
время может течь с разной скоростью, близкое и далекое,
сон и явь, духовное и материальное могут слиться в
одно. Неожиданное, неправдоподобное, невозможное может
случиться в любой момент: все законы упраздняются, если
такова воля Божья. Мир Средневековья по своей природе
пластичен.
Д. Лихачев, крупнейший знаток древнерусской литературы,
много раз подчеркивал, что она не знала вымысла, не
была фантастической, ибо описывала то, что считалось
действительно бывшим. С этим можно согласиться, но с
одним уточнением. Чудесные события, невиданные звери,
камни, растения, удивительные страны описывались потому,
что люди верили в их реальное существование; но можно
сказать и обратное: в них верили, потому что они описывались,
они обретали существование, ибо могли быть воображены
и описаны. Слово, особенно написанное Слово, данное
от Бога, бывшее и знаком, и составной частью универсума,
отражало, но и создавало реальность1. Слово вмещало в
себя все варианты пластичного мира.
15
И сегодня мы не свободны от такого понимания отношений
между миром и словом, в литературе же такое понимание
иногда - у Малларме, символистов, Хлебникова — оборачивается
главным творческим принципом. Нечто похожее
лежит и в основе построения ’’научно-фантастических” миров,
когда за логическими объяснениями и мотивировками
кроется та же вера в слово, творящее реальность.
Не так давно советский исследователь, доказывая принципиальную
новизну НФ, подкрепил свои выводы ссылкой
на восторженное замечание о грядущей ’’математической”
литературе, сделанное братьями Гонкур по поводу рассказов
Эдгара По2. Исследователь благоразумен: он не исследует,
каким образом зачинателем нового, рационалистского
вида литературы оказался автор самой мистической по духу
фантастики. И это не исключение, а едва ли не правило, достаточно
вспомнить Мэри Шелли, Н. Готорна, Вилье де
л ’Иль Адама, Бульвер Литтона и многих других классиков
жанра; даже ’’Необычайные путешествия” Жюля Верна
выстраиваются в схему, подозрительно напоминающую
маршрут мистической инициации* Вот что боятся признать
советские толкователи: в нашем рациональнейшем сознании
все еще сосуществуют Афины и Иерусалим, два мироощущения,
о которых так замечательно писал Лев Шестов.
На их стыке, в борьбе между ними и выросла фантастика,
а с ней — и фантастика научная. В средневековых апокрифах,
житиях святых, ’’Физиологах” , бестиариях, космографиях
скрыты в зародыше все современные ’’научно-фантастические”
приемы; в не меньшей, а может быть, и в большей
степени, чем из античности, идут из Средневековья
наши архетипы состояний, времени, пространства.
Одним из самых важных был и остается архетип иного,
лучшего мира. Связь утопии с представлениями о рае анализировал
на западноевропейском и американском материале
М. Элиаде4 ; эта связь еще крепче в древнерусском контексте,
где знакомство с античной традицией было очень
фрагментарным, а социально-политическая рефлексия почти
не отделялась от общемировоззренческой.
16
Для средневекового образа мыслей очень характерной
была никогда окончательно не решенная неясность относительно
существования рая: где он расположен, в каком
времени, в какой форме? Материален ли он или духовен?
(Отмечу, что без такого колебания между материальной и
духовной сущностью неизвестного не может быть фантастического,
и перед той же двойственностью поставлена НФ,
призванная ее преодолеть и снять колебание.) Находится
ли рай на земле или на небе, в нашем мире или по ту его
сторону, в ’’другом измерении” , в нашем времени или же
только в прошлом — до грехопадения — и в отдаленном
будущем?
Вера в Апокалипсис и во второе Пришествие давала надежду
на то, что рухнут временные преграды и прежде, чем
настоящее уступит место вечности, тысячу лет продлится
царство Божие на земле. Эта заканчивающая историю эпоха
мира и всеобщего благоденствия часто мыслится как настоящая
социальная утопия, наподобие справедливого
правления ’’царя от нищеты” , описанного в ходившем по
Руси во множестве списков апокрифическом житии Андрея
Юродивого. Разнообразные секты всячески — молитвой,
проповедью, оружием - пытались приблизить наступление
Миллениума, — в этом они мало отличались от людей XX века;
впрочем, как известно, одним из источников современных
схем исторического процесса, и марксистской в
том числе, было хилиастическое учение, созданное монахом
XII века Иоахимом Флорским5.
У эсхатологической утопии была своя обратная сторона:
многочисленные рассказы о неизбежном и страшном конце
мира, навеянные Откровением Иоанна, а иногда контами-
нированные восточными мотивами, как, например, в ’’Слове
о 12-ти снах царя Шахаиши”, хорошо известным на Руси.
Вместе с тем Средневековье полнится слухами о том, что
рай существует здесь же, на земле и в настоящем времени,
на том самом месте, где его описывает Библия, — где-то на
Востоке. Великий Александр видел гигантов — Адама и
17
Еву, стоял у райских ворот, но пройти в них ему помешал
ангел с огненным мечом или, в другой версии, птицы с человечьими
лицами: так говорится в ’’Александрии” , книге,
читавшейся во всех уголках мира. Герой популярного апокрифа
Макарий Римский тоже дошел до врат рая, но вход
в него был закрыт для смертных. Больше посчастливилось
герою другого апокрифа, Агапию, — он был допущен в рай
и оставил описание прекрасного сада, залитого светом в
семь раз более ярким, чем свет солнца. В середине XIV
века новгородский архиепископ Василий в своем Послании
владыке тверскому Феодору утверждал, что есть рай не
только ’’мысленный” , но и ’’сущий”, приводя все апокрифические
свидетельства и добавляя новое: рассказ новгородских
мореходов, унесенных бурей к подножию горы, на
которой был изображен лазоревый деисус, — за ней скрывался
вход в Эдем.
Очень редким избранникам дано достигнуть рая при
жизни; немногим легче попасть в сокровенный и праведный
град Китеж, для спасения от татар божественным вмешательством
погруженный на дно озера Светлояра. Только
чистые и сильные духом, преодолев великие трудности,
могут найти Китеж — так, как находят святой Грааль, —
услышать звон его колоколов, увидеть в воде озера купола
его церквей. Китеж-град, ставший в русской традиции
символом Земли обетованной и стремления к совершенству,
составляет как бы связующее звено между легендами
о земном рае и мечтами о более доступных на первый взгляд
странах, где хорошая жизнь обеспечена всем смертным, не
дожидаясь конца света.
Эти мечты оказались очень живучи в России, из средневековья
они перекочевали в новое время: особая заслуга
в этом принадлежит староверам, твердо хранившим древние
обычаи и предания. Среди раскольников и возродилась
старая китежская легенда. В раскольничьей среде бродили
рассказы о других блаженных краях, передавались фантастические
’’дорожники”, указывавшие пути к ним. Так
много было этих рассказов, что в XVII веке появилось
18
’’Сказание о роскошном житии и веселии” , своего рода карнавальная
антиутопия, пародическое описание счастливой
страны лентяев и пьяниц и пародический же путеводитель
в нее.
Вышучивание не лишало дальние края притягательной
силы. На протяжении многих десятков лет велись поиски то
реально существующих идеализованных мест — чудесной
Даурии, Анапы, ’’города Игната” , - то совсем сказочных
’’серебряных островов”. Самым, пожалуй, удивительным
эпизодом этой настоящей эпопеи были поиски Беловодья,
свободного и справедливого мужичьего царства, — его искали
поодиночке, группами, целыми деревнями вплоть до
конца XIX века.
В легендах о далеких странах переплетаются разные мотивы,
и все же в них можно угадать две основных модели,
известные с давних пор и в чистом виде воплотившиеся в
описаниях Индии, самой фантастической из всех стран.
Воображение всего христианского мира поразили сведения
(подтвержденные Марко Поло) о могущественном и
счастливом индийском царстве пресвитера Иоанна. Написанное
в форме послания Иоанна императору византийскому
’’Сказание об Индийском царстве” имело хождение на Руси
уже с XIII века. В нем описана страна чудес, населенная
песьеголовыми, многоногими, рогатыми людьми и небывалыми
животными вроде исполинских петухов, на которых
ездят верхом. Но, прежде всего, это страна сказочной силы и
богатства, с огромной армией и с дворцами, построенными
из золота, серебра и драгоценных камней; за столом Иоанна
каждый день обедают ” 12 патриархов, 10 царей, 12 митрополитов,
45 протопопов, 300 попов, 100 дьяконов, 50 певцов,
900 клиросников, 365 игуменов, 300 князей”, и даже чаши
подают цари и короли.
Совсем иная Индия ’’рахманов” описана в ’’Александрии”,
хронике Георгия Амартола, апокрифе о хождении
Зосимы к рахманам и в ’’Слове о рахманах”, составленном
в XV веке русским иноком Ефросином. Жители этой Индии
- ’’нагомудрецы” , они питаются плодами земли, у них нет
19
царей, нет и имущества, и на вопрос Александра они отвечают:
’’имение наша есть земля, древа плодоносный, свет,
солнце, луна, звездный лик и вода” . При всей их свободе
жизнь рахманов организована, довольно строго регламентированы
половые сношения, и это придает рассказам о них
черты классического утопического построения, черты, еще
более усиленные в русском тексте Ефросина.
Итак, с двумя образами рая — небесного, духовного и
земного, материального — перекликаются, часто смешиваясь,
два утопических идеала: утопия ’’искусственной”
роскоши, материального благосостояния, позволяющего
разрешить все проблемы (в царстве Иоанна нет воров,
нищих, преступников), и ’’естественная” утопия аскетизма,
общения с природой, мудрой жизни в равенстве, не нуждающейся
в принуждении и государственной опеке. Средневековая
мысль движется в так обозначенном утопическом
континууме, и надо сказать, что его координаты сохраняют
свой смысл и для XX века, с его метаниями от тоталитаризма
к самому необузданному индивидуализму, от технологии
к экологии.
Отталкиваясь от этих исходных представлений, в одну
сторону устремлялись народные мечтания — о русской утопии
есть интереснейшие монографии К. Чистова и особенно
А. Клибанова6, поэтому я не буду на них задерживаться,
скажу лишь, что есть прямая связь между ними и философскими
исканиями XIX века; например, учение о ’’новом
человеке” , разработанное в среде духоборов, имело
много точек соприкосновения с идеями Григория Сковороды,
и, по-видимому, благодаря его влиянию (а может быть,
и непосредственным путем) отразилось в ’’Философии общего
дела” Николая Федорова.
В другую сторону развивались модели, требуемые идеологией
растущего в силу московского государства. К концу
XV — началу XVI века относится создание легенд (’’Послание
о Мономаховом венце”, ’’Сказание о князьях Владимирских”)
, поставляющих ’’факты” для обоснования
доктрины ’’Москвы — третьего Рима” , доказывающих
20
преемственность русской династии по отношению к линии
великих мировых империй. Д. Лихачев считает, что вместе с
этими фантастико-историческими легендами в русскую литературу
вошел впервые сознательный вымысел'. Несомненно,
что они играли первостепенную роль в оформлении зарождавшейся
государственной утопии.
Уже в XV веке ’’Повесть о мутьянском воеводе Дракуле”
в полуутопических тонах рисовала правителя жестокого, но
справедливого и пекущегося о своих подданных, — неудивительно,
что повесть имела успех в царствование Ивана
Грозного. В том же ключе, но более всесторонне решал вопрос
о правильном устроении государства Иван Пересветов,
автор ’’Сказания о Магмете-салтане” (1547). Полный ожесточенной
идеологической и религиозной полемики, борьбы
против ересей, борьбы за укрепление царской власти, XVI
век был ареной столкновения разных утопических концепций;
более или менее ясное их выражение мы находим в
сочинениях Иосифа Волоцкого и Вассиана Патрикеева,
Максима Грека и Ермолая-Еразма. В отличие от большинства
трактатов своего времени ’’Сказание о Магмете” написано
по канонам занимательной исторической повести и
может считаться первой в России беллетризованной политической
утопией (в какой-то мере ей противостоит набросок
счастливого правления, мелькнувший в ’’Повести о Петре
и Февронии” Ермолая-Еразма). Если в образе Дракулы смешивались
отрицательные и положительные черты, Пересветов
идеализирует султана-основателя мощного государства
и подчеркивает его идеальность, противопоставляя ему
слабого и безвольного Константина, последнего императора
Византии.
Этому приему противопоставления суждена долгая
жизнь. Тема контраста между хорошим и дурным правителем
и, соответственно, хорошей и дурной формой правления
станет важнейшей в литературе конца XVII— XVIII
века. Если Симеон Полоцкий ввел в русский язык слово
’’тиран” , то он же и его последователи дали образцы панегирической
утопии, для которой царствующей монарх и
21
его дела являют собой воплощенное совершенство. Многие
годы ’’панегирическая” функция будет одной из ведущих в
русской литературе. Похвальные вирши, проповеди и ’’слова”
церковников-реформаторов, соратников Петра, торжественные
речи и оды, слагаемые придворными поэтами и,
по долгу службы, членами Академии наук, школьные аллегорические
пьесы начала XVIII века, где нечестивый царь
безуспешно состязается с царем-героем, вспомогаемым ангелами
и апостолами, — почти все высокие жанры русского
барокко и классицизма участвуют в похвальном действе.
Восторженные настроения были не совсем безосновательны.
В ’’Письме Мелодора Филалету” (1795) Н. Карамзин
подводит итог столетию: ’’Кто больше нашего славил преимущества
восьмого-надесять века: свет философии, смягчение
нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных
удовольствий, всеместное распространение духа
общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов,
кротость правления, и проч и проч?”8. XVIII век жил
с ощущением собственной важности и в ожидании ’’великого
совершения” (слова Карамзина). Век недаром начался
с возведения идеального города, ’’парадиза Петра Великого”,
как называл его Феофан Прокопович.
Приобщение России к европейской культуре было и знакомством
с классической и современной утопией, от Плу-
тарховой ”Жизни Ликурга” до Руссо, от Томаса Мора до
Мабли, — и очень характерно, что из колоссального идейно-
философского наследия Запада легче и быстрее всего
усваивалась именно утопическая мысль (примерно то же
повторится и в следующем столетии).
Утопизм заявлял о себе повсюду: в политике, философии,
архитектуре (потемкинские проекты). В литературе он
облекался в одежды панегиризма. Стоит, однако, заметить
тонкую грань между ними. Собственно панегирическая
литература просто восхваляет; уже в другую эпоху, но
проще и точнее, чем поэты и академики самых дифирамбических
времен, дух такой литературы выразил граф Бенкендорф
в знаменитой, обращенной к Чаадаеву тираде о заме-
22
чательном прошлом России, ее прекрасном настоящем и
будущем, превосходящим самые смелые мечты. Панегирическое
же по форме произведение, где должное представлено
уже свершившимся, где создан образ ’’идеального государя”
и ’’идеального правления”, преподносимый монарху
в качестве некой программы действий, такое произведение
во многом выполняет функцию утопии, тем более, что в нем
косвенно (а иногда и открыто, как в державинской ”Фе-
лице”) дана критика существующего порядка. Кроме того,
в системе классицизма узаконена знакомая нам утопическая
антитеза: постановку проблемы идеального монарха
в высоких жанрах сопровождает тираноборческая тема —
очень резкая, например, у Княжнина, — в средних же жанрах
ее неизменно оттеняет сатира. Всем известно, что новая
русская литература ведет начало от Кантемира.
Монополию панегирического тона прекратила сама Екатерина
своим невероятным по либеральности Наказом и
открытой дискуссией вокруг него. Либерализм императрицы
не выдержал испытания реальной жизнью, но социально-
политическая рефлексия, разогнавшись, могла быть заторможена,
но уже не могла остановиться. Вторая половина
века отмечена подъемом настоящей — а не только панегирической
— утопии.
Интересно, что в литературе она дает возможность формальных
поисков. Впервые в русской литературе князь
Щербатов строит свое ’’Путешествие в землю Офирскую”
(ок. 1785) по классическому канону’’Утопии” Мора. А. Радищев
делает очень смелый эксперимент, объединяя в
’’Путешествии из Петербурга в Москву” (1790) сентиментально-
философское повествование в духе Стерна с реалистическими
зарисовками с натуры, аллегорическими
снами и ’’проектами в будущем” .
Классицистический Штаатсроман указывает один из главных
путей, по которым идет в то время развитие русской
прозы. ’’Античные”, весьма условные похождения составляют
фон для утопических картин в ’’Приключениях Фе-
мистокла” (1763) Ф. Эмина, в ’’Арфаксаде, халдейской
23
повести” (1793) П. Захарьина; размышления о ’’золотом
веке” заполняют объем практически бессюжетной ’’Афинской
жизни” (1795) Карамзина. Писатели постоянно пользуются
европейскими образцами, очень свободно с ними
обращаясь. В ’’Тилемахиде” (1766) В. Тредьяковский делает
перевод романа Фенелона гекзаметром, обогащая этим
размером русское стихосложение, и дополняет текст подлинника
собственными рассуждениями. М. Херасков пишет
”Нуму Помпилия” (1768), переделывая знаменитый утопи-
ко-политический роман Флориана.
Все еще не оцененная по достоинству проза Хераскова
включает очень интересные политико-утопические романы,
написанные богатым языком, очень умело стилизованным
под греческую манеру. В них использован популярный в
классицизме мотив аллегорического странствия. Герои
’’Кадмоса и Гармонии” (1789) и ’’Полидора, сына Кадмоса
и Гармонии” (1794) путешествуют из одной страны в другую,
сравнивают их, оценивают их устройство. Сюжет развивает
все ту же тему противопоставления между дурными и
хорошими царями и государствами. Херасков, однако, вводит
очень важное новшество. До того антитетические модели
представляли собой перечни противоположных качеств и
были абсолютно статичными. Херасков раскрывает динамику
превращения хорошего государства в свою противоположность.
В ’’Кадмосе и Гармонии” группа ученых философов-
просветителей в сопровождении своих последователей
устраивает идеальное государство на плодородном, изобильном
благорастворенным воздухом острове. Его принципы:
жизнь по науке, господство над природой, равенство
всех граждан, общность имущества. Но поскольку все равны,
все равно хотят властвовать, и начинаются первые трения.
Дальше — хуже. Ученые пользуются своими знаниями
для того, чтобы завоевать ряд привилегий. Затем по их
предложению на острове вводится чиноначальство; леса,
поля, воды, бывшие общими, теперь разделяются на равные
части, но это хитрость: философы берут плату за лече-
24
ние, помощь по хозяйству, юридические советы, постепенно
становятся обладателями больших богатств, порабощают
менее просвещенных колонистов, превращаются в тиранов.
Наконец, разгораются междоусобицы, и остров погибает в
огне и войне.
Консерватор по взглядам, Херасков нападает на ’’французские
идеи”, но открытая им тема спекуляции идеалами и
их постепенного извращения по ходу реализации, - эта тема
имеет смысл гораздо более универсальный: она начинает
антиутопию в современной ее форме и функции.
Разочарование в просветительской утопии было уделом
многих современников Французской революции. Именно
об этом разочаровании пишет карамзинский Мелодор, констатируя
крах всех своих радужных мечтаний, — ему, однако,
отвечает мужественное письмо Филалета, который тоже
уже не верит в немедленное наступление всеобщего счастья,
но сохраняет веру в людей, в науку, в реформы, улучшающие
жизнь общества. Очень актуально звучит сегодня эта
дискуссия конца XVIII века.
Что касается книг Хераскова, нужно подчеркнуть, что
они зашифрованы (Кадмос — это каббалистический Адам
Кадмон, его странствия — поиски самого себя, высшей мудрости
и ’’гармонии” и т. д.) : в них скрыто выражено масонское
мировоззрение и идеалы их автора. Общеизвестно, что
в советской историографии совершенно искажена роль масонства,
бывшего более полувека одним из активнейших
ферментов русской культуры. Напомню лишь, что Екатерина
считала масона Новикова опаснее Радищева и что масоны
- в России особенно московские розенкрейцеры-мартинисты
— стремились осуществить самую революционную из
всех утопий: преобразить человека и сделать ”из всего человеческого
рода одно семейство братьев, связанных узами
любви, познаний и труда”9.
Масонское учение показало человеку сложность его внутреннего
мира, силу его чувств, раскрыло перед ним космические
глубины в нем самом. Оно определяюще повлияло
на формирование русского сентиментализма и дало пищу
25
богатой мистической литературе. И вместе с тем масоны были
самыми деятельными пропагандистами новых знаний. В
большой мере благодаря их влиянию утопия все чаще вооружается
научными и паранаучными средствами.
В 1794 году вышло в свет ’’Новейшее путешествие, сочиненное
в городе Белеве” . Сочинил его В. Левшин (разумеется,
масон), автор известных сборников русских сказок.
Герой ’’Путешествия” летит на Луну, обнаруживает там
основанное на руссоистских началах общество и становится
свидетелем возвращения ’’космонавта”, только что слетавшего
с Луны на Землю. Рассказ о лунном государстве сменяется
рассказом о земной истории и земных порядках,
увиденных глазами жителя Луны. Интересно задуманная
как столкновение сюжетов Сирано де Бержерака (впрочем,
о полете на Луну к тому времени уже писали многие) и
вольтеровского ’’Микромегаса”, книга Левшина по своему
стилю, по дидактизму и абстрактности персонажей, действия
и декораций — типичная классицистическая утопия. Но по
техническим деталям фантастических летательных машин,
по месту, отведенному сведениям из области астрономии
и механики, а прежде всего, по свободе, с какой автор обращается
с научными данными, ’’Новейшее путешествие”
стоит очень близко к современной НФ.
Время жанра, однако, еще не пришло: фантастическая литература
еще не оформилась, еще не оторвалась от обработки
фольклорных преданий (у Левшина, Попова, Хераскова
в ’’Бахариане”) , еще не обособилась от утопии.
У сентиментализма же был свой идеал — идиллия, уже не
псевдоантичная на манер Гесснера, а осовремененная по
образцу ’’Луизы” Фосса и ’’Германа и Доротеи” Гете. Старая
тема, важная и для классицизма, и для Просвещения, развернутая
романтиками и не исчерпанная по сю пору, особенно
сближает идиллию с утопией. Это тема ’’природного человека”,
тема конфликта между ’’натурой” и ’’культурой” ,
очень богатая вариантами. Для нее характерно использование
остраняющих приемов: пороки цивилизации даются
через восприятие наивного Кандида, дикаря, иностранца,
26
инопланетянина, ребенка, наконец, животного, как у Свифта
(или потом у Толстого в ’’Холстомере”) . В России были
очень популярны такие книги, как ’’Дикий человек, смеющийся
учености и нравам нынешнего света” (1781) П. Богдановича
или анонимная ’’Дикая Европеанка” (1804). В этом
последнем романе поставлен социально-психологический
эксперимент: героиня, воспитанная с двухлетнего возраста
в изоляции от внешнего мира, сама по себе, ’’естеством”,
приходит к постижению главных истин человеческого мира
и первейшей из них — любви. Из этих проблем, из таких экспериментов,
оснащенная похожими инструментами остра-
нения, идет центральная тема НФ нашего времени: критика
технологического общества.
Для того, чтобы появилась фантастика в полном смысле
этого слова, традиционное классицистически-просветитель-
ское видение мира, уже надтреснутое после Французской
революции, должно было распасться. Так и случилось в
эпоху наполеоновского потрясения и натиска романтизма.
Новая философия, новые литературные влияния — Шеллинг,
английская ’’готика”, В. Ирвинг, Гофман, — переосмысление
задач творчества и роли художника, новое понимание
художественной формы, — в русской литературе
идет переворот. Одно из его проявлений — взрыв фантастической
литературы.
Почти все писатели 20—40-х гг. XIX века, крупные, средние
и малые, от Пушкина до Греча, от Погорельского до
Гоголя, от Сомова и Павлова до Одоевского, Вельтмана
и А. Толстого, — почти все писали фантастику. Фантастику
сказочную, ’’ужасную” , мистическую и — ’’научную” .
Революционные открытия в археологии, палеонтологии,
этнологии сделали модными имена Шампольона, Кювье,
фон Гумбольдта и подстегнули воображение писателей.
Успехом пользуются теории и рассказы о неизвестных цивилизациях
в Кордильерах, Арктике, других затерянных уголках
земного шара (эту идею будут эксплуатировать весь
Х1Х-Й и добрую четверть XX века). Развивается исторический
роман, одно из главных литературных завоеваний ро-
27
мантизма. Вместе с усиленным вниманием к прошгому
растет интерес к будущему. И вот, русская литература начинает
устраивать фантастические экскурсии во все стороны
пространства и времени.
В. Кюхельбекер пишет ’’Землю Безглавцев” (1824), герой
которой попадает в страну, где большинство жителей
живет в свое удовольствие без головы и без сердца. Эти придаточные
органы удалены хирургией и педагогией, строго
научными методами. Голову и сердце могут иметь только
простолюдины, да и те стараются от них избавиться при
первой возможности. Обратна система социальных оценок у
Ф. Булгарина, печально известного доносчика и, в то же время,
одного из наиболее читаемых писателей 20—30-х гг. Его
’’Путешествие к средоточию земли” (1824) описывает подземную
страну Невежества, погруженную во мрак и населенную
дикими представителями черни, лишенными всех
потребностей, кроме физиологических. В соседней же стране
Просвещения под доброжелательным оком монарха
блаженствуют благородные духом.
Один из самых отважных экспериментаторов в истории
русской литературы, А. Вельтман как бы опрокидывает в
будущее остросюжетную историко-приключенческую схему
и накладывает ее на схему утопии. Такова структура романа
’’МММСВХЬУШ год. Рукопись Мартына Задека” (1833).
Это один из первых и очень редких в XIX веке утопических
романов — я имею в виду не только русскую литературу,
— построенных по принципу ’’показывать, рассказывая” .
В нем мало пространных описаний и объяснительных тирад,
устройство будущего общества узнается по ходу действия,
в нем есть и тайны, и узнавания, и любовная история, и сцены
в портовых кабаках. Правда, основа сюжета традицион-
на. В утопической Босфорании нет ни бедности, ни социаль:
ных проблем, публичные здания выстроены из мрамора и
золота, Верховный Совет помогает править добродетельному
Иоанну (не пресвитеру ли?); деспотический Эол захватывает
власть, но возвращение Иоанна восстанавливает гармонию.
28
Мы узнаем старые ситуации. Но приемы их обработки
обновляются.
В ’’Европейских письмах” (1820) Кюхельбекера мы видим
будущую Европу, разрушенную войнами, вернувшуюся
в варварское состояние и сохранившую лишь руины былого
великолепия, глазами американского туриста XXVI столетия.
Вельтман изобретает путешествие в прошлое: герой
романа ’’Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский”
(1836) летит на гиппогрифе в древность. Он
встречается с македонскими царями и попадает в смешные
положения, например, когда его банковские ассигнации принимают
за священные письмена. Вельтман интересовался
историей и филологией, разрабатывал собственную теорию
происхождения славян, — и в поддержку ей заставил древних
македонцев изъясняться на славянском языке. Такого
же рода гипотезы он проводит в своих сказочно-исторических
романах (’’Кощей бессмертный” , ’’Светославич,
вражий питомец”). Вельтману же принадлежит набросок
романа, где говорится о походах во времени и об Аттиле,
дерущемся пистолетами против воинов, вооруженных волшебными
мечами. Смещение времен, сознательные анахронизмы,
манипуляция историей и преданиями, все это делает
Вельтмана предшественником современной исторической
НФ.Н аука и техника все больше просачиваются в литературу:
пироскафы и монгольфьеры так же занимают умы
современников, как нас — спутники и электроника.
Появление знаменитой кометы Галлея (или кометы
Беллы), которая по предсказаниям должна была столкнуться
с Землей, приковало взгляды к небесным пространствам
и вызвало толки о будущей катастрофе. Эта катастрофа
описана в ’’Двух днях в жизни земного шара” (1828)
В. Одоевского, представляющих собой чистейший пример
научно-фантастического рассказа. Булгарин принялся издавать
журнал ’’Комета Бела” (1833) и печатал сатирическую
переписку жителей кометы с землянами.
Здесь нельзя не отметить любопытный факт, объяснения
29
которому не найти в советских исследованиях. Факт кажется
парадоксом, на деле он, видимо, закономерен. Революционеры-
декабристы много думали о будущем обществе.
Но в своих сочинениях они либо составляют, как Пестель,
подробные политические программы, либо, как Кюхельбекер,
Ф. Глинка, А. Улыбышев, рисуют расплывчатые картинки
счастливой жизни в античных нарядах, расцвета
искусств и наук, мудрых правительств. Иначе говоря, они
не представляют себе ничего конкретного. Зато заядлый
реакционер Булгарин пишет ’’Странствия по свету в двадцать
девятом веке” (1829), первую в России технологическую
утопию, довольно подробно описывая летательные
аппараты, автоматические устройства, подводные города и
выражая мысль, что научно-технический прогресс приведет
к всеобщему благоденствию. И еще более богатую техническими
предвидениями картину будущего предлагает в
неоконченном романе ”4338-й год” (1840) Одоевский,
философ-идеалист, мистик, ученик Шеллинга и Сен-Мартена,
автор ’’таинственных” фантастических повестей. Феномен
тот же, что и в случае с Эдгаром По: оказывается, фантастика
очень свободно переходит в НФ и наоборот, оказывается,
ни идеализм, ни мистицизм не мешают точному
мышлению и стремлению познать все, что доступно познанию.
Вопрос в том, все ли в мире доступно научному познанию,
а если да, то достаточно ли такое знание.
Романтики ставят этот вопрос очень остро. В знаменитом
стихотворении ’’Последний поэт” (1835) Е. Баратынский
с грустью и тоской размышляет о грядущем индустриальном
царстве холодной Урании, где не останется места для
одиночества поэта и не нужна будет поэзия. О. Сенковский,
сам крупный ученый-востоковед, посвящает часть ’’Фантастических
путешествий барона Брамбеуса” (1833) едкой
критике ученого мира и научных теорий, претендующих
на всеведение и безошибочность. У Одоевского есть новелла
’’Импровизатор” (1833), вошедшая впоследствии в ’’Русские
ночи”. Это история человека, наделенного даром ’’все
30
знать, все видеть, все понимать” . Он становится обладателем
рукописи, где ’’были расчислены все силы природы”,
где ’’все высокое и трогательное было подведено под арифметическую
прогрессию; непредвиденное разложено в
Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой;
слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы;
невольный порыв души приведен в уравнение” 10.
Мы догадываемся, что дар не приносит герою счастья. В стакане
воды он замечает борьбу инфузорий, в глазах любимой
сетчатую плеву, в ее походке — механизм рычагов; живопись,
музыку, философию, историю он воспринимает как
набор механических явлений. Жизнь он кончает шутом у
степного помещика.
Что может случиться с обществом, если его устройство
будет подчинено новейшим научным теориям, показывает
’’Город без имени” (1839) и ’’Последнее самоубийство”
(1840), также включенные Одоевским в ’’Русские ночи” ,
эту поражающую смелостью формы и богатством содержания
книгу. В ’’Городе без имени” описаны основание, расцвет
и упадок Бентамии, государства, где осуществились
принципы, выработанные отцом утилитаризма. Мерилом
всех ценностей в Бентамии была польза, а единственной
целью граждан и общества в целом — собственное благо.
Поначалу страна процветала. Но понятие пользы относительно.
Банкиры, ученые, купцы, ремесленники, земледельцы
по очереди управляют государством, все они прекрасно
знают, что именно полезно для других, все постепенно ведут
Бентамию к раздорам, войне, разорению. ’’Последнее
самоубийство” реализует идеи Мальтуса: перенаселенная
Земля не может прокормить всех, правительства поощряют
распространение культа самоубийства и, в конце концов,
жители планеты буквально превращают ее в бочонок пороха
и взрывают, найдя таким образом окончательное решение
своим проблемам.
Эти рассказы лишены действующих лиц, фона, фабулы,
они написаны в форме социально-политической притчи,
то есть так, как писал Херасков. Но Одоевский менее аб-
31
страктен, рассматривая возможные последствия реальных
теорий, он делает их подробный анализ и очень последовательно
применяет метод экстраполяции. Это новый шаг в
развитии русской антиутопии.
Итак, к началу 1840-х гг. уже определились отношения
между фантастикой сверхъестественной, научно-техническими
предвидениями, утопией, сатирой, философскими
размышлениями. Намечены контуры нового литературного
жанра, в поле его воздействия уже появился ряд значительных
произведений, он привлекает писателей, очень хорошо
чувствующих его специфику. Показательно, что Булгарин
отнес свою сатирико-утопическую аллегорию о путешествии
к средоточию Земли к серии ’’Невероятных небылиц” , а
свои предвидения о жизни XXIX века зачислил в ’’Правдоподобные
небылицы” , — в этом подзаголовке дано сжатое
и вполне точное определение научной фантастики, как мы
ее понимаем.
Казалось бы, что после такого блестящего начала НФ
предназначено сыграть важную роль в литературе XIX века.
Случается обратное: она надолго замирает и вновь наливается
жизненными соками лишь в начале следующего столетия.
Почему?
Многие советские, а вслед за ними и западные авторы
причину видят в индустриальной и научной отсталости России.
Однако в эпоху романтизма русская наука только еще
поднималась на ноги, а НФ все же появилась; и наоборот,
60-е годы, когда НФ практически не существовало, были
временем необычайной моды на ’’научность” , широкой
популяризации естественных знаний — причем как раз в
литературной среде, — временем больших успехов русских
ученых. Впрочем, твердя о царизме, задушившем всякую
мысль, в СССР на все лады склоняют имена Лобачевского,
Пирогова, Сеченова, Ковалевской и проч., доказывающие
высочайший уровень русской научной мысли. В ждановщину
капитальные труды вроде ’’Рассказов о русском первенстве”
вообще все великие и малые открытия приписывали
32
русским. Так что объяснение отсталостью ничего не объясняет.
Настоящее объяснение, на мой взгляд, в другом: для НФ
‘ не осталось места в русской литературе, разделившейся на
два враждебных лагеря.
Лет через пятнадцать после того, как Одоевский опубликовал
свою притчу о Бентамии, позитивизм и утилитаризм
восторжествовали среди радикально настроенной интеллигенции.
Бюхнер, Фогт, Молешотт стали предметом культа.
Парадокс заключался в том, что естественные науки и позитивистские
методы нужны были их активнейшим поборникам,
властителям дум 60—70-х гг. не столько для познания
мира, сколько для главного и единственно важного
Дела — изменения общества. Самые практические, самые
экспериментальные дисциплины обратились средством реализации
утопии. И, конечно, Дело требовало полной отдачи
и все, что непосредственно ему не служило, признавалось
бесполезным, пустым и вредным (точно, как в Бентамии,
где все очередные правители преследовали ’’вредных мечтателей”)
. Вредной была признана и фантастика. Писарев
назвал ’’пустяками” тургеневские ’’Призраки”, Лавров
же прямо сказал, что появление таких произведений свидетельствует
об углублении реакции. Таким будет мнение
всех радикальных деятелей, еще и в начале XX века в ’’Истории
литературы” Овсянико-Куликовского фантастика
названа реакционным жанром. Так же ставит вопрос и
советская наука о литературе. И если в последнее время
разрешено снова интересоваться Вельтманом и Одоевским,
то значение их фантастических вещей всячески умаляется
в пользу ’’реалистических” ; та же операция проделывается
и с творчеством Тургенева, Гоголя, Достоевского, Лескова.
Для всех них фантастика считается чем-то второстепенным,
часто — заблуждением, досадной слабостью, незрелостью,
и для того, чтобы полностью реабилитировать писателя,
необходимо показать, что его фантастика содержит прогрессивное,
критическое по отношению к царизму зерно.
33
Из писателей-радикалов (или, на советском языке, революционных
демократов) только Чернышевский решился
заглянуть в будущее. Вера Павловна, героиня ’’Что делать?”
(1862), видит во сне осуществленное по всем фурьери-
стским правилам общество, где граждане живут в стеклянных
домах, похожих на лондонский Хрустальный Дворец,
и находят в труде такое счастье, что непрерьюно поют и
смеются. Эта сусальная картинка практически ничем не
отличается от большинства старых и новых утопий, но сила
и оригинальность Чернышевского состояла в том, что средства,
ведущие к цели, и саму цель он первым в России сформулировал,
пользуясь терминами и понятиями воинствующего
социализма.
По силе воздействия на литературу и на общество ’’Что
делать?” стоит в ряду важнейших книг XIX века. Своеобразную
и несколько двусмысленную реплику утопии Чернышевского
дал Щедрин своей ’’Историей одного города”
(1870), самым жестоким из всех памфлетов, когда-либо
написанных против царской России. Самая же беспощадная,
заключительная глава книги повествует о деяниях градона-
чальника-прохвоста Угрюм-Бурчеева, вознамерившегося
покорить природу и выстроить на ровном месте идеальный
город, в котором царила бы сплошная геометрия, все граждане
были бы на одно лицо, а жизнь была бы расчисленной
по часам и минутам. Глава эта направлена против аракчеевщины
и поселенческой утопии, но есть в ней подробности,
позволяющие предполагать мишенью сатиры и социалистические
теории. Поскольку об этом аспекте щедринского
гротеска говорить не принято и для того, чтобы не показаться
голословным, приведу пример.
Вот как в трактате ’’Организатор” (1820) Сен-Симон
представлял себе народные празднества в грядущем обществе:
’’Будет два вида праздников: праздники надежды
и праздники воспоминаний /.../ Во время праздников надежды
ораторы будут знакомить народ с проектами работ,
декретированными Парламентом, а также призывать граждан
к самому усердному труду, давая им понять, сколь
34
сильно улучшится их участь после осуществления этих
проектов. На праздниках, посвященных воспоминаниям,
ораторы будут стараться объяснить народу, насколько положение
его предпочтительнее тому, которое было уделом его
предков”11.
А вот проект Угрюм-Бурчеева: ’’Праздников два: один
весною, немедленно после таянья снегов, называется ’’Праздником
Непреклонности” и служит приготовлением к предстоящим
бедствиям; другой — осенью, называется ’’Праздником
Предержащих Властей” и посвящается воспоминаниям
о бедствиях, уже испытанных”12. Достаточно заменить
слово ’’бедствия” тем, что оно подразумевает, то есть
’’усердным трудом по указу” , и мы получаем точную кальку
идеи Сен-Симона. Это мало похоже на случайное сходство,
тем более, что оно не единственное, а ’’поселенные
единицы” города Непреклонска очень напоминают фаланстеры.
Но и в мало правдоподобном случае ряда ненамеренных
совпадений, аналогия весьма красноречива. Вольно или
невольно, если не своим современникам, то нам, наученным
опытом XX века, Щедрин раскрывает, как сходятся кажущиеся
противоположности, как близки по своей сути идеалы
униформизованного коллективного счастья бредовым
солдафонским мечтам разных ’’прохвостов” . В этом отношении
история Угрюм-Бурчеева — антиутопия, наполненная
смыслом, актуальным и сегодня.
Из лагеря, противостоящего радикалам, на утопию Хрустального
Дворца яростно нападает Достоевский, подозревающий
в ней казарму для духа. Начиная с ’’Записок из
подполья” , задуманных как непосредственный ответ Чернышевскому,
без устали и с хирургической точностью писатель
исследует тему безбожного социализма и всеобщего счастья,
купленного за цену свободы личности. Теории Раскольникова
и Ипполита, проекты Шигалева и Петра Верховенского,
сны Версилова и смешного человека прекрасно известны
и исследованы; предстоит еще изучить их как важнейший
этап в развитии русской антиутопии: прямая связь — даже
35
в отношении формы — прослеживается между Херасковым,
Одоевским и притчами Достоевского.
Достоевский насквозь утопичен; но он не занимается
научной фантастикой, так же, как ею не занимались славянофилы
(чья утопия нашла литературное отражение в главе
’’Тарантаса” , опубликованной В. Соллогубом в 1845 году);
НФ не интересует ни Тютчева с его космогоническими
прозрениями, ни Толстого, создателя собственной утопии,
ни народников, поглощенных грезами о крестьянской
идиллии. Все они недоверчиво или враждебно относятся к
индустриально-техническому прогрессу, к западной модели
цивилизации; они обращаются к ’’почве”, к народной культуре,
к старообрядческим традициям; это в их творчестве
возрождаются легенды о Китеж-граде и земном рае.
С этой точки зрения ’’научная” рационализация мечты
должна была казаться узко-прагматической, как раз в
том смысле, какой слову ’’наука” придавали шестидесятники.
Слишком ’’фантастическая” для одних, слишком ’’научная”
для других, НФ покинула литературную сцену. Утопия
же, вездесущая в литературе XIX века, нашла куда более
простую мотивировку: восходящий к средневековью прием
сна, — во сне прозревают рай на Земле и декабрист Улыбы-
шев, и славянофил Иван Васильевич из ’’Тарантаса” , и помещик
Обломов, и социалистка Вера Павловна, и народнический
счастливый мужик в ’’Устоях” Златовратского, и
сомневающиеся герои Достоевского. ,
Я сказал, что НФ никого не интересует: это не совсем верно.
Идеи, которые мы назовем сегодня научно-фантастическими,
продолжают жить подспудно, и иногда неожиданно
прорываются на поверхность. Так, в самом, пожалуй, талантливом
разночинском романе — ’’Николае Негореве”
(1871) И. Кущевского один из героев, неудержимый мечтатель
в жизни и в науке, строит целую концепцию об атомах-
микромирах со своими звездными системами и планетами,
где развиваются — в соответственно ускоренном темпе —
разумные цивилизации. Много позже, на рубеже века, эта
36
идея ляжет в основу ряда научно-фантастических романов
и возродится в советской НФ и в 20-е, и в 60-е годы.
Мало кто помнит, что рассказ на научно-фантастическую
тему взялся писать в 1856 году Л. Толстой: русский офицер,
возвращаясь с фронта, попадает не то в параллельный мир,
не то в другое время, на восемь лет раньше, — местность
вокруг дома изменилась, давно умершие родители живы
и т. п.13. Писателя явно интересовало психологическое
развитие этой необыкновенной ситуации. Своим сюжетом
Толстой предвосхитил всю психологическую НФ и, не окончив
рассказа, быть может лишил ее великого шедевра.
И не отвечает ли главному критерию НФ, рационализации
внеэмпирического, никогда не упоминающаяся в историях
жанра повесть замечательного поэта К. Случевского ’’Профессор
бессмертия” (1892), герой которой ’’научно” доказывает
бессмертие человеческой души?
Так по-старательски промывая русскую литературу
XIX века в поисках крупиц НФ, можно намыть немалое
богатство тем и ситуацией; но настоящая золотоносная
жила, разработка которой не окончена и сегодня, выходит
из недр русской философии второй половины века. И в
первую очередь здесь следует назвать учение Николая Федорова,
оригинальнейшего философа, которого считали гениальным
Достоевский, Л. Толстой и Вл. Соловьев.
Федоров был религиозным мыслителем. Его философия
супраморализма покоилась на новых в христианской мысли
утверждениях: условном принятии Апокалипсиса и буквальном
— слов о Боге живых, а не мертвых. Федоров учил, что
человечество сможет избежать Страшного суда, избрав
правильный путь к Богу, а этот путь — преодоление смерти.
Как пишет Бердяев, ”не было на земле человека, у которого
была бы такая скорбь о смерти людей, такая жажда возвращения
их к жизни” 14. В теодицее Федорова Зло — это
смерть. Желать вечной жизни после смерти значит примириться
со злом. Бесконечное продление жизни живым и
активное, научное воскрешение всех умерших поколений
— вот задача объединенного в братскую семью человечества,
37
его ’’общее дело” , первый и решительный шаг к царству
Божию на Земле. По Федорову, частицы материи обладают
чем-то вроде памяти и, ’’прочитав” ее, можно восстановить
их конфигурации, существовавшие в прошлом (между прочим,
мысли о ’’памяти” частиц совершенно серьезно высказываются
некоторыми учеными в наши дни). Земля будет
переустроена, чтобы вместить часть воскрешенных, остальные
заселят космические просторы; наша планета станет
кораблем, управляемым волей людей; Человек внесет
порядок в законы вселенной, одухотворит ее, исполняя тем
самым замысел Божий. Этот проект — едва ли не самая
фантастическая из всех известных утопий, единственная
настоящая ’’ухрония” (к этой теме я еще вернусь), грандиозная
’’космическая опера” .
Федоров повлиял на многих мыслителей и ученых. Среди
них такие крупные фигуры, как о. П. Флоренский, В. Вернадский,
К. Циолковский (последний взялся за практическое
решение проблемы завоевания космоса). Каждый из
них прокладывал новые пути в науке, каждый создал свою
собственную философскую систему и собственную утопию,
в свою очередь влияя на культурную жизнь целой эпохи.
Эпоха эта отмечена бурной реакцией против позитивизма.
Думами овладевают Достоевский, заново прочитанный
Гоголь, Соловьев, Федоров. Зарождается и молниеносно
достигает зрелости движение символизма.
Серебряный век русской культуры имеет много общих
черт с золотым: необычайный творческий подъем; мощное
движение, охватывающее все области искусства; западные
влияния, претворяемые в нечто новое и оригинальное;
огромная роль философии и истории; мистические течения
(в моду входят теософия, спиритизм, мифы об Атлантиде,
восточная мудрость).
Добавим к этому атмосферу на рубеже двух веков:
запоем читается Ницше; романы Фламмариона и Уэллса
заставляют переживать космические катастрофы; много
говорится о ’’желтой опасности”; общество живет в предчувствии
социальных бурь. Грозными предзнаменованиями
38
кажутся извержение вулкана на Мартинике, землетрясения,
разрушившие Лос Анджелес и Мессину.
Вл. Соловьев в своей последней книге ’’Три разговора” ,
вышедшей в первый год нового столетия, дал впечатляющую
картину разложения цивилизации и современного Апокалипсиса,
воцарения Антихриста и его господства на Земле
вплоть до Второго пришествия. Глубоко мистическая религиозная
парабола, книга Соловьева в то же время — резкая
критика современности и оригинальнейшая антиутопия, в
которой предсказана, между прочим, будущая война с
Японией.
После этой войны, после революции 1905 года апокалиптические
настроения еще более усиливаются.
Это была идеальная атмосфера для фантастической литературы.
Идеальные для нее условия создала теория символизма,
считавшая окружающий мир отблеском высшей
реальности. Символисты пытались проникнуть в нее силой
поэтического прозрения. Фантастические видения населяют
их стихи. Насквозь фантастичен театр Сологуба, Андреева,
Блока. Фантастическое преломление действительности составляет
главную пружину символистской прозы Сологуба,
Гиппиус, Брюсова, Белого, Ремизова, Андреева, Амфитеатрова
и др. Дух фантастики навещает даже писателей,
противостоящих символизму, таких как Бунин и Куприн.
За исключением нескольких произведений, шедевров
русской прозы — ’’Мелкого беса” Сологуба, ’’Серебряного
голубя” и ’’Петербурга” Белого, ’’Огненного ангела” Брюсова,
— богатейшая фантастическая литература тех лет,
сказочная, магическая, дьявольская, аллегорическая, мистическая
фантастика символизма почти совсем еще не описана
и не изучена как целое. Но у нас — другая тема.
Возвращаясь же к ней, мы наблюдаем все то же явление.
Развивается символизм с его фантастическим восприятием
мира — и как раз в это время, начиная с 90-х гг., сначала
несмело, а потом все более уверенно поднимает голову
НФ.
39
Совсем не случайным, а глубоко симптоматичным нужно
считать тот факт, что Случевский, предтеча символизма,
певец потустороннего мира в ’’страшных” фантастических
стихах (’’После казни в Женеве”, ’’Камаринская”) , не только
придумал своего ’’профессора бессмертия”, но и написал
забавное продолжение жюльверновского романа — ’’Капитан
Немо в России” (1898).
Верн вообще становится очень популярным. Но не только
он: журналы для массового чтения ’’Нива” , ’’Вокруг света”,
’’Природа и люди” все более регулярно публикуют переводы
западной НФ. Все чаще печатаются научно-фантастические
произведения русских авторов. Циолковский начинает популяризовать
свои идеи в полуочерковых ”На Луне” (1893)
и ’’Грезы о земле и небе” (1895), появляются ’’электрические”
и ’’астрономические” повести — ”В океане звезд”
(1892) А. Лякидэ, ”Не быль, но и не выдумка” (1895)
В. Чиколева, ”По волнам эфира” (1913) В. Красногорского.
Выходят в свет книги о будущем: ”В мире будущего”
(1892) Н. Шелонского, ”3а приподнятой завесой” (1900)
А. Красницкого, ’’Через полвека” (1902) С. Шарапова.
Есть и ’’военная” НФ — ’’Роковая война 18?.? года” (1889)
А. Беломора, ’’Сражение 2000-го года” (1898) А. Борума
ит. д.
В большинстве своем произведения эти не ставят перед
собой ни философских, ни художественных задач, сосредоточиваясь
на популяризации науки и на попытках прогнозирования.
Гораздо выше них в литературном отношении
стоит ”Жидкое солнце” (1912) А. Куприна — очень хороший
пример катастрофической НФ, повесть о гениальном
ученом, нашедшем решение всех энергетических проблем
человечества. Он изобретает способ концентрации и хранения
солнечной энергии; однако, случайная техническая
ошибка ведет к колоссальному взрыву и гибели и изобретения,
и изобретателя. Та же проблема великого научного
открытия, призванного осчастливить мир и вышедшего
из-под контроля, превращаясь в страшную угрозу, определяет
сюжет повести А. Оссендовского ’’Бриг ’Ужас’ ” (1913)
40
- речь в ней идет о чудотворной для земледелия плесени,
выведенной русскими учеными; этой плесенью заражает
океан ненавидящий человечество сумасшедший ученый,
русский ”Мэд Сайентист” , типичный для начала века образ.
Научно-фантастические приемы и идеи встречаются в
самых безудержных символистских фантазиях. В. Крыжа-
новская-Рочестер пишет цикл оккультных романов (из них
ближе всего к НФ ’’Смерть планеты” , 1911), преподнося
читателям винегрет, в котором в разных пропорциях смешались
мифы об атлантах и черная магия, фантастические
машины, космические перелеты и гибнущие планеты. Героем
тетралогии ’’Навьи чары” (1913—16) Ф. Сологуб делает
ученого физика, разгадавшего все тайны материи. В
этой очень странной, не совсем удачной, но интересной по
форме и ценившейся современниками книге, где сталкиваются
разные жанры и разные стили, говорится о трансформации
энергии, об изменении свойств материи, о параллельных
мирах, о телепатии.
Среди символистов больше всех интересовался научной
фантастикой В. Брюсов. Он писал стихи о космосе, о жизни
на других планетах, в его архиве сохранились произведения
и наброски об инопланетянах, прилетевших на Землю (’’Гора
Звезды” , датированная 1895—1899), о полной автоматизации
и машинизации жизни (’’Восстание машин” и ’’Бунт
машин” , 1908, 1915). Брюсов был, пожалуй, первым в русской
литературе теоретиком НФ. В неопубликованной
статье он начерно делает ее классификацию: писатель-фантаст
может ” 1) изобразить иной мир — не тот, где мы живем.
2) Ввести в наш мир существа иного мира. 3) Изменить
условия нашего мира” 15. Кстати, можно отметить, что
советские исследователи, расхваливая Брюсова как классика
русской НФ, избегают говорить о его теософских
увлечениях; он упражнялся в научной фантастике, отдыхая
от столоверчения и работы над чистейшей воды мистической
фантастикой (замечательный роман о средневековых
алхимиках ’’Огненный ангел” написан в 1907 г. ). Напечатан -
41
на я ’’научно-фантастическая” проза Брюсова катастрофична:
’’Земля” (1904) рассказывает о конце человечества,
загнанного в подземный город, единственное убежище на
лишившейся воздуха планете; ’’Республика Южного Креста”
(1905) — это история гибели выстроенного в Антарктиде
мегалополиса - символа городской индустриальной
цивилизации, — обитатели которого истребляют друг друга,
пораженные эпидемией умопомрачения. Эти рассказы Брюсова
— аллегории, в них действуют абстрактные понятия и
социальные категории, но нет ни реальных персонажей, ни
реального фона. Точно так же писали свои антиутопии Херасков
и Одоевский.
Обновление канона намечается в повестях Оссендовско-
го и Куприна, а еще отчетливее — в романе А. Морского
’’Анархисты будущего” (1907), где действие происходит в
Москве через 20 лет, все улицы сохраняют свои названия,
публика ходит в театр смотреть последнюю пьесу Леонида
Андреева, но анархисты борются за власть, полиция знает
о действиях всех граждан благодаря спрятанным повсюду
подслушивающим аппаратам и гражданская война ведется
с помощью боевых цеппелинов. Книга Морского, по-видимому,
первая антиутопия, пытающаяся предугадать последствия
прихода к власти реальной политической партии.
Катастрофизм, характерный для всех литератур первой
четверти века, не убивал надежды на прекрасное будущее.
Скорее, наоборот. Чем страшнее ужасы Апокалипсиса, тем
прекраснее Миллениум, сулящий отдохновение и вечное
счастье, — за это счастье и нужно сначала заплатить сполна.
Короче говоря, утопии Беллами, Морриса, Уэллса популярны
в России не меньше романов-катастроф. На страницах
самых пессимистических писателей, у Брюсова, Куприна,
даже Сологуба появляются картины свободного, справедливого
и прекрасного будущего, красота которых, впрочем,
слегка тронута декадентством, как и пристало в эпоху символизма.
Буколическую утопию написал Н. Олигер, очень плодовитый
и когда-то пользовавшийся успехом, близкий к сим-
42
волистам писатель. В его ’’Празднике весны” (1910) жители
будущего, одетые в римские тоги, водят хороводы, слушают
прекрасную музыку, занимаются искусствами. Наука, техника,
промышленность достигли большого развития, но
трактуются наподобие изящных ремесел (совсем как у
Морриса). В обществе нет ни социального неравенства, ни
расовых различий, все наслаждаются счастьем и свободной
любовью, а если страдают, то лишь из-за неразделенных
чувств или из-за художественных или научных неудач.
Полного счастья добились жители будущего в книге
К. Мережковского, видного биолога, брата поэта-симво-
листа. Книга называется ”Рай земной, или сон в зимнюю
ночь. Сказка-утопия ХХУП-го века”, вышла она по цензурным
соображениям в Берлине, в 1903 году. Книга разделена
на две части. В первой описана утопия и путь к ней, во
второй дана критика умножающего несчастье на Земле
научно-технического и социального прогресса, тут же приводятся
доказательства того, что описанная система — единственная
способная обеспечить людям счастье. За семь
будущих веков человечество сменило все возможные формы
правления и пришло на грань гибели. Спасают его мудрецы,
открывшие, что модель истинного счастья есть только
одна и воплощена она в детях. И вот, с помощью чудесного
препарата ’’стерилизатора” , население Земли сокращается
до двух миллионов, причем исчезают африканские, азиатские
и другие мало ценные расы и народы. Затем, пользуясь
новейшими методами евгеники, мудрецы выводят
новую расу людей. Их умственно-эмоциональное развитие
останавливается на возрасте 8—10-ти лет, физическое же
— в пределах 16—18-ти. Прекрасные юноши и девушки
живут недолго — лет 35, — но не стареют ни на один день и
у них нет никаких проблем. Они не работают (работа и ее
неравное распределение мешают счастью), не занимаются
ни наукой, ни искусством, вся их жизнь проходит в сплошной
игре и любовных удовольствиях, — в постоянном, ничем
не омрачаемом радостном блаженстве. Живут они на лоне
природы, в тропическом поясе, и не нуждаются в технике.
43
Думают за них мудрецы-воспитатели, а всю работу выполняют
рабы, генетически запрограммированные так, чтобы
не ощущать своего подневольного состояния (это потомки
специально сохраненных остатков африканских племен).
Я остановился на этой утопии потому, что о ней не упоминают
историки жанра, но прежде всего потому, что она уникальна
в своем роде; совершенно противореча своим крайним
гедонизмом и свирепым радикализмом всей русской
традиции, она прямо противоположна линии, представленной
Достоевским и Федоровым. Кроме того, это одно из
самых ранних свидетельств отклика в России на страх перед
генетическим вырождением человечества (отразившийся
в ’’Машине времени” Уэллса) и на искавшие выход
из положения евгенические теории, родившиеся в Англии
и распространившиеся по всей Европе: в СССР в 20-е годы
будут работать два евгенических общества, о государственном
контроле над половой жизнью с целью улучшения
человеческой расы будут писать крупнейшие партийные
деятели (в частности, Преображенский), будут появляться
труды о научном вмешательстве в биологическую структуру
человека с целью создания Нового Человека Коммунизма16.
В результате не манипуляций, а эволюции взаимоотношений
между полами в новом обществе изменяется облик
людей, женщины почти перестают отличаться от мужчин в
’’Красной звезде” (1908), первой в России марксистской
литературной утопии. Книгу эту и ее продолжение, роман
’’Инженер Мэнни” (1913), написал А. Богданов, философ,
революционер, ближайший соратник Ленина в течение нескольких
лет, а потом его главный философский противник,
создатель теории пролетарской культуры (об этом — дальше)
и всеобщей организационной науки ’’тектологии” ,
которая должна была синтетизировать все научные дисциплины,
все известные данные о мире для организации
жизни всего человечества по-новому. Оригинальность Богданова
как философа и писателя крылась в его эклектизме,
умело объединившем несовместимые, казалось бы, влия-
44
ния — Маркса и Ницше, Эрнста Маха и Федорова, символистов
и Ф. У. Тейлора, того самого, который изобрел научную
организацию труда и своими методами дал начало современной
индустрии и массовому производству. В ’’Красной
звезде” изображено коммунистическое общество, построенное
на Марсе, куда прилетает, приглашенный марсианами,
русский революционер. Роман изобилует техническими
подробностями — атомные ’’аэронефы” , телевидение, автоматизация
и т. п. — и, разумеется, социально-политическими
и философскими отступлениями. Когда в 1979 году, ровно
через полвека после последнего своего издания, ’’Красная
звезда” снова увидела свет в СССР, из нее были старательно
вырезаны рассуждения о свободной любви, составляющей
одну из особенностей марсианского общества и горячо обсуждавшейся
в русской революционной среде начала века
— эти дискуссии продлятся до конца 20-х годов. ’’Инженер
Мэнни” повествует об истории Марса и о гигантских работах
по преобразованию всей планеты, предпринятых героем
романа, типом романтического гения-ницшеанца. В этой
книге Богданов гораздо более полно, чем в ’’Красной звезде”
, изложил свои идеи, основы своей ’’тектологии” - и за
это ’’Инженер Мэнни” был осужден Лениным, а значит,
пропал в глазах советских историков.
В том же 1913 году, когда вышел ’’Инженер Мэнни” ,
представляющий тейлоризм революционным средством организации
рабочих масс и их труда (с 1918 года Ленин
будет требовать тейлоризации всей советской промышленности),
появилась повесть А. Оссендовского ’’Грядущая
борьба” , одна из ранних в европейской литературе антиутопий,
направленных против тейлоризма: Уэллс коснулся
этой темы в романе ’’Когда спящий проснется” , но только
много позже тема станет очень важной — особенно для немецких
экспрессионистов — пьесы Г. Кайзера, ’’Метропо-
лис” Ф. Ланга — и в Америке — вспомним хотя бы ’’Новые
времена” Чарли Чаплина. Мир, описанный у Оссендовского,
находится в руках промышленных концернов и введенная
ими система ’’рациональной работы” должна превратить
45
рабочих в идеально отлаженные машины: заводы оборудованы
так, что струи расплавленного металла или пара, лезвия,
выскальзывающие из стен печей, немедленно карают рабочих
за каждое неточное движение. Повесть Оссендовского
интересна еще и тем, что в ней дана новая в русской НФ
сюжетная схема: сначала в ключе антиутопии описывается
будущее общество, затем — заговор против тирании, переворот
и рождение Земли Побеждающей Мысли. В одном
сюжете объединяются антиутопия, утопия и приключенческий
роман. НФ непрерывно обогащает свои литературные
средства.
Здесь место сказать об утопии, в которой литературные
средства служат не рассказу о будущем, а непосредственному
построению его, вернее, сами служат материалом для
постройки будущего.
Большие течения в литературе и искусстве движутся
стремлением познать и описать мир во всей сложности — и
тем самым овладеть им, пересоздать его. Это верно для
классицизма, романтизма, символизма и так же верно для
футуризма. Все крупные участники этого движения — поэты
и художники, Ларионов и Бурлюк, Малевич и Крученых,
Татлин и Маяковский — стремились разрушить старый мир
искусства для того, чтобы создать новый, — и через искусство
— новый мир вообще. В поэмах, прозаических фрагментах
и статьях (в основном 1913—1916 годы) В. Хлебников,
великий поэт и будущий Председатель земного шара,
планеты изобретателей, строит одну из самых монументальных
и оригинальных утопий в русской — и не только русской
— литературе. Математик по образованию, Хлебников
ищет алгебраические формулы хода истории — и предсказывает
революцию и свержение царизма. Слова и звуки раскрывают
Хлебникову скрытую в них запись космических
законов — его ’’заумь” была обновлением поэтического
языка и вместе с тем — расшифровкой мира и первой стадией
на пути к универсальному языку, понятному не только
всем землянам, но и всем разумным существам вселенной.
В поэзии Хлебникова сходятся русское средневековье,
46
XVIII век Тредьяковского, XX век теории относительности,
Восток встречается с Западом, — поэзия завоевьюает пространство
и время, - и по разным эпохам и мирам путешествуют
герои хлебниковской прозы.
В мечтах Хлебникова люди делят Землю с животными,
обладающими почти человеческим разумом. Дома похожи
на стеклянные тополя. Пруды, наполненные съедобной
микрофауной, являют собой гигантские котлы даровых
щей. Радио (неотъемлемый атрибут всех утопий тех лет)
обеспечивает беспрестанную связь между людьми. Оценивать
труд нужно не деньгами, а ударами сердца — в этом требовании
лучше всего улавливается дух утопии Хлебникова.
Эта утопия подводит поэтический итог восьми векам
почти никогда не прерьюавшейся утопико-фантастической
линии в русской литературе, от легенд об Индии и граде-
Китеже до Федорова и Циолковского.
Итак, наш обзор окончен: мы стоим на пороге советской
эпохи. Мы видим, что к этому времени научная фантастика
отработала почти все жанровые схемы, сформулировала
почти все главные темы, подготовила запас приемов, изобретений
и технических новинок, которого хватает по сей
день. Мощный утопический ствол сохранил всю свою жизненную
силу и уже дал много побегов — много разновидностей
НФ. Долгой и плодотворной, очень глубокой по
своему социально-философскому содержанию традицией
сильна антиутопия. Советская НФ — не вундеркинд, не
помнящий родства, как часто говорят, а очень богатая
наследница.
Позволю себе сделать на основе всего сказанного несколько
обобщений.
Во-первых, вопреки общепринятому мнению и вопреки
утверждениям советских теоретиков, настоящая НФ не
боится ни мистики, ни метафизики, ни конкуренции ’’чистой”
фантастики. Как раз наоборот. Она плохо себя чувствует
в атмосфере сухого рационализма: в эпоху классицизма
или позитивизма 1860—70-х гг. она замирает или вы-
47
полняет третьестепенную роль служанки при утопическом
трактате. Для того, чтобы НФ была жизнеспособной, ей нужен
не плоский, упрощенный образ легко понятной вселенной,
а сознание сложности мира, его необъятности, может
быть, его непознаваемости. Только тогда игра возможными
и невозможными вариантами приобретает глубокий смысл
творческого познания, только тогда НФ получает шанс на
художественность.
Во-вторых, периоды бурного развития НФ — и фантастики
— приходятся на те моменты в истории литературы,
когда ломаются установленные каноны и интенсивно ищутся
новые формы. Фантастика и НФ в русской литературе
издавна были одним из средств ее обновления.
В-третьих, наконец, можно заметить, что обращение русской
литературы к фантастике, к рациональной утопии, к
научной фантастике обычно стимулируется влияниями извне:
так было и в период классицизма, и в романтизме,
и в символизме. Но это не обезьянья черта. Просто НФ —
как и вся литература — задыхается в изоляции. Для своего
развития она нуждается в свежем воздухе.
Ураган революции, душивший одних, для других нес с
собой много свежего воздуха.
48
Глава 2
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ
”Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее:
ее прошлое” , — написал в 1921 году Е. Замятин. Спустя
два года ясным казалось, как безнадежно он ошибся: русская
проза переживала небывалое возрождение. Слова Замятина
часто и охотно приводились в то время как пример
куриной слепоты даровитого, но — по мнению, например,
Троцкого — неглубокого писателя, типичного буржуазного
мечтателя, бывшего показного еретика, насмерть напуганного
великой ересью строящегося коммунизма. Но прошло
еще десять лет и оказалось, что прав был Замятин. Сегодня
его статьи, а особенно его роман ”Мы” кажутся сверхъестественным
прозрением.
Замятин, однако, не был мистиком-провидцем в духе
Мережковского.
49
Его знаменитый роман, история гражданина нумера, которого
запрещенная любовь толкнула на бунт против интегрального
Единого Государства, появился не в результате
наития свыше — его зародыш можно найти в ’’Сказках о
Фите”, написанных еще в 1917—18 гг. Вопреки тому, что
пытались и пытаются доказать критики Замятина, выдумал
он в своей антиутопии совсем мало. Напротив, он необычайно
скрупулезно суммировал и анализировал то, что происходило
вокруг него.
Оставим в стороне сравнение замятинской картины будущего
с социально-политической реальностью послереволюционных
лет1. Обратимся к литературному явлению, полемикой
с которым определялся важный аспект книги Замятина.
Статья ”Я боюсь” была направлена против ’’юрких людей”
в литературе. В ней говорилось и о ’’честных паровозах”
, пролетарских писателях и поэтах, у которых ’’революционнейшее
содержание и реакционнейшая форма”2. Роман
”Мы” , написанный в 1920 году, посвящен, между прочим,
раскрытию этого ’’революционнейшего содержания” .
В 1918 году петроградский Пролеткульт выпустил в свет
первую книгу, и начался период бури и натиска пролетарской
литературы.
Пролетарских поэтов объединяли происхождение, темы,
литературные традиции. И прежде всего их связывало общее
мировоззрение. В его основе лежали идеи А. Богданова,
создателя теории пролетарской культуры. Автор утопических
романов, Богданов был настоящим утопистом и
в научной своей теории, и в литературе, и в жизни. Врач по
образованию, несомненно вдохновленный идеями Федорова,
он мечтал о всемирном обмене кровью, чтобы породнить
человечество в одну семью, победить болезни и старость.
Опыты по переливанию крови он делал на себе и один из
них закончился его смертью в 1928 г.
Свойственный Богданову утопический взгляд на мир — не
это ли так раздражало реалиста Ленина? — был близок
большинству пролетарских поэтов. Все они, по словам
50
В. Кириллова, слышали ’’песни золотых грядущих дней в
шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней” .
Они видели: на Землю сошел Железный Мессия, Пролетариат,
— он поглотит все человечество, и это человечество,
не люди, а массы, ”Мы” из стихов Кириллова, Герасимова,
Филипченко, Александровского, Малашкина, объединясь с
Машиной, пророет Землю до самого сердца, перемешает
орбиты планет, погасит старые и зажжет новые солнца.
Все главные черты пролетарской поэзии эпохи Пролеткульта
и ’’Кузницы” — обожествление труда, коллектива и
завода-машины в паре с космическим размахом — сгустились
до предела в творчестве автора самой первой книги,
изданной Пролеткультом, Алексея Гастева.
Гастев, профессиональный революционер и профсоюзный
деятель, рабочий-металлургист, писать начал уже в
1904 г., участвовал в богдановской ’’Лиге пролетарской
культуры” в 1911-12 гг., печатался до революции, но в
начале 20-х гг. оставил литературу и ушел в организационную
работу. Он заведовал ЦИТом (Центральным институтом
труда), был главным автором программы ’’Лиги времени”
и играл очень заметную роль в жизни тех лет. Его сборник
’’Поэзия рабочего удара” за 8 лет выдержал шесть изданий
и был с энтузиазмом встречен такими поэтами, как
Хлебников и Асеев.
Как все пролетарские поэты, Гастев верил в Пролетариат
и в Машину. Но он серьезнее и конкретнее других думал
о будущем. Еще в 1916 г. он напечатал ’’Экспресс”,
научно-фантастический очерк о преобразовании Сибири.
Эту Сибирь покрывают города и промышленные стройки,
бывшие крестьяне живут в тысячеверстных хуторах, на
полях работают машины — ’’стальные чудовища” . Без машин
и заводов Гастев не представлял себе будущего. Но он не
собирался подчинить человека машине. Ему казалось, что
достаточно правильно определить отношения между человеком
и машиной, и утопия получит реальные средства к ее
осуществлению. Сила пролетариата, думал Гастев, в его
страсти к машине. Чтобы совладать с ней, человек должен
51
ей уподобиться, перенять от нее мощь, ритм, точность. Чтобы
превратить обыкновенных людей в людей будущего, их
надо ’’инженерить” : ’’Загнать им геометрию в шею. Логарифмы
им в жесты” . В своих статьях Гастев писал, что только
три закона открывают бесконечные перспективы — азбука
машины, шаблон, направляющая и водитель; эти законы
Гастев хочет применить, пользуясь теорией Богданова
и практикой Тейлора, ни больше ни меньше, как для биологического
реформирования человека. Новая наука, биоэнергетика,
должна стереть грань между человеком и машиной.
Среди трех слов азбуки машины есть слово ’’шаблон” .
Машины, выполняющие одинаковую работу, одинаковы.
Гастев не боялся делать крайних выводов. И если коллективизм
был базой богдановской теории и варьировался всеми
деятелями Пролеткульта, то свою предельную форму он
нашел у Гастева, который описывал пролетариат как гигантский
социальный автомат с нормализованной психологией,
лишенной эмоций и возможности индивидуального
мышления до такой степени, что компоненты автомата —
пролетарские единицы — могли обозначаться буквами и
цифрами вместо имен. В будущее зашагает армия челове-
ко-машин: ’’Сорок тысяч в шеренгу /.../ Проверка линии
— залп. Выстрел вдоль линии. Снарядополет — десять миллиметров
от лбов. Тридцать лбов слизано — люди в брак”3.
Эта цитата взята из ’’Слова под прессом” , последней литературной
вещи Гастева, свода приказов по армии будущего
человечества, ’’пачки ордеров” — утопии единственной в
своем роде, и по форме, и по содержанию, в мировой литературе.
В ней на четырех страницах дана сжатая до плотности
протоатома модель мира, проинтегрированного в каждом
своем проявлении, образ Земли — космического корабля,
где из безликих толп складываются стройные схемы компьютеров,
переговаривающихся между собой на математическом
языке. Очень многое в ”Мы” Замятина сказано в
ответ идеям и призывам Гастева. ’’Слово под прессом” ,
написанное практически в одно время с романом о Едином
52
Государстве, следовало бы печатать как его предисловие
(вместе с цитатами из статей Ленина 1918—20 гг.) .
Роль пролетарской утопии не ограничивается тем, что
она была одним из источников лучшего — как считает знаменитая
американская писательница Урсула Ле Гуин — из
всех когда-либо написанных научно-фантастических романов.
Значение пролетарской утопии в жизни 20-х гг. огромно
и только еще начинает изучаться. Печатью пролеткультизма
более или менее глубоко отмечены почти все течения в
послереволюционном искусстве, почти весь авангард и
прежде всего, его самый активный поток — конструктивисты
и производственники. ЛЕФ и Новый ЛЕФ в литературе;
Вертов, Эйзенштейн в кинематографе; Мейерхольд,
Радлов, Дикий в театре; Татлин, Родченко, Степанова, Веснины,
Гинзбург в живописи, дизайне, скульптуре, архитектуре;
Брик, Ган, Арватов, Третьяков, Чужак в теории
искусства и литературы, и многие другие, борясь с формальным
традиционализмом Пролеткульта, принимали его главные
положения о месте художника в обществе, о необходимости
коллективного творчества, об искусстве как
средстве организации жизни и создания Нового Человека
и новой, идеальной среды для него. Вирусом пролеткультизма
заразились даже такие ярые индивидуалисты, как
Маяковский и Малевич. Авангард строил свои утопии, и
они не противоречили, а дополняли утопию Пролеткульта,
застраивали ее конкретными, материальными формами.
Настоящим врагом мечты об Электрическом Человеке
и о геометризованном, тейлоризованном, механизированном
мире была утопия крестьянская.
В машинном прогрессе крестьянам чудился ’’железный
гость” (С. Есенин); сверкающие чудо-города были для
них ’’Вашингтонами, смертоносным железным краем”
(Н. Клюев). Революция видится крестьянам как ’’холопский
Рассвет” (А. Ширяевец) , они совершили ее и не собирались
отдавать ее плоды чужим. Пролетариат угрожал тупой
и покорной деревне: ”Мы брызнем динамитом на тихие
поля” (М. Герасимов), и убеждал самого себя: ”Ты в союзе
53
с паром, сталью и огнем овладеешь шаровидным кораблем”
(И. Садофьев). Крестьяне отвечали свое: ”Мы верим:
Вселенную сдвинем! Уж мчится сквозь бурю и гром в распахнутой
настежь ряднине Микула на шаре земном” (П. Орешин)
.
Крестьяне нашли Китеж-град, Инонию, и хотели устроить
коммуну с лежанкой, Ржаной Всесветный Исполком.
Мысли, рассыпанные в книгах Клюева, Клычкова, Есенина,
Орешина, подкрепил экономической теорией известный
ученый и малоизвестный автор фантастических ’’гофма-
нианских” повестей А. Чаянов, написавший в 1920 г. ’’Путешествие
моего брата Алексея в страну крестьянской утопии”
. В этой книге — действие ее происходит в 1984 г. —
декретом крестьянского совнаркома в 1934 г. разрушаются
города, в ней рассказано о стране, где можно прожить годы,
”и ни разу не вспомнить, что существует государство, как
принудительная власть” , о Москве, в которой стоит гигантский
памятник: дружески обнявшиеся Ленин, Керенский и
Милюков; ”в сущности, — говорит гид коммуниста Алексея
по утопии, — нам были не нужны какие-либо новые
начала, наша задача состояла в утверждении старых вековых
начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства”
4. Русь живет в сарафанах и косоворотках среди
ржаных полей, управляя климатом и наслаждаясь искусствами
под звуки национального гимна — ’’Прометея”
Скрябина.
Эта полуанархическая, индивидуалистская и традиционалистская
утопия, очень напоминающая идеальное общество
У. Морриса, во всем противоположна утопии Гастева. Книга
Чаянова — одна из самых запрещенных и ненавидимых в
Советском Союзе — отнюдь не контрреволюционная книга.
Главной трагедией русской революции было то, что в ней
столкнулись разные революционные утопии, и бескровная
война утопий обернулась войной реальных миров — города
и деревни.
Война кончалась в том самом 1932 году, в котором, по
мечте Чаянова, ВЦИКом и съездами должно было овладеть
54
крестьянское большинство, в действительности же крестьянский
класс в России был уже разгромлен. Но победивший
город, конечно, не был пролетарским. В нем правили, по
выражению Андрея Платонова, ’’заместители пролетариев”
— бюрократы.
Превращение не пришло неожиданно. В ’’Слове под
прессом” тоже уже нет пролетариата: он замещен механизированным
экипажем мирового корабля. Корабли не плавают
без капитанов и рулевых, Гастев же отнюдь не думал отдавать
капитанский мостик русскому пролетариату, выросшему
в стране с отсталой ’’кацапской” индустрией, занимающемуся
всеобщим саботажем, едва лишь ему освободили
руки5. Гастев мечтал об истинном, Новом Пролетарии,
создать которого может лишь мощная индустрия под контролем
не менее мощного организационного аппарата. Совершенно
того же мнения был в 1918—20 гг. Ленин, призывавший
строить государственный капитализм — преддверие
социализма, — требовавший повсеместного введения тейло-
ристских методов, настаивавший ”на принципах твердой
трудовой дисциплины, в рамках строгой организации, при
условии правильного контроля и учета”6.
Прозорливость Замятина заключалась в том, что он одним
из первых разглядел процесс растворения революционнейшего
содержания пролетарской утопии в реакционнейшей
форме утопии государственно-бюрократической.
Хулио Хуренито, великий провокатор из первого романа
И. Эренбурга, упрекал коммунистов в том, что они украшают
палки фиал очками, и требовал ’’приучить человека
настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными
объятиями матери” , а для этого нужно ’’создать новый
пафос для нового рабства”7. Гастев вместе с другими пролетарскими
поэтами начал создавать этот ’’новый пафос” .
Значение же его творчества в том, что он никогда не украшал
палок фиалками, по откровенности и смелости мысли
с ним не мог сравниться никто.
’’Поэзия рабочего удара” составила — как исходная и в
то же время конечная точка пролетарской утопии — один
55
полюс в литературной жизни 1917—20 гг. Книга Чаянова
стояла на другом полюсе.
Советская литература начиналась между этими полюсами.
Смыслом ее существования надолго останется утопия.
В 1923 г. один из ведущих пролетарских писателей и теоретиков
Ю. Либединский, составляя циклы тем для новой
литературы, наряду с ’’социалистическим утопическим романом”
, дал одно из первых мест ’’революционно-драматической
утопии (примерное изображение близкой революции
в Германии, или далекой в Америке) ”8.
Начало жанру ’’революционной утопии” положили сатирические
романы И. Эренбурга ’’Хулио Хуренито” (1921) и
’’Трест Д. Е.” (1923), и научно-фантастический роман А. Толстого
’’Аэлита” (1922).
Эренбург дал образец того, что можно было бы назвать
эпическим памфлетом. В его книгах выступают гротескные
капиталисты в цилиндрах, жирные рантье-обжоры, гениальные
авантюристы; действие романов разворачивается по
всему миру — от Америки до Африки, от Италии до России;
поступки героев приводят к катастрофам устрашающих
размеров; в ’’Тресте Д. Е.” описана апокалипсическая
картина разрушения и гибели всей Европы. От романов
Эренбурга в советской литературе до наших дней остался
образ развратного и кровожадного западного мира.
Всем известная ’’Аэлита” — роман-мозаика, составленный
из кусочков, заимствованных от всех понемногу: от Уэллса
и Д. Лондона, Берроуза и Жулавского, Шпенглера, Рудольфа
Штейнера и Брюсова. В мистико-мелодраматическом тумане
бродит единственный реальный персонаж - Гусев, одной
рукой выменивающий безделушки у ’’туземцев” — эти эпизоды
исчезают из позднейших изданий, — другой делающий
революцию. Никакого революционного марксизма в романе
нет и в помине, зато есть много выпадов против Запада и
есть антисемитские намеки9. Несмотря на все это, или благодаря
этому, ’’Аэлита” получила официальное звание первого
шедевра советской НФ.
56
Впрочем, влияние она имела. Если Эренбург ввел в советскую
прозу тему разлагающегося Запада и форму газетного
памфлета, то Толстой показал, как стряпать приключенческие
романы из самых, казалось бы, невероятных
ингредиентов, маскируясь темой мировой и даже межпланетной
революции.
В то время была модной ’’остросюжетная” литература.
’’Серапионовы братья” объявили мастерство сюжета первой
целью писателя и призывали учиться на западных образцах.
Сами ’’серапионы” не писали ’’революционных утопий” в
прямом смысле слова, но у Лунца есть несколько очень
интересных антиутопических пьес, у Каверина несколько
фантасмагорических рассказов, которые условно можно
причислить к НФ. Их манера письма — сложное построение,
быстрота фразы, сведение описания к символическому
знаку — и их ’’западническая” теория как нельзя лучше
дополняли импортные идеи и стиль Эренбурга и Толстого,
помогая формироваться новому жанру.
К тому же примеров для подражания было в годы нэпа
предостаточно. Частные издательства выбрасывали на рынок
бесчисленные переводы авантюрных, детективных, колониальных,
фантастических романов. Одних переводов научной
фантастики — не считая Жюля Верна и Уэллса, переводившихся
издавна — за период 1923—1930 гг. было более
сотни10. Интерес к ’’сюжетности” и к тому, что мы сегодня
называем ’’массовыми жанрами” , усиливался еще и благодаря
всеобщему увлечению кинематографом, новым искусством,
эстетика которого должна была революционизировать
литературу.
В 1923 г. С. Бобров, поэт, близкий к футуристам, основатель
кружка и издательства ’’Центрифуга” , уже автор
одного фантастико-гротескного романа ’’Восстание мизантропов”
(1921), пишет ’’Спецификацию идитола” — как
указано в подзаголовке, ’’прозроман ускоренного типа” .
Роман рассказывал историю чудесного вещества идитола,
за обладание которым борются международные тресты и
гангстерские организации. В серии коротких, почти не свя-
57
занных между собой сцен персонажи без лиц, лишь изредка
обозначенные именами, похожими на псевдонимы, грабили,
убивали, похищали друг друга, устраивали биржевые махинации,
войны в Южной Америке и международные забастовки.
Ускоренность повествования была такова, что автор счел
нужным разъяснить сюжет в прологе.
В следующем году выходит ”Месс-Менд” М. Шагинян,
книга, пользовавшаяся огромным успехом — по ней был
поставлен популярный фильм, — полная тайн, ужасов,
убийств, сыщиков и злодеев, в каждой главе появляющихся
в ином облике.
Так в течение нескольких лет сложились схемы и разновидности
курьезного гибридного жанра, иногда называвшегося
— словечко, как кажется, первым обронил Бухарин
— ’’красный Пинкертон” . Революционная утопия стала
его основным элементом и идеологическим алиби.
Наиболее распространенной схемой был так называемый
’’роман о катастрофе” , восходящий к романам Уэллса,
Фламмариона и Д. Лондона, к символистам, немецким
экспрессионистам и к ’’Тресту Д. Е.” Эренбурга (замечу,
что катастрофизм окрашивает всю западную литературу).
Химически чистый пример советского ’’романа о катастрофе”
— ’’Бунт атомов” В. Орловского, написанный в
1928 г.
Немецкий ученый Флиднер, открыв тайну распада атомов,
вызывает цепную реакцию, которой никто не в силах
остановить. Шар распадающегося вещества непрерывно
растет, путешествует по Европе, угрожая сжечь всю земную
атмосферу. Человечество на краю гибели, капиталистический
мир в ужасе, в СССР весь народ принимается искать
выход из положения. Западные правительства падают в результате
рабочих волнений, революция охватьюает сначала
Германию, потом Польшу, Францию, Италию. Советские
ученые решают проблему: шар загоняется в электромагнитную
ловушку и выстреливается за пределы атмосферы.
Международный конгресс физиков, боровшихся с катастрофой,
дополненный другими специалистами, превращается
58
в совет, организующий жизнь Союза свободных народов.
В книге есть все: страшные разрушения, сцены массового
психоза в столицах Запада и невозмутимых заседаний Академии
Наук в Москве, карикатуры немецких реваншистов
и мужественный герой — советский инженер Дерюгин, есть
и мелодраматическая линия: несчастная любовь Дерюгина
к дочери Флиднера.
Такие романы печатались в 20-е гг. один за другим. Принцип
построения почти не менялся: изобретение, вокруг
которого ведется титаническая борьба, кризис, поражение
капиталистов и в итоге — всемирная революция. Схема
могла сокращаться, изобретение могло заменяться событием,
вызывающим кризис со всеми его последствиями,
но характерные признаки жанра оставались теми же: композиция
с быстрой сменой декораций, действие преимущественно
в западных странах, населенных гротескными типами,
катастрофический размах событий, приемы детектива,
романа тайн и мелодрамы.
Любопытную попытку создать сплав детектива, НФ,
утопии и пародии на все три жанра сделал В. Гончаров,
писатель, восполнявший выдумкой недостаток литературного
дарования. В ’’Психомашине” и ’’Межпланетном путешественнике”
(1924) его герои, вооруженные аппаратом,
преобразующим энергию мысли в энергию любого рода,
сражаются с агентами капиталистов, летают на Луну, где
развилась высокая цивилизация, открьюают, что в космосе
существует не одна Земля, а бесконечное их множество —
на разных ступенях развития. Герой пускается странствовать
по Землям со скоростью мысли, встречает самого себя
на Земле, какой она будет через пять лет, узнает историю
мировой революции в разных вариантах, спасает от нашествия
космических чудовищ Землю спустя 500 тысяч лет
и пр. Гончаров мог продолжать свои фантазии бесконечно,
его книги — это советский комикс, где роль Бака Роджерса
играет Андрей-комсомолец, ’’солнцу подобный человек” ,
не знающий поражений.
’’Красным Пинкертоном” увлекались многие; кроме на-
59
званных выше основателей жанра, в нем подвизались самые
известные писатели тех лет: С. Будандев, Вс. Иванов,
В. Шкловский, А. Тарасов-Родионов, В. Катаев, Б. Лавренев,
Г. Алексеев, Б. Ясенский, Н. Карпов, Ф. Богданов. Среди
книг этого рода было достаточно явной халтуры. Но жанр
использовался и в серьезных целях. Бобров пытался применить
к роману принцип киномонтажа, показывая сюжет без
сквозного героя глазами многочисленных случайных персонажей.
Шагинян исследовала возможности сюжетных вариаций,
проистекающих из одного ’’трюка” . В. Шкловский и
Вс. Иванов заполнили шаблонный каркас ’’Иперита” (1925)
фактографическим материалом. Короче говоря, ’’красный
Пинкертон” служил как бы экспериментальным полигоном,
где испытывались новые литературные приемы.
Утопический роман так тесно примыкал к ’’Пинкертону” ,
что переход от одного жанра к другому нередко осуществлялся
в рамках одного произведения: к революционноприключенческой
части присоединялась часть утопическая
(мы нашли этот принцип уже у Оссендовского). Поэтическую
реализацию такой двуединой схемы дал Маяковский
в ’’Летающем пролетарии” (1925). Развернутые эпизоды
войны с миром капитала контрастируют с главами, посвященными
описанию коммунистического общества, в романах
’’Гибель Британии” (1925—26) С. Григорьева и ’’Следующий
мир” (1930) Э. Зеликовича. Начав с типичного
’’пинкертона” о крахе мультимиллионера, возмечтавшего
захватить мир (’’Завтрашний день” , 1923, из которого многое
взял А. Толстой для своего ’’Гиперболоида инженера
Гарина”), Я. Окунев пишет ’’Грядущий мир” (1923), где в
первой части герои участвуют в ’’пинкертоновских” приключениях,
а во второй попадают в 2123 год и знакомятся с
коммунистическим обществом. Эта утопия Окунева, кстати,
очень интересна тем, что показывает реализацию самых
радикальных лозунгов послереволюционного периода: Земля
превратилась в Мировой Город, нации и государства не
существуют, исчезла семья и дети принадлежат Всемирной
Коммуне, нет правительства, Статистическое Бюро органи-
60
зует работу армий труда и т. п. Не менее радикальна футуристская
утопия Н. Асеева (цикл рассказов ’’Расстрелянная
Земля” , 1925), в которой революционно-космическому
’’пинкертону” сохраняется место в мире, описанном по
рецептам Гастева, Хлебникова и конструктивистов.
Необходимо серьезно исследовать советские утопии
20-х гг., от первой, экзальтированной, еще насквозь пропитанной
символистским духом ’’Страны Гонгури” (1922, написана
в 1918 г.) В. Итина до суховато-подробной, идеологически
выдержанной ’’Страны счастливых” (1931) Я. Ларри.
Нужно анализировать их, показать, как они изменялись, как
менялась их связь с утопическими картинами, набросанными
в статьях и книгах Ленина, Луначарского, Бухарина,
Преображенского, Коллонтай, Сталина и других более или
менее крупных теоретиков будущего счастья в его официальной
версии. И с другой стороны, нужно показать, как
изменялось отношение к традиции русской утопии. Это
большая, еще никем не проделанная работа, важная и для
историка НФ и утопии, и для тех, кого интересует история
советской литературы и всей культуры. Но здесь для такой
работы нет места.
Подчеркну лишь, что для литературы 20-х гг. утопия
была не просто одним из многих жанров. Утопизмом была
проникнута вся литература, постоянно пишущая о ’’войне
во имя грядущего” , о борьбе нового со старым, о большевиках
в кожаных куртках, заскочивших на тысячу лет вперед.
Утопические эпизоды и картины появляются в поэзии,
прозе, драме, в произведениях на самые современные темы
пролетарских писателей и попутчиков, футуристов и реалистов.
Их можно найти у Маяковского и Хлебникова,
Сельвинского и Луговского, Тарасова-Родионова и Аро-
сева, Платонова и А. Толстого (не только в ’’Аэлите” или
’’Гиперболоиде” , но и в ’’Голубых городах”) .
Там, где есть утопия, есть и НФ. Она есть и в ’’пинкертоне”
, и в ’’серьезной” литературе. Впрочем, не только в литературе:
20-е гг. — это время, когда научная фантастика (не
просто фантастика, а именно ’’научная” , рационально обо-
61
снованная) составляет постоянную черту всего искусства,
да и самой жизни. Лучше всего об этом говорят проекты и
реализации той поры: чудесный летательный аппарат Татлина
и его не менее удивительная башня, летающие города
архитектора Г. Крутикова, ’’проуны” Эль Лисицкого и ”ар-
хитектоны” Малевича, ’’космическая” живопись И. Кудряшева
и членов группы ’’Электроорганизм” , ’’биомеханический”
актер Мейерхольда и декорации и костюмы театральных
постановок - все это материализованные иллюстрации
самых смелых мечтаний научной фантастики.
Даже крестьянская Русь думала о новой технике: у Чаянова
описаны некие ’’метеорофоры” , которые служат управлению
климатом, но могут применяться и в военных целях,
создавая непроходимые барьеры.
Тем более пролетарская утопия не могла обойтись без
технических предвидений. Гастев писал о туннелях между
Европой и Америкой, об освоении полярных областей, о
гигантских индустриальных комплексах, о подводных и
подземных городах, о переделке континентов, о сообщении
между планетами, об изменении человеком космических
законов. У Гастева большинство этих образов ощущалось
как поэтические метафоры, но они остались в литературе,
были освоены советской НФ и многие из них дожили до
наших дней. Главная же тема Гастева — отношения человека
и машины — это одна из основных тем научной фантастики
вообще, а решение этого вопроса Гастевым (отталкивавшимся
от некоторых догадок Богданова) удивительно
современно. Его биоэнергетика, мысли об использовании
азбуки машины для усовершенствования мышления, о возможности
расщепления мышления на параллельные потоки,
о языке, построенном по цифровой системе, — на много
лет опередили кибернетику и дискуссии о киборгах.
Более классические утопии не менее богаты научно-фантастическими
идеями. В ’’Стране Гонгури” В. Итина, например,
обрабатывается теория, популярная в начале века (ее
излагал уже Кущевский), о микрокосмосе, повторяющем
строение макрокосмоса, об атомах - солнечных системах.
62
Я. Ларри в ’’Стране счастливых” говорит о внеземном происхождении
человечества. В. Никольский в книге ’’Через
тысячу лет” (1928) переносит героев в будущее в хрономобиле.
Вообще говоря, трудно найти идею из арсенала НФ, которая
в той или иной форме не встретилась бы в литературе
20-х гг. Микромир и галактические союзы, светопреставления
и безумные ученые, космические чудовища и цивилизации,
достигшие абсолютного могущества, антигравитация
и использование атомной энергии, парадоксы Эйнштейна и
телепатия, анабиоз и передача энергии на расстоянии, путешествия
в будущее и в прошлое, параллельные миры и
обмен сознаниями, пересадка органов и роботы, — все это
и многое другое встречается в утопиях и ’’красных Пинкертонах”,
в космических операх Н. Муханова и Г. Арельского
и в рассказах ’’чистой НФ” А. Беляева, А. Палея, В. Язвицкого,
Н. Железникова, В. Обручева.
Три главные темы явственно проступают на фоне этой
фантастической пестряди: преобразование земной природы
и всей планеты, проблема бессмертия и завоевание космоса.
Темы эти пришли в советскую литературу не с Запада;
они взяли свое начало в системе взглядов философа, с которым
мы уже хорошо знакомы — Николая Федорова.
После революции учение Федорова родило целое течение
последователей. Была даже литературная группа, называвшая
себя ’’Биокосмисты-Имморталисты”, со своим издательством,
напечатавшим по меньшей мере один достойный
внимания научно-фантастический роман — ’’Аргонавтов
вселенной” (1926) А. Ярославского. Философия Общего
дела оказалась очень современной, в ней имелись некоторые
точки соприкосновения с марксистской философией действия
(не толковать, а переделывать мир), но, в отличие от
марксизма, вне общественно-социальной сферы весьма
смутно представляющего себе работу для будущего, федоровский
проект ставил очень конкретные задачи, необъятный
масштаб которых вполне подходил для великой эпохи.
Идеи Федорова сильно отразились и на пролетарской утопии
63
— это он писал о Земле-космическом корабле, о планетах,
управляемых волей человека, — и на утопии крестьянской.
К. Циолковский в 10-е и 20-е гг. трудолюбиво создавал
собственную утопию преобразования природы и человека,
строил планы организации будущих галактических содружеств,
рисовал картины жизни в межзвездных пространствах.
Утопия Циолковского, хорошо известная в среде
Пролеткульта, повлияла на всю советскую НФ, и в первую
очередь на А. Беляева.
Федорова читал Брюсов, продолжавший в 20-е гг. писать
’’научно-фантастическую” поэзию. От Федорова идет вера
Маяковского в возможность воскрешения и смерти. С идеями
Федорова и Циолковского перекликаются мечты Хлебникова
о разумной природе. Под влиянием Федорова, Циолковского
и Хлебникова пришел к своей философской утопии
Н. Заболоцкий, поселивший людей на разных планетах,
и оставивший Землю разумным животным и растениям
(’’Торжество земледелия” , 1933).
Вернейшим последователем Федорова был А. Платонов.
Если нужно было бы обязательно найти истинного отца
советской НФ, парадоксальным образом им оказался бы
христианский философ XIX века.
Научно-фантастические и утопические рассказы Платонова
касаются очень важного аспекта федоровского учения.
Федоров писал, что современная наука должна убить, ’’выделить
из общего хода предмет или вещь, чтобы произвести
над ними свои операции” ; наука современного типа направлена
против природы, смерть же природы повлечет за собой
смерть человечества11. В ’’Эфирном тракте” (1928—30)
Платонова, утопии о технике без машин, о стадах электронов,
которые растут и пасутся, как животные, один из главных
героев — ученый Матиссен, силой мысли ’’насилующий
природу” . Он рассуждает: ’’Сначала уродую, а потом лечу.
А может, лучше не уродовать, тогда и лекарств не нужно
будет”12. И он же говорит о новой власти на земле, не менее
деспотической, чем прежние монархии, — власти ученых.
У познавшего все тайны, переделавшего земной шар инже-
64
нера Вогулова из рассказа ’’Потомки солнца” (1921) из-за
несчастной любви ’’энергия сердца хлынула в мозг... стала
мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот
мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку —
душа другого человека” 13.
Платонов с присущей себе предельной остротой ставит
перед современниками экологическую проблему - и проблему
ответственности ученых за последствия научного
прогресса.
Но только ли научный прогресс, только ли власть ученых
ставится под сомнение?
После революции настоящее исчезло: будущее и прошлое
сошлись в беспощадной борьбе. Но кончилась гражданская
война, пришел нэп, мировая революция задерживалась.
Настоящее вернулось в форме быта, из которого выставляло
ненавистную рожу прошлое. Революционный угар затухал.
Появилось время для размышлений, снова стали мучить
казавшиеся разрешенными вопросы. С ними можно было
бороться, высчитывая точные параметры грядущего счастья;
можно было убегать от них, под революционные фанфары
играя в ’’пинкертоновских” сыщиков и воров; можно было
скрываться в сказочном ’’блистающем мире” , наподобие
созданного воображением А. Грина, или в не менее сказочном
прошлом, наподобие описанного в романах С. Клычко-
ва. И все-таки вопросы оставались. Самые отчаянные утописты
затосковали. Герои гражданской войны, с криком
”3а что боролись?!” , спивались насмерть, как в ’’Воре”
Леонова, совершали преступления, как в ’’Голубых городах”
А. Толстого. Иногда они кончали самоубийством.
Стреляется герой ’’Машины Эмери” (1924), рассказа
М. Слонимского. В предсмертном письме он говорит: ’’Раньше
я сквозь будущее глядел на настоящее, и мне никого и
ничего не было жалко. А теперь я сквозь настоящее гляжу
в будущее и сомневаюсь: правы ли мы? Меня растлил старейший
мотив жизни: жалость” 14.
Жалость становится причиной гибели чекиста Зудина,
героя одной из самых популярных книг середины 20-х гг.,
65
’’Шоколада” (1922) А. Тарасова-Родионова. Любовь ведет
к самоубийству другого чекиста — Николая Курбова из
романа И. Эренбурга (”Жизнь и гибель Николая Курбова” ,
1923). Советская литература встала перед проблемой, уже
продуманной Замятиным, проблемой цены, которую приходится
платить за утопию.
Часть этой цены: отказ от человеческих чувств.
Зудин и Курбов уверены, что так и должно быть: их
монолитность ущерблена, истинный зодчий нового мира не
должен знать слабостей. Друг самоубийцы из ’’Машины
Эмери” , сознавая свою неполноценность, — в нем шевельнулось
чувство к жене, — мечтает, почти буквально повторяя
мысли Гастева: ’’Хорошо бы механизировать в человеке
все, кроме мысли: все чувства, ощущения, желания... Освобожденная
мысль сможет разъять механизированную жизнь,
отделить радость от страдания и уничтожить страдание” 15.
”Я хочу быть машиной” , говорит еще один новый человек,
комсомолец Володя Макаров в ’’Зависти” (1927)
Ю. Олеши, романе, повествующем об истории последнего
’’заговора чувств”, организованного последними мечтателями.
Заговор, в котором большая роль отведена фантастической
машине Офелии, обречен. Но победившие Володи
Макаровы лишены того, что наиболее ценно для писателя
— образного, интуитивного мироощущения.
Олеша боялся, что в организованной по плану жизни не
будет места для обыкновенных, ’’пошлых” чувств. М. Булгаков
почувствовал совсем иную опасность. В никогда не
напечатанной в СССР повести ’’Собачье сердце” (1925) он
показал, как полу-человек, сочетавший в себе пошлейшие
собачьи и человеческие качества, снабженный бумагами и
изучающий переписку Энгельса с Каутским, стал полноправным
членом нового общества. В новом обществе прекрасно
функционируют ’’бывшие” чувства. Нужно лишь дать им
правильное направление. В пьесе ’’Адам и Ева” (1931) Булгаков
рассказывает о тотальной войне между Западом и
Россией — здесь повторен главный конфликт революционной
утопии. Но Булгакова не интересует ход военных собы-
66
тий. Он ищет причины неизбежности столкновения и вину
за страшную катастрофу, за разрушение мира слагает на
капиталистов и на коммунистов в равной мере: обе стороны
разжигают в себе древнейшее чувство — ненависть, одинаково
жаждут полного истребления противника. Еще яснее полемика
с революционной утопией в ’’Роковых яйцах”
(1925) / Здесь вывернута наизнанку ставшая шаблонной
схема: есть чудесное изобретение, лучи, во стократ увеличивающие
рост всего живого (красный луч), есть и война,
вызванная этим изобретением. Разница в том, что война идет
не с полчищами капиталистов, а с гигантскими гадами,
выведенными вследствие бюрократической ошибки советского
учреждения.
Булгаков не атакует, как Замятин, утопический идеал
сам по себе. Он ставит вопросы с другого конца. Какова
ценность великой идеи, если она зиждется на ненависти к
половине рода человеческого? Что получится, если за реализацию
утопии возьмутся полу-люди, дураки и чиновники?
Достаточно ли политического переворота, чтобы изменить
человека? И главное: каков смысл прогресса, идущего
вопреки установленным, живым законам природы и истории?
Начиная с исторической повести ’’Епифанские шлюзы”
(1926) , этот последний вопрос становится центральной
темой творчества другого беспощадного врага бюрократизма
— А. Платонова. И для него, так же, как и для Булгакова,
бюрократизм — лишь одно из проявлений зла, отнюдь не
его главная причина. Герои романа ’’Чевенгур” (1928—29)
— не бюрократы и не дураки, а рабочие с умными руками,
настоящие, а не поддельные революционеры. Они страдали
веками и теперь обрели надежду на лучшую жизнь. Но они
буквально понимают лозунги руководителей революции.
Они торопятся и, пытаясь скорейшим путем достичь цели,
уничтожают все вокруг себя. И когда ’’коммунизм в одном
городе” , наконец, построен, мечта оборачивается жалкой
пародией. И трагедией.
В рассказе ’’Лунная бомба” (1926) изобретатель снаряда
67
для полета в космос, предназначенного осчастливить человечество,
случайно в автомобильной катастрофе убивает ребенка.
Этот образ становится символическим у Платонова.
Умирает единственный ребенок Чевенгура. Умирает девочка,
героиня ’’Котлована” . Ситуация не новая в советской литературе:
дочь героини ’’Цемента” Ф. Гладкова погибает от
отсутствия материнской ласки. Ее мать, активная партийка,
все время отдает работе, в борьбе за будущее она должна
победить личные чувства, ’’переступить через ребенка” ,
как говорит сам Гладков16. Это личная трагедия, но она
необходима, и она сходит на нет в апофеозе пуска завода,
заканчивающем роман. Герои ’’Котлована” после смерти
девочки продолжают работать, но их надежда потеряна навсегда,
они не знают уже, ’’где же теперь будет коммунизм
на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном
впечатлении? Зачем... теперь нужен смысл жизни и
истина всемирного происхождения, если нет маленького
верного человека, в котором истина стала бы радостью и
движением?” 17.
Таковы два встречных течения — утопия и антиутопия,
— постоянно присутствовавшие в ранней советской литературе,
нередко встречавшиеся в творчестве одного и того же
писателя, как у Маяковского, Есенина, Платонова, Заболоцкого.
В печатавшейся литературе преобладала, конечно,
утопия. Однако, в начале 30-х гг. развитию ее — и вместе с
ней развитию НФ — положен конец.
Причиной тому послужило несколько факторов, в конечном
счете сводящихся к одному — преображению советской
России.
Уже во второй половине 20-х гг. родился лозунг ’’Поближе
к жизни” . Началась, между прочим, кампания, пик которой
приходится на 1929—30 гг., против традиционной детской
литературы, против сказок и фантазий, якобы разрывающих
связь между мыслью и действительностью. Удар
части критики направился и против научной фантастики. О
книгах Жюля Верна говорилось, что они ’’размагничивали
68
молодежь, уводили из текущей действительности в новые,
непохожие на окружающее, миры” 18. Защищавший необходимость
фантазии М. Горький пишет в то время статью о
темах для детской литературы. Преобладающее большинство
намеченных им тем относится к горячо пропагандировавшимся
в начале 30-х гг. жанрам производственно-научной
или популярно-научной литературы (образцом такой
литературы был ’’Рассказ о большом плане” М. Ильина).
Что же касается собственно воображения, то Горький предлагает
такую тему: ’’Можно рассказать о превращении картофеля
в каучук и о целом ряде других процессов, особенно
действующих на воображение как на силу, которая способствует
расширению мыслимых пределов возможного”
19. Короче говоря, НФ ставится на службу пропаганды
новейших достижений науки и техники. Об уходе в другие
миры ей запрещено и думать (сказку Горький в той же
статье интерпретирует как ’’прототип” научной гипотезы)
.
В еще большей степени, чем НФ, грешила против текущей
действительности утопия. Это прекрасно понял крупный
государственный деятель и ветеран революции, один из
персонажей ’’Страны счастливых” Ларри, который говорит
главному герою, увлеченному мыслью о полетах в космос:
’’Куда и отчего бежишь ты, человек социалистического общества?”
Мечта о лучшем будущем рождается из недовольства
настоящим. Но повода для недовольства уже не могло быть.
Шел великий перелом, третья революция: индустриализация
и коллективизация. Начало 30-х гг. на долгие годы определило
облик страны.
Задолго до того Н. Бердяев писал, что самый мучительный
вопрос XX века будет состоять не в том, как построить
утопию, а в том, как ее избежать20. В 1936 г. в СССР официально
закончился переход к социализму: утопия стала
действительностью — и действительность уже не нуждалась
в утопии.
’’Большая чистка” обратилась против всех утопистов — и
69
против крестьянских мечтателей, и против пролетарских
космистов, и против художников, надеявшихся, что социальная
революция неотделима от революции в искусстве.
Погиб Гастев, многие пророчества которого стали неотъемлемой
частью ’’текущей действительности” , а ЦИТ, орудие
воспитания грядущего пролетария, был упразднен за ненадобностью.
Погиб В. Итин, автор первой советской утопии,
был отправлен в лагерь автор последней, напечатанной в
1931 г., — Я. Ларри. Внегосударственная, неофициальная
мечта уничтожалась беспощадно и методически.
В последний раз утопия входит в большую литературу
в ’’Дороге на океан” (1936) Л. Леонова. Три главы романа
посвящены будущему. Две из них рассказывают о войнах
между Западом и социалистическими странами, и в описании
ужасов и страшных видов оружия фантазия писателя
неистощима. В третьей главе дан беглый и банальный набросок
счастливого объединенного мира. Леонов очень ловко
создал алиби для своей утопии: его герои не попадают в
другое время и пространство, не видят снов, как того требует
традиция, они — коммунист Курилов, человек — ’’мост,
по которому люди переходят в будущее” , и ’’автор” — в
спорах между собой составляют продолжение земной истории.
Леонов будто бы занят моральными проблемами, он
размышляет, что из настоящего останется в коммунизме,
но в его постановке проблема мнима. Ее нет, ибо перед человечеством
уже нет никакого выбора. Когда ’’автор” ,
интеллигент и собиратель жизненного сора, говорит: ’’Строитель
нашего времени образуется из мечтателя” , Курилов
сурово поправляет: ’’Неверно, литератор... Строитель осуществляет
не мечту, а железную необходимость”21. ’’Дорога
на океан” , роман, в котором будущее, купленное кошмарной
ценой, всего лишь подлакированная необходимость
— похоронный звон по советской утопии.
В одно время с книгой Леонова вышли последние части
’’Брусков” Ф. Панферова. Реалистический роман заканчивался
идиллическими картинами преображенной деревни. Из
литературы была изгнана утопия, ибо вся она стала у топи-
70
ческой. С тем, что традиционная утопия мечтала об идеале,
исходя из критической оценки действительности, советская
же утопическая — соцреалистическая — литература изображает
реальность как воплощенный идеал. Это новый вариант
’’панегирической утопии” ХУП—XVIII вв., вариант, в
котором панегиризма куда больше, чем утопии.
Соцреализм, разрешивший все проблемы, не выносит
фантазии и фантазмов. Писатели, которые думали иначе,
исчезли в годы террора, ушли в подполье или перековались.
Прокричав ”Да здравствует реконструкция человеческого
материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!”
22, задавил в себе пошлые чувства Ю. Олеша. Шагинян,
Эренбург, Катаев, Ясенский производили производственные
романы. А. Толстой творил ’’Петра 1-го” . Почти беспрерывно
велась травля Платонова, Заболоцкого, Булгакова. Их
произведения не печатались; перестали печатать Грина.
Разгром Обэриутов завершил процесс, начавшийся во второй
половине 20-х гг. Фантастическая литература перестает
существовать.
Научная фантастика изгоняется на задворки литературы.
В 30-е гг. по-настоящему родился жанр советской НФ, со
своей определенной функцией, своими шаблонами, собственными
классиками, замкнутой средой писателей и читателей.
НФ стала жанром для детей.
Положение ее, впрочем, и тут было шатким. Делается
все возможное, чтобы лишить ее самого главного свойства
— неподотчетного воображения.
Что может быть более красноречивым, чем цифры? Библиографы
НФ23 насчитывают для периода 1924—1929 в среднем
10 романов и 30—40 рассказов в год. В 1930 г. выходит
еще 8 романов и 13 рассказов. И вдруг: 3 романа и 4 рассказа
в 1931, только 2 рассказа в 1932, только 2 рассказа
в 1933! Ситуация немного поправляется, начиная с 1936 г.,
но если за первое послереволюционное десятилетие количество
повестей и романов, в которых явны признаки НФ,
доходит до сотни, за двадцать лет, с 1930 до 1950 г. число
научно-фантастических произведений еле достигает 80-ти,
71
то есть продукция уменьшается более, чем в два раза (в действительности,
еще больше, ибо для второго периода в общее
число включаются так называемые ’’научно-фантастические
очерки” , то есть научно-популярные произведения).
Еще один фактор — следствие той же первопричины —
играл огромную роль в падении НФ. На ней не мог не отразиться
сокрушительный удар, нанесенный советской науке.
Стерлась разница между научной правдой и мистификацией,
научной экстраполяцией и мистицизмом. Вымысел,
даже научно-технический, требовалось приводить в соответствие
с нуждами идеологического момента. Большинство
научно-фантастических романов 30—40-х гг. обносилось
глухой стеной научных комментариев во избежание возможных
недоразумений. Бывало, что в ’’ученом” предисловии
или послесловии к роману доказывалась бессмысленность
идей этого же романа. Так случилось, например, с ’’Челове-
ком-амфибией” А. Беляева в издании 1938 г. Ликвидация
целых областей науки, как правило, наиболее интересных
с точки зрения прогнозирования — как генетика, молекулярная
биология, структуральная лингвистика, теория относительности,
ядерная физика, социология, психоанализ, —
повела за собой запрет на множество научно-фантастических
тем. Требование близости к жизни и навязанная функция
’’агитации и пропаганды науки и техники”24 еще более
сужали возможности выбора.
Лучше всего проследить эти изменения на примере. Возьмем
творчество крупнейшего советского фантаста — А. Беляева.
А. Беляев, который начал печататься в 1926 г. и умер в
начале 1942 г. в осажденном Ленинграде, был первым писателем,
посвятившим себя всецело научной фантастике. Беляев
— официально признанный классик, о нем написано
много исследований. Его называют ’’русский Жюль Верн” ,
и эта репутация заслужена, по крайней мере, в смысле количественном:
он один создал целую научно-фантастическую
библиотеку. Но большим писателем Беляев не был (хотя
и можно найти у него отдельные хорошие страницы). Может
72
быть, поэтому так отчетлива граница, рассекающая его творчество
на два очень разных периода.
До 1930 г. Беляев опубликовал десять романов и повестей
и начал цикл рассказов об ученом гении, профессоре
Вагнере. Почти все самые популярные вещи писателя
написаны в то время. Беляев раннего периода многое брал
из ’’революционной утопии” и ’’красного Пинкертона” .
Он умело пользовался кинематографической композицией.
Действие его книг происходит на Западе, нарисованном с
помощью памфлетных штампов. Герои каноничны: с одной
стороны прогрессивные ученые в союзе с рабочими, с другой
— капиталисты с диктаторскими замашками. Целиком
сохранена жанровая схема в ’’Борьбе в эфире” (1928), в
’’Продавце воздуха” (1929), в других романах оставлена
центральная коллизия — изобретение и борьба вокруг него.
Авантюрный сюжет у Беляева не властвует безраздельно,
как у многих его коллег по жанру, научно-фантастическая
идея — а Беляев не жаловался на отсутствие идей — доминирует
сюжет. В 20-е гг. такая ’’чистая” НФ была редкостью,
она появлялась по большей части в журналах и довольствовалась
короткой формой рассказа. Начало жанру НФ в
полном смысле слова положил в советской литературе
именно Беляев. Начало это было обещающим — по своей
разносторонности.
Однако, как говорят советские исследователи, ”в 1930 г.
в творчестве Беляева впервые наступает перерыв... Все
сильнее и сильнее привлекает его к себе новая тема — тема
социалистического строительства”25. Иными словами, Беляев
решил заняться отражением действительности. За
исключением рецидива фантастического памфлета в ’’Прыжке
в ничто” (1933) и переделок ранних вещей, новые книги
Беляева рассказывают о достижениях советской науки в
советской стране. Большинство из них рассказывает о
приукрашенном настоящем. Два романа — о недалеком
будущем. Книги эти читать почти невозможно, не будучи
в мальчишеском возрасте. Они составлены из длинных
перечней технических подробностей, из многословных
73
популярных лекций по географии, астрономии, биологии,
перемежающихся шуточными сценками и эпизодами стихийных
неполадок. Фабулы нет; вместо нее дается дневник
путешествия, как в ’’Воздушном корабле” (1934), популяризовавшем
проект Циолковского, или невозможные квипрокво,
как в ’’Звезде КЭЦ” (1936), посвященной тому же
Циолковскому и его идее искусственного спутника. Отказ
от испытанного сюжета был у Беляева обоснован теоретически.
В статье 1938 г. он писал: ’’Самое легкое — создать
занимательный научно-фантастический роман на тему классовой
борьбы... И самое трудное для писателя — создать
занимательный сюжет в произведении, описывающем будущее
бесклассовое коммунистическое общество, предугадать
конфликты положительных героев между собой, угадать
хотя бы 2—3 черточки в характере человека будущего.
Я беру на себя труднейшее”26. Со своей утопической программой
Беляев опоздал почти на десять лет. Написать в
конце 30-х гг. социальную утопию было невозможно. Поэтому
из попыток Беляева ничего не вышло, да он и не
пытался по-настоящему описывать будущее. Он устранил
авантюрный сюжет и форму памфлета с установившейся
системой образов, но не сумел ничего дать взамен. Получились
разбросанные кое-где картинки городов-парков,
без следа каких-либо проблем, конфликтов и новых ’’черточек”
. Вдобавок куда-то исчезли научно-фантастические
идеи. Вернее, они свелись к незначительной натяжке известных
данных. Беляев постепенно отходит от фантастики.
В ’’Человеке, потерявшем лицо” , написанном в 1929 г.,
рассказано о великом комическом киноактере, уроде,
который, благодаря лечению гормонами в клинике русского
гения доктора Сорокина, превращается в благообразного
юношу. Он губит свою карьеру, теряет все состояние
и, отомстив личным врагам, уезжает из Америки. Спустя
десять лет Беляев пишет новый вариант романа. В то время
странно было думать о русских, путешествующих по свету,
и доктор Сорокин стал циником и делягой Цорном. Лек-
74
ция о гормонах сильно сократилась. Зато появилась вторая
часть книги, по объему равная первой, где бывший комик
становится режиссером, ставит обличительные фильмы,
организует союз независимых киноработников и, принеся
в жертву личную жизнь, борется с капиталистической системой.
В дописанной части нет ни грана фантастики или науки.
Книга же носит новое название: ’’Человек, нашедший свое
лицо” .
Советская НФ начинает умирать, едва родившись.
Но если думать, что жизнь литературы зависит от качества
ее языка и стиля, то смерть НФ наступила буквально
в момент ее рождения. Язык Беляева сер и невыразителен.
Своего стиля у него нет. В лучших его книгах то и дело
встречаются фразы, похожие на изречения зощенковских
героев: ’’снимок закрепил мгновенную игру мимики лиц и
движений мускулатуры” . А вот как дается психология
героев: ’’Эльза поднялась, тяжело дыша, и вновь опустилась
на диван. Ее охватил ужас. — Нет, нет, нет! — вдруг вскрикнула
она так, что птицы в испуге вспорхнули с веток” . И
рядом: ”Я нашел ряд очень близких аналогий в строении
нервной системы и мозга с конструкцией радиостанции”27.
Бульварный стиль перемешан с научным и газетным жаргоном,
и просто с воляпюком. Такой язык может существовать
лишь как протокол действия, намертво зажатый в
тиски шаблона. Освобожденный от авантюрно-памфлетного
корсета, он расползается в нечто бесформенное.
Такое косноязычие Беляев разделял со всеми своими
собратьями по НФ. Среди фантастов 30—40—50-х гг. не
было, пожалуй, ни одного, кто мог бы считаться хотя бы
неплохим писателем. По сравнению с ними Гайдар или
Кассиль — литературные ювелиры. Читателя, знакомого с
литературой 20-х гг., больше всего поражает почти полное
отсутствие экспрессивности и образности в фантастике
позднейших лет. Сбылись страхи Олеши. Писатели перестают
ощущать мир в образах, они видят его построенным
из готовых формул.
Литературное поражение А. Беляева символично для всей
75
советской литературы. Вся она была подвержена операции,
которую описал Замятин в ”Мы” , - насильственному удалению
мозгового центра фантазии.
Вернемся к проблеме развития жанра. В отличие от идеалиста
Беляева, другие фантасты знали, что без сюжета не
обойтись, а кроме того, гораздо лучше Беляева понимали
действительность, в которой классовая борьба обостряется
по мере приближения к социализму, да и потом не затухает
сразу. Штамп детективного романа не просто остался жить,
несколько видоизменившись, он стал единственным средством
построения научно-фантастического романа, в котором
сюжет движется лишь постольку, поскольку его подталкивают
’’враги” .
Враги меняются. Их эволюция — интереснейшая тема.
После революции враг был явный — белогвардейцы, интервенты,
кулаки. В 30-е гг. в литературу прокралась иностранная
разведка, а затем — оппозиционеры, прикидывающиеся
крепкими большевиками, вредители, диверсанты, люди с
запятнанным прошлым, лгущие в анкетах, — скрытый,
самый страшный враг. В его разоблачении детская литература
не отставала от взрослой. Такие повести, как ’’Судьба
барабанщика” А. Гайдара, детально описывают ловушки,
заготовленные шпионами и саботажниками для неосмотрительных
подростков. В научно-фантастических романах
научно-популярные лекции дополняются уроками гражданского
поведения: ’’Надо быть внимательным, Павлик...
Надо быть не только самому осторожным в своих поступках,
но и очень внимательно присматриваться к тому, что
совершается вокруг тебя, к тому, что делают другие люди
около тебя”28. Всякий может оказаться врагом. Враг
поначалу не виден, но мы знаем, что он не может не быть.
Постоянное ожидание схватки, предвкушение нелегкой,
но верной победы — вот мощные чувства, не оставляющие
времени для колебаний, самокопания, вопросов. Жизнь
упрощена и наполнена до предела, поэтому жить интересно.
В сравнении с вездесущим и таинственным внутренним
76
врагом, враг внешний, понятный и явный — фашизм, — казался
более легким противником. Однако и ему уделялось
внимание: в советскую литературу вошла ’’оборонная тема”.
На протяжении нескольких лет намечался особый
жанр военной утопии. Ситуация из революционной утопии,
то есть военное столкновение с миром реакции, использовалась
применительно к политическому моменту. В 1936 г.
(год войны в Испании) вышел роман П. Павленко ”На
Востоке” , затем книги Г. Байдукова (’’Разгром фашистской
эскадры” , 1938), Н. Шпанова (’’Первый удар” , 1939) и др.
В ’’Огоньке” за 1937 г. публиковались рассказы разных
авторов под рубрикой ’’Будущая война” . Везде победа над
фашистами решалась в нескольких сокрушительных боях.
Военная утопия имела много общего с военной теорией того
времени — ’’Первый удар” Шпанова вышел в Воениздате
в серии ’’Библиотека командира” , — и очень мало общего
с НФ и с художественной литературой. Тем не менее, НФ
переняла некоторые ситуации военной утопии, и в первую
очередь — уверенность в быстрой победе над фашизмом.
Воображение советских писателей традиционно питает
еще один враг — природа. Стихийные силы мешают построению
нового мира. Природу необходимо покорить. Эта
борьба несет очень положительную функцию. Уже в ”Соти”
Леонова победа рабочих над разливом реки сопровождается
ломкой старого и рождением нового сознания. В советской
мысли борьба с природой получает особый метафизический
смысл. От местных побед люди-покорители природы
будут переходить к большим, в масштабе страны, континента,
планеты, наконец, вселенной. Будущее рисуется как
цепь завоеваний, по мере которых растет могущество человека.
Природа и вселенная бесконечны, и развитие человека
— тоже. Покорение природы становится главным предназначением
человека. В книге Бритикова о советской НФ
есть фраза: ’’При коммунизме счастье гибнущих в борьбе
с природой останется родственным счастью тех, кто отдал
жизнь социальной революции; тех и других вдохновляло
сознание, что они на своих плечах подымают человечество
77
в небо”29. Фраза эта типична и замечательна вдвойне: во-
первых, она говорит о том, что и при коммунизме счастье
человека будет состоять в его гибели (во имя человечества,
конечно); второе утверждение: коммунизм строится для
того, чтобы люди могли погибать, побеждая, за неимением
других врагов, природу.
Идея эта прямо противоположна философии преобразования
мира у Федорова, учившего, что регуляция природы
— не подчинение ее капризу человека и не эксплуатация,
а внесение в нее божественной воли и разума30. Федоров,
а вслед за ним Хлебников, Платонов, Заболоцкий мечтали
о слиянии человека с природой. В советской официальной
терминологии 30—60-х гг. человек и природа — диалектические
противоположности, преодоление которых состоит
в том, что человек заставляет природу служить себе. Самостоятельной
ценности она не имеет.
Взаимоотношения человека и природы - основной элемент
диамата, частая коллизия советской литературы и главная
тема научно-фантастического романа, который к концу
30-х гг. окончательно растерял свои идеи.
Целиком этой теме посвящены романы Г. Адамова. В
’’Победителях недр” (1937) герои, решив поставить на
службу народу новый источник энергии, путешествуют в
особом снаряде под землей. ’’Тайна двух океанов” (1939)
повествует о чудесной подводной лодке, из Ленинграда
направленной во Владивосток для усиления дальневосточного
флота. Третий роман, ’’Изгнание владыки” (1941—
46) рассказывает об отеплении Арктики совместным трудом
советских ученых и рабочих. Книги Адамова предназначены
для детей среднего возраста. В них действуют мальчики,
разоблачающие злодеев, повествование в них перегружено
популярными сведениями и описаниями природы по
картинкам из ботанических атласов. Эти книги — прекрасный
образец НФ того времени.
Ситуации, описанные Адамовым, будут повторять почти
все писатели. Покорение природы в подземном, подводном,
арктическом и энергетическом вариантах, с частым их
78
сочетанием, триумфально проходит через 40-е прямо в 50-е
годы.
По пути несколько меняется построение романов. В книгах
об Арктике Адамова, Казанцева (’’Арктический мост” ,
1946) и др. героем начинает выступать трудовой коллектив.
В 1940 г. появляется в журнале роман Ю. Долгушина ’’Генератор
чудес” . В нем описана история научного открытия.
Хилая ’’вражеская” линия в сюжете подчинена рассказу о
работе разных ученых, с разных сторон подходящих к открытию.
В отличие от карикатурно-памфлетных эпизодов,
происходящих на Западе, советские эпизоды книги написаны
по всем правилам тогдашнего реалистического письма,
с дозволенными бытовыми деталями. ’’Генератор чудес”
- первый роман, возвещающий еще одну метаморфозу
НФ, которую ей придется претерпеть в период Жданов-
щины.
Ждановщина свела к одному знаменателю все виды и
жанры искусства и литературы. НФ уныло плелась в самом
хвосте литературы, повторяя все требуемые от нее телодвижения.
Всю ее — и всю литературу той поры — можно замкнуть
в трех клише: борьба с гнилым Западом и космополитами,
борьба с природой и борьба лучшего с хорошим на производственном
фронте.
Время от времени выходят памфлеты, построенные
вокруг старых ситуаций с изобретением пищи богов, лучей
смерти или морозных бомб, но направленные против Запада
с яростью, которой не знала довоенная литература. Большинство
же научно-фантастических книг прилежно поставляет
родине энергию подземной теплоты, вулканическую,
атмосферическую, ветряную, атомную, шаровые молнии,
нефть и минералы.
Эта кропотливая работа идет не без препятствий.
Например, когда в ’’Золотом дне” (1948) В. Немцова
на нефтяные разработки в Баку приезжает инженер из
Москвы, он обнаруживает, что на месте уже есть не менее
талантливый инженер, который ставит вышки в море. Раз-
79
горается тихое соперничество, ибо проект москвича предусматривает
поиски и добычу нефти в море с помощью
подводной самоходной лаборатории. Жена бакинца с энтузиазмом
помогает москвичу, считая его план перспективнее.
В финале оказывается, что ни одно, ни другое решение
сами по себе не оптимальны, но совместно они открывают
новую эпоху в жизни страны. Между инженерами рождается
крепкая дружба.
Инженеры по шахтному бурению - герои ’’Дорог вглубь”
(1950) В. Охотникова. Один из них — молодой изобретатель,
поэт техники, второй — пожилой сухарь-практик. У
изобретателя есть проект подземохода — совсем как у Адамова,
— но старики предпочитают бурить по старинке.
Ребята-комсомольцы, однако, помогают сделать модель
машины. Пораженное начальство тут же выдает нужные для
реализации суммы и специалистов. Самоотверженность
изобретателя покоряет старого практика, который сам
превращается в поэта. К этому сюжету приплетена история
о том, как инженер с многозначительной фамилией Цесарский
проболтался иностранным визитерам о своем новом
приборе. Спустя некоторое время прибор этот делают за
границей. Эпизод поучителен: следует хранить строжайшую
производственную тайну, иначе будет, как до революции,
когда русские изобретатели, не имея помощи от царского
правительства, вынуждены были себя рекламировать,
вследствие чего ’’реализуют изобретение русского инженера
за границей, и какой-нибудь Маркони или Эдисон присваивает
себе его работу” 31.
Так писалась тогда научная фантастика, Охотников и
Немцов были самыми типичными и плодовитыми фантастами
тех лет. Бывали книги, где масштаб изобретений был
еще мельче: новая пластмасса, вечная батарейка для фонаря,
способ окрашивания древесины. Назвать фантастическими
книги эти никак нельзя и даже сами писатели иногда
отказывались от грифа ”НФ” и под названием скромно писали:
’’повесть” или ’’роман”. Произведения такого рода, по
сути дела, уже никак не отличались от таких романов, как
80
’’Драгоценное наследство” Пермяка или ’’Широкое течение”
А. Андреева.
НФ стала тенью производственного жанра.
В начале 50-х гг. был создан специальный термин: ’’фантастика
ближнего прицела” или ’’фантастика на грани возможного”
. Была создана специальная теория, которая лишала
НФ право на мысль о невозможном, на ’’дальний прицел”
. Эту теорию наиболее полно выразил С. Иванов в большой
статье ’’Фантастика и действительность” , напечатанной
в журнале ’’Октябрь” в 1950 г. Иванов отграничивает никчемную
западную фантастику от советской, основанной
”на предвидениях гениальных русских людей” , в том числе
Ломоносова, говорившего о стекольной промышленности
(речь, конечно, идет о послании Шувалову ”0 пользе стекла”).
Попутно делается донос на нескольких писателей,
оказавшихся в плену ’’американской фантастической стряпни”
, в частности на Л. Успенского, доказьюавшего на одном
из заседаний необходимость писать о том, ’’что будет через
сто и даже двести лет” , и тем самым доказавшего порочность
своего мышления и свое низкопоклонство перед
Западом. После всего этого Иванов приступает к изложению
задач, стоящих перед советскими фантастами. Цитата, которую
я приведу, длинна, но, по-моему, достойна внимания.
Иванов спрашивает: к чему витать вне времени и пространства?
’’Разве исторические указания тов. Сталина о
развитии нашей промышленности на ближайшие несколько
пятилеток не являются огромнейшей темой для писателей?
Разве постановление партии и правительства о полезащитных
лесных полосах, рассчитанные на пятнадцатилетний срок,
в течение которого должна быть коренным образом преображена
почти половина нашей страны, преображена настолько,
что изменится даже климат, разве это постановление
не является исключительно благодарным материалом
для работ наших фантастов? Разве постановление партии и
правительства о продвижении субтропических цитрусовых
культур на Север опять-таки не послужит материалом для
ряда ярких полотен наших художников слова? А тема
81
новой Москвы в перспективе ее реконструкции на основе
разрабатываемого сейчас плана? Повторяем, условия для
развития советской научной фантастики и приключенческой
литературы огромны и блестящи”32.
Буквально так и было. Предписания Ивановых выполнялись
безукоснительно. Критика громила за любое отклонение.
Гуревичу, например, влетело за повесть ’’Тополь
стремительный” (1951), где в заказанных Ивановым полезащитных
полосах он заменил лысенковский дуб тополем.
Сегодняшние критики говорят о таких выступлениях,
как статья Иванова, представляя их в виде кратковременного,
досадного, но быстро исправленного заблуждения.
Однако, так ли уж сильно отличаются требования Иванова
от предложений Горького развивать детское воображение,
рассказывая о превращении картофеля в каучук? Иванов
лишь открыто и развернуто формулировал то, что у Горького
дано в форме краткого конспекта. Ровно двадцать лет
разделяет публикации статей Горького и Иванова, между
ними можно провести четкую прямую линию, — по этой
линии, четко, логично, без отклонений, шло развитие советской
НФ в течение двадцати лет.
Научная фантастика сохранила свое название лишь по
инерции. В ней не осталось ничего, что могло бы отличать
ее от производственных, научно-производственных или научно-
популярных жанров.
И. Азимов грубо, но достаточно верно разделил развитие
американской НФ на три периода: приключенческий, технический
и — начиная примерно с 50-х гг. — социальный33.
Развитие советской фантастики шло как бы в противоположном
направлении. В этом развитии также различимы
три периода: до начала 30-х гг., до первых послевоенных
лет, наконец, последний — до 1956 г.
В первый период, как я старался показать, НФ была
приемом, связанным с утопией, с революционной утопией,
с детективно-приключенческим ’’красным Пинкертоном” ,
с сатирой, с антиутопией, с пародией, — со многими важны-
82
ми литературными жанрами. Она была связана с литературой
социальных и философских проблем, а также — и это не
менее важно — с литературными экспериментами, направленными
на поиски новых форм.
Второй период, в котором преобладал детективно-памфлетный
сюжетный стереотип и тематика ’’социалистического
строительства”, можно назвать производственно-приключенческим.
Третий же период — время ’’фантастики на грани возможного”
, когда и сюжет, и тематика, и стиль, и герои были
родом из самого штампованного производственного романа.
Один французский критик недавно сетовал, что советская
фантастика отстает от американской на десятки лет.
В 20-е гг. было наоборот. Тогда ставились проблемы, к которым
в Америке пришли лишь сорок лет спустя, скажем,
проблема экологии или механизмов тотальной власти. То
же самое можно сказать и о литературном аспекте жанра.
В ’’Рассказе о самом главном” (1918) Замятина композиция
объединяет реалистический и научно-фантастический
сюжеты, внешне ничем не связанные между собой. На похожую
композицию как на необычайное новаторство решился
Т. Старджон в ’’Венере плюс икс” — в 1960 г. Произведения
самых смелых экспериментаторов в англо-американской
НФ 60-х гг. — Браннера, Эллисона, Делани, Балларда — по
сравнению с научно-фантастическими произведениями Боброва,
Шкловского и Иванова, Шагинян и др. выглядят крайне
бледно. Примеров можно было бы привести много.
Если бы Дос Пассос, Эзра Паунд, Хемингуэй, Томас Вольф
и Натанаэль Уэст единодушно принялись пользоваться
научно-фантастическими приемами, картина НФ в Америке
походила бы на то, что происходило в русской литературе
до того, как соцреализм стал ее главным художественным
методом.
Американская НФ в самом начале века ушла из литературы
в гетто ’’журнальной пульпы” и полстолетия развивалась
в сторону сближения с литературой.
83
Советская НФ созрела в теле литературы, на некоторое
время отделилась от нее в третьестепенный жанр, и вернулась
в главное русло на другом уровне. С. Иванов — это спародированный,
уменьшенный до микроскопических размеров
— ибо превращенный в реальность и пересмотренный
согласно заветам Горького, — лишенный страсти к новому
Гастев. В нем те же нетерпимость и фанатизм, то же стремление
запланировать все мысли, мечты, действия, — но революционный
пафос целиком уступил место административно-
бюрократическому восторгу. Цикл замкнулся.
Замятин и тут остался прав. Как выяснится в период
’’оттепели” , операция по удалению мозгового узелка фантазии
в советской литературе не удалась до конца. Но, чтобы
снова ожить, литература, и НФ вместе с ней, должны будут
вернуться к своему прошлому.
84
Глава 3
ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО
Итак, утопия перестала быть нужной в советской литературе,
потому что вся литература принялась изображать действительность
как осуществленную утопию.
Но, как любят повторять советские теоретики, действительность
— сложное явление.
Двойственность лежит в самом сердце соцреалистической
литературы.
Она должна показать, что советская действительность
лучше всех, что вековечные мечты русского и братских
народов исполнились, утопия практически реализована. Уже
в 20-е гг. писатели рассказывали о еще предстоящих свершениях
в настоящем времени. Ф. Гладков в повести ’’Новая
земля” (1928) обрисовал идеальную коммуну, населенную
безупречными героями и возвышающуюся наподобие острова
среди еще несознательного мужицкого океана. В такой
же остров — казалось бы, увиденный глазами моровского
85
мореплавателя — превращается село Екатерининское из романа
А. Демидова (1929), в котором крестьяне в свободные
часы занимаются изящным рукомеслом в ’’дворце искусств”
. После войны, особенно же в начале 50-х гг. утопия
в литературе, кино, театре воцарилась безраздельно. В самые
страшные годы для разоренной войной советской
деревни фильмы, вроде ’’Кубанских казаков” , романы, вроде
книг С. Бабаевского, рисовали картины сказочного богатства,
лукулловых свадебных пиров под открытым небом
и праздничных хороводов.
И тем не менее, утопия в настоящем периодически встречается
с уничтожающей критикой — ибо советская литература
всегда стоит перед другой, прямо противоположной
задачей: показать утопию в будущем, призывать народ к
постоянному усилию и труду ”во имя грядущего” .
А. Синявский писал, что советская литература — самая
телеологическая в мире1.
Настоящая утопия, великая Цель — коммунизм — ждет
впереди, и об этом нельзя забывать.
Жизнь сегодня прекрасна — ’’Жить стало лучше, жить
стало веселее” , сказал т. Сталин, — но не слишком прекрасна,
ибо смысл ее — служение завтрашнему дню.
Сегодня существуют еще трудности, преодоление которых
неумолимо приближает к нам идеальное завтра.
Избегать изображения этих трудностей — значит, недооценить
силы врага (частое обвинение в перспективе после-
сталинского вклада об обострении классовой борьбы по мере
приближения к социализму), недопонять генеральную линию
(Гладков расписывал всеми цветами радуги коммуну, а
через год после появления его повести партия декретировала
совсем другой путь к деревенскому счастью: колхозы),
или ’’лакировать действительность” (критика романов первой
с перспективы второй половины 50-х гг .).
Все трудности, все конфликты исчезнут в будущем,
и к нему обращены наши помыслы даже в лучшие минуты
нашей жизни.
И в то же время для обычных смертных — и для писате-
86
лей — будущее, зыбко обозначенное законами истмата, в
сущности никогда не простирается дальше указаний на ближайший
плановый отрезок времени. Угадывать, что будет
’’через сто и даже двести лет” , значит, присваивать себе роль,
отведенную тем, чей взор проникает за все горизонты — руководителям
партии и правительства во главе с великим
Вождем.
Будущее, Единственная и Священная Цель остается чем-
то неуловимым, коснуться тайны так же страшно, как и не
думать о ней.
Так до сих пор, с несколько большей или несколько
меньшей площадью для маневра, мечутся советские писатели
между Сциллой замечательного настоящего и Харибдой
прекрасного будущего.
Во всеобъемлющей теории соцреализма оставлена маленькая
лазейка для дискуссий о соотношении этих идеалов.
Критики, принимающие участие в спорах, не понимают,
однако, — или не признаются, что понимают — абсолютной
необходимости логического противоречия ’’утопия сегодня:
:утопия завтра” для соцреалистической литературы.
Преодолеть противоречие невозможно.
Можно и должно ловко дозировать противоречащие
элементы, причем сохраняется возможность всегда и везде
отыскать перегиб в ту или другую сторону и произвести
конструктивную критику.
Такая противоречивость, двойственность, а вернее — двусмысленность
каждого явления, позволяющая по требованию
момента направлять удары критики, — один из основных
принципов функционирования советской жизни.
Утопический роман потому ненужен, что снимает двойственность,
отказываясь от настоящего в пользу будущего,
он тем и опасен, что прямо вторгается в запретную зону,
рисуя конкретный облик грядущего.
Любопытно читать сегодня, например, ’’Страну счастливых”
Ларри. Поначалу непонятно, почему эта книга никогда
не переиздавалась, а автор ее был репрессирован Не удивляет,
что с идеологической точки зрения вредными и не-
87
допустимыми могли считаться книги Богданова, против
’’тектологии” которого боролся еще Ленин, книги Окунева,
слишком принявшего к сердцу лозунги первых лет революции,
даже роман Никольского, слишком много взявшего
у буржуазных утопистов.
Но утопия Ларри базируется прежде всего на сталинской
теории социализма в одной стране, она, казалось бы, полностью
отвечает направленности своего времени: в ней
безжалостно уничтожаются остатки старых классов, которые
тем сильнее сопротивляются, чем ближе их конец, в
ней коммунизм строится в СССР, отрезанном от всего мира,
в ней показаны стремительные темпы индустриализации
и урбанизации страны — ”ты еще не успел износить ботинок,
как люди уже построили новый город”2, — и все-таки книга
была заклеймена.
Во-первых, Ларри слишком поспешил, слишком быстро
шел к своему счастливому обществу. Он писал книгу в начале
первой пятилетки, а к концу второй уже видел прекрасное
будущее. Немного позже оказалось, что путь к коммунизму
неизмеримо более долог и труден. Вторая ошибка утописта:
сохранившаяся в нем революционная восторженность: он
упразднил администрацию, государственный аппарат, воспевал
космические полеты, рисовал армии труда, показал старых
революционеров, отставших от эпохи (одного из них зовут
Молибден), и отдал первенство в руки молодежи, — и в
этом, конечно, сразу можно было найти следы троцкизма.
Партия не нуждается в какой бы то ни было конкуренции,
и меньше всего — в конкуренции со стороны самодеятельных
утопистов.
Утопический роман был изъят из советской литературы.
Более четверти века прошло, авторы послереволюционных
утопий и их книги прочно забылись.
И вдруг в самом начале 1957 г. в молодежном журнале
появился роман И. Ефремова ’’Туманность Андромеды” .
Действие романа по идее должно было происходить через
три тысячи лет, но в окончательном варианте автор приблизил
события, перенеся их в XXX век.
88
К этому времени давно уже состоялось объединение всех
народов Земли в едином коммунистическом обществе,
переживающем период небывалого расцвета культуры,
науки, техники. Переоборудована Земля, по которой ’’можно
всюду пройти босым, нигде не повредив ног”^, на которой
осуществлены почти все видения Циолковского и
Гастева. Уже изучена солнечная система, люди вышли в
межзвездное пространство.
Много сот лет назад Земля включилась в гигантскую
цепь радиотелесвязи, охватывающую десятки планет галактики,
населенных разумными существами. Человечество
вступило в новую эру: Эру Великого Кольца. Великое
Кольцо служит передаче информации и обмену опытом
звездных цивилизаций, и в то же время символизирует
братство всех мыслящих существ в борьбе с космосом,
с неживой материей.
О двух эпохальных событиях в этой борьбе рассказывается
в романе.
Во-первых, ученые Земли, используя новейшие достижения
математики и физики, проводят опаснейший опыт,
направленный на поиски нового способа передвижения в
космосе — перехода в нуль-пространство, позволяющего
мгновенно преодолевать любые расстояния. Опыт, поставленный
вопреки ’’мудрому, но не отважному” мнению
большинства, удается лишь частично, заканчивается катастрофой,
в которой гибнет несколько человек и едва не
погибает один из главных героев. Но направление указано,
и мы знаем, что окончательное решение проблемы — лишь
вопрос времени.
Во-вторых, земные космолетчики, выполняя миссию по
поручению Великого Кольца, впервые сталкиваются с доказательством
существования мыслящей жизни вне ’’родной”
галактики. Железный карлик, планета с гигантским тяготением,
захватывает в плен звездолет; на этой планете люди
находят опустелый корабль неизвестного типа; когда же
после разных приключений космолетчики возвращаются
на родину, Земля впервые принимает передачу, адресован-
89
ную Великому Кольцу создателями невиданных звездолетов,
жителями соседней галактики — Туманности Андромеды.
Два события подготовляют третье, может быть, самое
важное в истории человечества: окончательное освобождение
от пут времени и пространства.
Вокруг этих событий ведется повествование в нескольких
планах: футурологическая и научно-техническая фантастика,
космические приключения, описание коммунистического
общества, взаимоотношения героев, людей будущего,
их проблемы и мысли.
Стоит ли говорить о том, насколько перерастает все обязательные
в ту пору рамки роман Ефремова.
’’Туманность Андромеды” произвела революцию в НФ.
Писалась она летом и осенью 1956 г. — почти сразу же
после исторического XX съезда КПСС.
Еще в 1912 г., размышляя о неоконченной книге Одоевского
и о русской утопии, известный историк и литературовед
П. Сакулин говорил: ’’Появление утопий служит симптомом
назревающего кризиса”4.
В новых работах об утопии эта ее характернейшая и важнейшая
черта почему-то затрагивается очень редко.
Но Платон писал ’’Государство” после позорного поражения
Афин в войне со Спартой; Мор был свидетелем окончания
войны Алой и Белой Розы, захвата трона Генрихом VII,
крушения феодального строя; Кампанелла проектировал
Город Солнца в стране, после долгих лет расцвета падавшей
в пропасть экономического кризиса; французские утописты
XIX века не успевали дописывать свои книги в промежутках
между революциями и политическими переворотами;
Беллами бросал взгляд из 2000-го года на время забастовок
в Пенсильвании и Чикаго; идиллия Морриса была ответом
не только на книгу Беллами, но и на ’’кровавое воскресенье”
13 ноября 1887 г., когда полиция разгромила мирную
демонстрацию на Трафальгарской площади; после 1905 г.
в России утопии появлялись одна за другой.
90
Утопия — симптом кризиса, она его проявление, она и
поиски выхода из него.
Таким кризисом в СССР был 1956 год.
Смерть Сталина потрясла советское общество.
В журнале ’’Новый мир” за декабрь 1953 г. появилась
статья В. Померанцева под революционным названием ”06
искренности в литературе” . Автор статьи сказал нечто невероятное:
советские писатели пишут не то, что думают.
Померанцев сказал, что ”в истории литературы художники
стремились к исповеди, а не только к проповеди”5. Слова
’’искренность”, ’’исповедь” забылись в русской литературе
со времен Замятина, изобличавшего ’’изолгавшихся” писателей.
Померанцев вспомнил эти слова. Его статья вызвала
шок.
Проморгавшие статью цензоры и растерявшиеся было
критики вскоре опомнились и разгромили Померанцева.
Но трещина в фундаменте сталинской постройки увеличивается.
В 1954 г. И. Эренбург, писатель-хамелеон, публикует
повесть, очень среднюю и не очень смелую, название
которой, заимствованное у Герцена, скоро станет нарицательным:
’’Оттепель” .
XX съезд партии и доклад Хрущева произвели впечатление
космической катастрофы.
Разрушался создававшийся десятилетиями миф. Появился
проблеск новой надежды.
Второй сборник ’’Литературная Москва” , вышедший в
конце 1956 г., включал удивительные по смелости произведения.
Наступила ’’Оттепель”, время относительной свободы,
почти тотчас же ущемленной.
Еще несколько лет неустойчивости, борьбы за власть,
неожиданных маневров Хрущева, и после XXII съезда —
вторая оттепель 1962—1964 годов, с публикацией ’’Одного
дня Ивана Денисовича” и рассказов Солженицына, мемуаров
о лагерях, ’’Тарусских страниц” , а потом - процессы
91
Бродского, Синявского и Даниэля, и окончательный зажим.
Система, начало которой положила революция, окончательно
укрепленная при Сталине, на некоторое время пошатнулась,
но в конце концов устояла. Построек такого
масштаба и такой крепости мало было в истории.
Но кризис был, и оттепель была. Многое изменилось — не
в системе, а в людях. Некоторые перегородки пали. Настоящей
весны не пришлось увидеть советской литературе, но
выяснилось одно: литература не умирает.
За короткое время появились писатели и книги, достойные
лучших традиций русской литературы; и наряду с
’’новой волной” оттепель породила два других явления,
значение которых невозможно преувеличить: появился конкурент
официальной монополии на печать, Самиздат; состоялось
возвращение — очень частичное — писателей 20—
30-х гг.
С начала оттепели прошло почти 30 лет. Вот уже много
лет, как нет и речи о возможности лета. Но процесс, начавшийся
в 1956 г., оказался необратимым.
30 лет рядом с потоком официальной литературы течет
ручеек литературы оттепели.
Одно из первых мест по времени принадлежит в ней роману
Ефремова.
В большом исследовании, посвященном утопиям, французский
философ и критик Р. Рюийе, неприязненно настроенный
к бесплодным мечтателям, критикует: они ’’делают
иное и будущее из здешнего и настоящего. Они притворяются,
что создают нечто новое, пуская немного по-
другому в ход уже существующую механику. Но они могут
расширить наш мир не более, чем можно увеличить вместимость
кафе, установив там параллельные зеркала”6.
Рюийе глубоко неправ. Даже с точки зрения чистой
литературы они отнюдь не бесплодны. Из результатов же
анкеты, проведенной в США в 30-е гг., выяснилось, что книгой
американского автора, оказавшей, по мнению читате-
92
лей, наибольшее влияние на американское общество за истекшие
полвека, была утопия Беллами. И достаточно вспомнить
роль, сыгранную в развитии общественной, политической,
социальной мысли произведениями Сен-Симона, Фурье,
Оуэна, Герцки, в России — Чернышевского, в наше время
— книгами Скиннера, Маркузе, Фуллера, чтобы убедиться
в необоснованности пренебрежительного отношения
к утопии.
Сравнение Рюийе само разрушает критику его автора.
Утопия интересна, между прочим, своим свойством параллельных
зеркал, в которых можно наблюдать не только лица
завсегдатаев кафе, но и их затылки.
Утопия — зеркало общества. Но это зеркало кривое. Утопист
— не бытописатель, он реформатор. Это значит, что он
видит пороки своего общества.
Все авторы утопий - критики настоящего, чаще всего
критики беспощадные. Даже Свифт для своего злейшего
памфлета избрал форму утопии о стране лошадей, а Щедрин
придал облик ’’утопии” самой страшной по ненависти главе
’’Истории одного города”.
Можно сказать, что критический анализ общества составляет
один из формальных признаков классической
утопии.
Как настоящая, классическая утопия, и в отличие от поддельной
утопии соцреализма, ’’Туманность Андромеды” в
большой мере — социальная критика.
В ранней повести Ефремова ”На краю Ойкумены” была
сцена древне-критской корриды: безоружная обнаженная
девушка смелостью и ловкостью побеждает огромного
быка.
В ’’Туманности Андромеды” эта сцена повторяется: главный
герой, заблудившись в степи, подвергается нападению
быка и играючи одерживает над ним верх.
Бык — символ насилия. В ’’Туманности” это политический
символ. Люди также могут быть ’’быками” : ’’Страдания,
раздоры и несчастья в далеком прошлом человечества
всегда усугублялись именно такими людьми” , провозгла-
93
шавшими себя в разных обличиях единственно знающими
истину, считавшими себя вправе подавлять все несогласные
с ними мнения, искоренять иные образы мышления и жизни”
7 .
’’Быки” господствуют в современной Ефремову жизни,
”в разных обличиях” разными путями они узурпируют себе
право на истину, определяют единственную цель, ведут к
ней, невзирая ни на что, целые народы. В обществе XXX века
не то что нет никакого принуждения — люди вообще избегают
коголибо уговаривать: слишком велико доверие и
уважение к другим людям. Каждый решает сам, и сам за
себя несет ответственность. А для тех, кто не согласен или не
способен жить в обществе, существует Остров Забвения, где
каждый волен делать, что ему вздумается.
Можно разложить на составные части роман Ефремова и
показать, как преображается в нем советское общество, как
строит писатель мир идеальный, противопоставляя его
реальности. В дело годны все известные рецепты старых
утопистов. Экстраполяция вылавливает из настоящего те
элементы, которые, по мнению утописта, имеют наибольшее
значение для будущего; в ’’Туманности Андромеды” доводится
до конца тенденция увеличения интеллигентской прослойки
(правда, уже в Новой Атлантиде все были учеными).
Аналогия включает в идеальную картину элементы из истории,
особенно полюбившиеся писателю: в XXX веке возрождаются
нравы и некоторые обычаи древних греков и
индусов. Инверсия превращает явления действительности в
их противоположность; например, люди XXX века получают
драгоценную возможность свободно ездить по всему миру
— для сограждан Ефремова, несомненно, один из самых утопических
пунктов его программы, вместе со способностью
его героев изучать по полудюжине самых разных профессий
- мечта Фурье и Энгельса, — и полной свободой выбора
места и рода работы.
Наконец, в каждой утопии есть целые списки того, чего
не делают счастливые ее обитатели. Это отрицание, когда
недостатки общества и людей просто вычеркиваются — и
94
Ефремов ликвидирует склонность к увеселениям и вульгарным
зрелищам, пустословие, бессмысленные нормы поведения
и пр. Тому же служит в романе прием, еще более разрушительный
в советском контексте: умолчание. О нашем
столетии, если не считать критических замечаний, почти не
говорится в ’’Туманности” . У Ефремова есть идея: далекие
наши предки в некоторых отношениях стояли выше людей
нового времени, они обладали восприятием мира, утерянным
за столетия цивилизованной жизни. В коммунистическом
будущем возродятся древние свойства.
Почти всех персонажей романа Ефремов сравнивает с
древними героями, богами и богинями. Создается мост между
мифологическим прошлым и мифологическим будущим.
Всякие сравнения с современниками тщательно пропускаются.
Герои были в древности, они родятся в будущем, но в
современном обществе они не могут появиться.
XX век, конец ’’Эры Разобщенного Мира” для Ефремова
— один из худших периодов в истории человечества.
В романе, продолжающем главные темы ’’Туманности” ,
написанном спустя почти пятнадцать лет писатель называет
наше время ’’Часом Быка” .
В 1956 г. он не так откровенен, но его отношение к
современной жизни проскальзывает в бесчисленных намеках.
Даже отдельные фразы, на первый взгляд незначащие, на
деле очень злободневны. Во время научной дискуссии, например,
один из выступающих замечает мимоходом: ’’Все
непризнанные теории в конце концов стали фундаментом
науки!”8 В стране, где непризнание буржуазных теорий
было принципом научной деятельности, где еще много лет
торжествовала школа Лысенко, где кибернетика только-
только выходила из немилости, такое утверждение получает
неожиданный двойной смысл.
Но главный смысл того, что делает Ефремов — это возвращение
к источникам. В первую очередь, конечно, возвращение
к утопической традиции.
Сам писатель говорил, что отправной точкой для его ро-
95
мана послужила утопия Уэллса ’’Люди как боги”9. Действительно,
между двумя книгами много общего. Есть в ’’Туманности”
следы других западных утопий, в первую очередь
Фурье (в системе воспитания, в попытке классифицировать
эмоции). И все же утопия Ефремова принадлежит к русской
традиции.
Есть в ней прямые заимствования. Одна из центральных
глав романа — глава ’’программная” — описывает
символическую ’’космическую симфонию фа-минор в
цветовой тональности 4,750 мю” . Симфония звуком и
цветом иллюстрирует титаническую борьбу мертвой и живой
материи во вселенной, зарождение мыслящей жизни, победу
Разума.
Советские критики много писали об этой симфонии,
восторгаясь новаторством Ефремова. В действительности
уже символисты, прежде всего Скрябин, занимались сочетанием
звука и цвета. Их эксперименты пользовались большой
популярностью. В книге Никольского ’’Через тысячу
лет” буквально теми же, что у Ефремова, словами описан
’’гимн объединенного мира” — такая же космогоническая
симфония на идентичную тему: ’’инертная природа, побеждаемая
творческой волей человека”*0. Музыкально-световая
симфония ’’Юность” , показанная над гигантским промышленным
центром — Магнитогорском, есть в книге Я.
Ларри11. На мой взгляд, трудно говорить о совпадении.
Нет сомнения, что Ефремов знал ранние советские утопии,
во многом полемизировал с ними (с идеей Пролетария-
Машины и пр.), но во многом и следовал за ними.
Он знал, по-видимому, книги Богданова, знал дореволюционные
утопии Олигера, Куприна, Брюсова.
Он возвращается еще дальше: к Чернышевскому и ’’нигилистам”
60-х гг.; к Белинскому; к взглядам известного
врача и педагога XIX в. Н. И. Пирогова, сильно повлиявшего
на шестидесятников; к некоторым идеям врачей и философов
Сеченова и Мечникова; к традиции русской философии.
Я буду еще говорить о социально-философских взглядах
Ефремова — в главе, ему посвященной. Здесь же важно
96
лишь подчеркнуть его зависимость от долгой и крайне противоречивой
традиции.
В ’’разобранном виде” роман Ефремова может показаться
калейдоскопом заимствованных идей. Но то же, конечно,
при желании можно доказать для очень многих книг. Гораз-
. до важнее понять смысл и значение ефремовского возвращения
к прошлому.
Кризис 1956 г. подорвал основы основ установившегося
мировоззрения, новой идеологии, данной людям взамен
’’бывших” верований.
Поиски Ефремова — это попытки склеить рассыпавшуюся
картину мира.
Все заимствования Ефремова пропускаются через особый
фильтр — фильтр опыта сталинского времени.
Одно время возвращение в прошлое даже поощрялось
официально. В этом смысле конец 70-х — начало 80-х годов
напоминает то, что происходило в начале 60-х, — об этом
будет сказано в другом месте.
В 1962 г. Ленинскую премию получил сборник стихов
Э. Межелайтиса ’’Человек” . До сих пор эта книга расхваливается
во всех разборах советской литературы. Межелайтис
— главный козырь в руках критиков, доказывающих, что
реализм — не единственный художественный метод советской
литературы. Он — романтик. В своих стихах он создал
образ человека-гиганта:
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.
’’Человек” Межелайтиса, ’’пересотворивший землю” , —
парафраза Пролетария Гастева, вплоть до повторения тех же
образов. Это тоже возвращение — к романтическому пафосу
революционных лет.
97
Но между временем Гастева и временем Межелайтиса лежат
братоубийственная гражданская война, коллективизация,
голод, большой террор, лагеря, война с немцами. Поэт
же продолжает стоять с незамутненным взором и петь дифирамбы.
Может быть, яснее всех смысл такого возвращения к
прошлому выразил А. Алдан-Семенов:
Пятилеток первые солдаты,
Мы пока еще не постарели.
Допоем в годах шестидесятых
То, что мы в тридцатых не успели.
Для Алдан-Семенова (как и для Межелайтиса и для многих
других советских писателей) песня остается той же;
стоит из нее выбросить несколько куплетов — несколько
десятилетий, страдания и гибель миллионов, — и можно
начинать все сначала.
Ефремов хочет чему-то научиться.
И что важнее всего — он учится.
Все его экскурсии в прошлое, поиски ’’учителей” вызваны
осознанием чрезвычайно важной мысли: для того, чтобы
построить, а затем жить в коммунистическом обществе,
человек должен измениться.
Ефремов постоянно подчеркивает: главное для человека
XXX века — ценности духовные.
Утверждение банальное? Наоборот, для своего времени
— революционное.
Победу великого колбасника Андрея Бабичева, человека
нужного государству, строителя гигантской столовой, над
жалкими бесполезными мечтателями — изобретателем Иваном
Бабичевым и поэтом Кавалеровым описал в ’’Зависти”
замечательный писатель Ю. Олеша. Писатель, который отказался
от своих чувств, подчинился всесильному государству,
старался стать полезным и остался автором своего первого
романа.
Своеобразная реплика Олеше, роман В. Дудинцева ”Не
хлебом единым” появился в ’’Новом мире” в 1956 г., почти
98
одновременно с книгой Ефремова. Как в ’’Зависти” , сталкиваются
между собой директор большого предприятия и
изобретатель-одиночка. Чиновник Дроздов на сон грядущий
изучает 4-ю главу Краткого курса ВКП(б), рассуждает о
том, что важнее всего: создать материальную базу, а остальное
— чувства, мысли, мечты — приложится, когда можно
будет: ”Мы бежим наперегонки с капиталистическим миром.
Сперва надо построить дом, а потом уже вешать карти-
ночки”, — и повторяет заученный сталинский урок: ”У того,
кто работает на базис, крайностей не может быть. Потому
что материя первична. Чем лучше я его укрепляю, базис, тем
прочнее наше государство”12. Но создатель нового дома,
представитель государства и партии Дроздов давным давно
и бесповоротно растерял собственные человеческие духовные
качества. Ему картиночки не понадобятся никогда. Его
новый дом — усовершенствованный лагерный барак.
Идеалист-одиночка, изобретатель Лопаткин, сохранивший
свою душу, умеющий мыслить иначе, чем указано в 4-й главе
Краткого курса, - важнее и нужнее для страны, для народа,
чем все Дроздовы, вместе взятые.
Лопаткин мечтает о будущем, и некоторые его мысли
удивительно напоминают высказывания героев ’’Туманности
Андромеды” .
Ефремов приходит к тому же заключению, что и Дудин-
цев: не хлебом единым жив человек.
В истории русского общества мало было книг, вызвавших
такой ураган откликов и споров, как роман Дудинцева
— первое большое произведение оттепели.
Напечатанная почти в то же время ’’Туманность Андромеды”
касалась тех же проблем, но далеко не так непосредственно.
После сталинской зимы литература обратилась в
прошлое и в настоящее, пытаясь свалить перегородки, раскрыть
правду о том, что произошло, выяснить, почему это
произошло. Заслугой Ефремова было то, что он попытался
заклинаниями, обращенными в будущее, изгнать призраки
сталинизма, но это же было его слабостью. По обычаю всех
утопистов, он старался охватить как можно больше про-
99
блем. Стремясь создать оптимальную положительную программу,
ударился в противоположность: его выкладки
слишком умозрительны, часто неглубоки, еще чаще наивны
и противоречивы. Требуя освободить эмоции, Ефремов
упраздняет в то же время остроумие, поэзию, протестуя
против традиционных норм поведения, замещает их новыми,
собственного изобретения, но такими же жесткими и стереотипными.
В ’’Туманности Андромеды” слишком много
клише, известных со времен Платона, и изложены они в
слишком банальной форме для того, чтобы она смогла добиться
всего причитавшегося ей внимания в обществе,
вскормленном на общих местах.
И тем не менее, популярность романа, особенно среди
молодежи, была очень большой. И огромно — до сих пор
— ее влияние на весь жанр НФ.
Объяснить это можно, пожалуй, и тем, что Ефремов начал
разговор о далеком будущем, и тем, что ему удалось
написать не столько утопию, сколько настоящий утопический
роман. Иначе говоря, в его книге перечень социальных,
политических и нравственных достижений коммунизма с
большей или меньшей естественностью нанизывается на
развернутый (а не иллюзорный, как у Беллами, Морриса,
Уэллса) сюжет с коллизиями и психологическим рисунком
персонажей, с головоломными (для читателя, привыкшего к
книгам Адамова и Немцова) приключениями в далеком
космосе.
В одной книге Ефремов нарушил сразу все запреты:
запрет на постановку серьезных вопросов и на социальную
критику, на возвращение к прошлому и на взгляд в будущее,
на экстраполяцию в науке и на выход в космическое
пространство.
Появление ’’Туманности Андромеды” как бы создало
совершенно новый пространственно-временной континуум,
в котором точками соотнесения стали Эйзенштейн и Гейзен-
берг, Мендель и Циолковский, Фурье и Чернышевский.
Все стало возможным.
100
Сознание невиданной до тех пор свободы пришло не сразу.
Писатели по большей части выжидают, многие переделывают
старые вещи (выходят новые редакции ’’Аргонавтов
вселенной” В. Владко, ’’Арктании” Г. Гребнева, ’’Мола
’’Северный” А. Казанцева). Робко публикуются истории о
не слишком далеких - в пределах солнечной системы
— полетах в космос (’’Звезда утренняя” К. Волкова, ’’Планета
бурь” А. Казанцева). Казанцев пропагандирует давно
вынашиваемую разгадку тунгусского метеорита и теорию
марсианского происхождения людей (’’Гость из космоса” ,
’’Планета бурь”) . Г. Мартынов, который уже в 1955 г. рассказал
о ’’каботажном” космическом полете в ”220 дней на
звездолете” , вскоре после выхода ’’Туманности” издал
роман ’’Каллисто” (1957), где говорится о гостях с далекой
коммунистической планеты. Больше места, чем описание
коммунистического строя, занимает в книге, однако, интрига,
типичная для начала 50-х гг. — попытки западных шпионов
взорвать корабль каллистян, поставив в ужасное положение
советское государство. Другой роман о коммунизме,
’’Предки наших предков” Софроновых, действие которого
разыгрывается в будущем на Земле, и который говорит,
главным образом, о технических достижениях (уже известных
из ’’Арктании” и романов Беляева), печатается в
журнале ’’Нева” в конце 1958 года.
В том же году было созвано Всероссийское совещание
по научно-фантастической и приключенческой литературе.
Очень активно проявили себя в нем ’’ближние” фантасты,
Немцом, Томан, Гребнев; все выступления еще набиты до
отказа верноподданной фразеологией; ’’зеленая улица”
фантастике как будто дана, но еще не ясно, дана ли свобода
фантазии. Книги 1956—1958 гг. еще недалеко ушли от
’’грани возможного” , в них почти физически ощущается
усилие авторов не сказать слишком много. Настоящая переломная
точка приходится на 1959 год.
Почти год спустя после книжного издания ’’Туманности
Андромеды” , на которую было за это время очень мало
рецензий — тогда спадала первая волна оттепели, — ”Про-
101
мышленно-экономическая газета” , необычайно редко занимающаяся
литературными вопросами, вдруг обрушилась
на Ефремова с уничтожающей критикой.
Сначала газета разгромила ’’Туманность Андромеды” за
дальность ее прицела, за фантастичность ситуаций и персонажей13.
Но уже вращались вокруг Земли советские спутники,
началась космическая гонка с США, кибернетика
заняла принадлежащее ей место, теория ’’ближнего прицела”
перестала отвечать политическому моменту. Поэтому следующий
удар по Ефремову был произведен из крупнокалиберных
идеологических орудий. Первое обвинение касалось
’’забвения истории человечества, его пути к коммунизму,
героических усилий наших современников” , т. е. умолчания
роли СССР в объединении народов мира. Второе — чрезвычайно
характерное с точки зрения истории марксистской
доктрины в СССР — направлялось непосредственно против
картины будущего в романе. Газета доказывала, что Ефремов
нарисовал не коммунизм, а мир, ’’завоеванный для
технократии” : ’’Что же, на Земле уже нет рабочего класса?”
14 - спрашивали авторы статьи, как все ортодоксальные
критики раньше и лучше всех разобравшиеся в замысле
и значении книги.
В защиту Ефремова высказалась ’’Литературная газета” ,
попутно призвав к борьбе против ’’вульгарных ограничений
творческой фантазии и призывов к упрощенности” , и заявив,
что ’’наша страна самых дерзких научных свершений
должна иметь и самую смелую научно-фантастическую литературу”
1 5.
Под содержание ’Туманности Андромеды” была подведена
идейная база, появилось множество похвальных
рецензий и комментариев, раздались сетования на немногочисленность
книг о будущем коммунистическом обществе.
Роман Ефремова был принят в качестве образца для подражания.
Несколько месяцев после дискуссии о ’’Туманности”
произошло событие, взволновавшее советских читателей и
102
привлекшее их внимание к проблемам науки и — косвенно
- НФ.
И. Эренбург напечатал в ’’Комсомольской правде” статью
’’Ответ на одно письмо” , в которой разбирал жалобы одной
ленинградской студентки на ее друга Юрия. Юрий, ’’современный
молодой человек” , прекрасный работник, занятый
лишь наукой, считал Блока и вообще искусство ерундой,
любовь и тому подобные чувства - устаревшими: ’’когда
осваивают Космос, романами могут интересоваться только
различные ’’дамы с собачками” 1^. Комментируя письмо,
Эренбург осудил Юрия, отметив, что он развивался односторонне.
Так думали отнюдь не все читатели ’’Комсомольской
правды” .
Среди других откликов на начатый Эренбургом разговор,
газета поместила письмо, озаглавленное ”В защиту Юрия” и
подписанное И. Полетаевым, известным инженером, за год
до того издавшим большую книгу о кибернетике. Полетаев
писал: ’’Наука и техника создают мир сегодняшней эпохи,
все больше влияют на вкусы, нравы, поведение человека...
Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей,
теорий, экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она
требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать:
ах, Бах! ах, Блок! Конечно же, они устарели и стали
не в рост с нашей жизнью” 17. Полетаеву вторили другие:
’’Страна сильна учеными, инженерами, математиками, а не
людьми, умеющими ’’плакать в подушку” 18.
Вся страна — особенно университетская среда — разделилась
на два лагеря: ’’физиков” и ’’лириков” .
Во многих случаях спор этот представлял осовремененный
вариант спора между Андреем и Иваном Бабичевыми,
между утилитаристами — в новом жаргоне: ’’технократами”
— и идеалистами. Но еще чаще новый антагонизм указывал
на новое и распространенное общественное явление: советская
молодежь, растерявшаяся в разгар кризиса сталинской
системы, утратившая навязанное, но успокаивающее
своей простотой и прямолинейностью видение мира, потеряла
и веру в гуманитарные науки — философию, историю,
103
социологию, — искажавшие действительность по указке, веру
в продажное искусство. Молодежь обратилась с поисками
смысла жизни к точным наукам, новые области которых,
так долго запретные, открывались одна за другой. Ядер-
ная физика, математика, электроника, кибернетика, автоматика
— обещали новую, на этот раз верную — точную —
разгадку всех тайн мироздания, давали в руки конкретные
инструменты для построения будущего благополучия и
счастья.
Последовала почти всеобщая мода на точные науки,
началась дискуссия о космосе, об обитаемости других миров,
обсуждались последние технические нововведения.
Это увлечение повлекло за собой небывалый спрос на НФ.
Если до тех пор ежегодно появлялось не больше 10 книг
НФ, то в начале 60-х гг. эта цифра возрастает в десять раз, и
больше. За семь лет, с 1959 по 1965 г., было опубликовано
1266 произведений НФ русских и иностранных писателей
общим тиражом около 140 миллионов экземпляров19.
Начинают выходить сборники советской научно-фантастической
литературы: ’’Дорога в сто парсеков” (1959), ’’Невидимый
свет” (1959), ’’Альфа Эридана” (1960), ’’Золотой
лотос” (1961). Появляются новые писатели.
Очень быстро определяются главные направления.
Прежде всего, надо сказать, что никогда до конца не
умирала ’’ближняя” фантастика. И в начале 60-х гг. продолжаются
вариации на старые темы.
В ’’Пленниках пылающей бездны” (1959) Б. Фрадкин
снова рассказал о подземоходе и о путешествии в глубь
земли; снова появились строго хозяйственные технические
новинки: революционный метод укрепления бурильных
скважин каменной водой (С. Житомирский, ”Проект-40” ,
1959), орошение пустынь посредством окраски ледников
в черный цвет, из-за чего они должны в скором времени
растаять (Г. Гуревич, ’’Черный лед” , 1962); хитроумные
электронные приборы, запущенные немецкими реваншистами
на советские военные полигоны, действуют в качестве
миниатюрных разведчиков (Н. Томан, ”Мэйд ин”, 1962);
104
если открывался новый принцип в науке или технике, то
его использование старательно ограничивалось: аппарат,
передающий биотики, действует на безопасные 20 метров
(М. Дунтау, ’’Жертвы биоэлектроники”, 1961), антигравитация
служит усовершенствованию акробатических номеров
в цирке (Н. Томан, ”В созвездии трапеции” , 1964).
В большом романе ’’Рождение шестого океана” (1960)
Г. Гуревич повторил буквально все обыгранные в начале
50-х гг. стереотипы: его герои ищут и находят способ получения
электричества из атмосферы, учатся передавать ток на
расстоянии через ионосферу направленным лучом; шпионы
крадут секрет открытия, чуть не убивают одного из героев;
экзотическая страна (Индия?), только что получившая независимость,
должна погибнуть от нищеты и происков
бывших колонизаторов, но СССР строит для нее станцию
приема электроэнергии и будет безвозмездно снабжать
жизненно необходимым током; капиталисты саботируют
строительство, а под конец даже крадут советский ток для
несчастной голодной страны, построив приемную станцию
на Аляске; все кончается хорошо: пиратская станция, не
обладая достаточной мощью, взрывается, разметав в атмосфере
куски главных злодеев.
На пути новой волне в НФ геройски встал В. Немцов,
опубликовав роман ’’Последний полустанок” (1959), в
котором принципиально отказывается от полетов в дальние
галактики, от выходцев с других планет: ’’автор не берется
угадывать, какой будет техника через много лет — жизнь
часто обгоняет мечту”20. Зато говорится в романе о чудесных
аккумуляторах, о картонных самовзрывающихся
орлах-шпионах, летающих над СССР, о том, как американские
ракеты срывают полет исследовательской лаборатории-
дирижабля.
Впритык к ближней фантастике пользуется благосклонностью
критиков и подростков фантастический памфлет,
жанр-гибрид, в котором бичуются пороки капиталистического
общества.
Классик этого жанра Л. Лагин, написавший до войны
105
одну из самых популярных книг для детей ’’Старик Хотта-
быч” , а после войны — серию романов-памфлетов и сказок,
не считает себя автором НФ. Для него научно-фантастическая
завязка - препарат, стимулирующий рост организмов, взятый
у Уэллса (’’Патент АВ” , 1947), или полет в космос
куска материка, оторвавшегося от земли вместе с двумя
капиталистическими государствами, на нем расположенными,
почти точная парафраза ’’Гектора Сервадака” Ж. Верна
(’’Атавия Проксима” , 1956) — всегда служит публицистической
цели, становится претекстом для развертывания политической
карикатуры.
С начала 60-х гг. очень часто получается наоборот: капиталистический
мир превращается в благодарный материал
для занимательного рассказа; он дает возможность рисовать
самых невероятных персонажей: преступных ученых — бывших
нацистов, прогрессивных гениев, погибающих в нищете,
сумасшедших генералов, проходимцев-предпринимателей,
невежественных и развратных священников, убийц из ОАС,
гангстеров и частных детективов. Писатели без особой
затраты сил убивают двух зайцев: создают острый приключенческий
сюжет и политической ’’заостренностью” доказывают
свою благонадежность и активность в литературной
борьбе за мир.
Со всеми деталями придумал такую капиталистическую
страну, например, В. Ванюшин в романе ’’Вторая жизнь”
(1962).
Страна эта зовется Вестландией. Жизнь в ней подчинена
поистине зверским законам. В столице нельзя по воскресеньям
читать газеты на улицах, нельзя выходить в город без
галстука, чихать без платка, принимать девиц дома, — старые,
но не отмененные законы (действие происходит в 60-е
годы), позволяющие вездесущей полиции арестовать и приговорить
к десяти годам концлагеря любого правонарушителя.
Капиталисты замышляют, разумеется, превентивный
атомный удар против СССР. На их несчастье, советский
ученый, работающий в Международном геронтологическом
институте, строит прибор для оживления мозга после его
106
смерти. Ученый воскрешает ликвидированного наемными
убийцами свидетеля заговора, коварный план раскрывается,
жители рабочих кварталов маршируют на столицу, братаясь
с армией. Растет волна народного гнева.
’’Вторая жизнь” и ’’Желтое облако” Ванюшина, книги
А. Винника, О. Бердника и т. д. имеют мало общего с НФ.
По типу событий они гораздо ближе к приключенческому
жанру и очень напоминают ’’красный Пинкертон” 20-х годов.
За сорок лет трафаретный Запад ничуть не изменился,
даже преступники, казнь которых транслируется по телевидению,
в последний момент выкрикивают те же рекламные
лозунги (деньги за рекламу пойдут на пропитание сирот).
Разница лишь в том, что в 20-е годы такие истории могли
претендовать на оригинальность, теперь же их пересказывают
с чужих слов. Причем политическое содержание новых
’’Пинкертонов” все более и более условно.
Особенно хорошо это видно на так называемой ’’пародии”
западных детективов, где ненависть к капитализму
почти полностью уступает место радостному возбуждению
писателя, получившему возможность описывать самые
неправдоподобные происшествия.
Советский читатель привык к тому, что литература предлагает
ему не развлечение, а нравоучение. Но жажда сильных
и не слишком идейных эмоций частенько дает о себе знать
и строителям нового мира. Это отлично понимают и те, кто
ведает литературой. Классические приключенческие романы
давно и хорошо известны в СССР. Дух приключений, открытий,
борьбы в сочетании с упрощенной психологией считался
полезным для воспитания нового человека, предназначенного
для непрекращающейся борьбы с врагами и природой.
Горький в предисловии к сочинениям Фенимора Купера
писал о великих революционерах, воспитавшихся на подражании
куперовским героям. Поэтому даже в худшие времена
классики-приключенцы пользовались сравнительными
поблажками, а в 50-е гг. возобновились их массовые издания:
книги Майн Рида, Хаггарда, Киплинга, французских
авторов, давно забытых во Франции — Жаколио, Луи Буссе-
107
нара, Гюстава Эмара, — заполняли книжные полки магазинов
и мгновенно раскупались.
Попыткой создать конкуренцию Западу и был — частично
— ’’красный Пинкертон” . Я говорил о фантастико-утопической
его разновидности, но ’’пинкертоновщиной” назывались
и многочисленные романы о детективах, уголовниках,
кладоискателях. Возник даже еще более курьезный поджанр:
советский колониальный роман. В 1929 году Хаджи
Мурат Мугуев опубликовал ’’Огненную Лапу” , мелодраматическую
имитацию Киплинга со всеми колониальными
атрибутами. Критика уничтожила это проявление мещанства.
Тем не менее, очередные книги Мугуева, типичные
сенсационные романы, издаются — с перерывами — вот уже
полстолетия и пользуются неизменным успехом.
К этому-то смешанному по внешним признакам, но вполне
однородному по внутренней структуре жанру, принадлежат
и фантастические памфлеты, пародии и истории о приключениях
в западных странах: их суть составляет не арсенал
— обычно убогий — научно-фантастических средств, не
сатира, а серийное и бесконечное нанизывание убийств,
похищений, грабежей и погонь. Книги эти чаще всего весьма
низкопробны в литературном отношении, но справедливости
ради следует отметить, что случается найти среди них достаточно
умело и занимательно рассказанные, не слишком
уступающие своим американским образцам: некоторые
повести П. Багряка, нечто вроде полуюмористических детективов
с превращениями (’’Кто?” , 1966; ’’Перекресток” ,
1967; ’’Синие люди”, 1970), или же ’’Белое снадобье”
(1973) 3. Юрьева — история войны гангов в будущей Америке,
где богатые живут в охраняемых поселках, а заброшенные
города-джунгли кишат бандитами и наркоманами.
Лучшие произведения этого рода разделяют с худшими
те же главные свойства: рыхлую композицию и слабые
концовки — дефект большинства книг с серийно построенными
сюжетами, — и прежде всего, полную условность и
стереотипность фона, деталей и персонажей, заимствованных
из авторитетных источников, таких как романы Ник. Шпано-
108
ва о ’’Поджигателях” или произведения выдающихся советских
обличителей Запада, — Эренбурга, А. Толстого, Федина,
Леонова (кстати, ’’Бегство мистера Мак-Кинли” , 1960, Леонова
— по всем параметрам принадлежит к жанру фантастического
памфлета). В последнее время книг, написанных по
тем же рецептам и имитирующих те же образцы, становится
все больше — я еще вернусь к этой теме.
Заимствованными идеями живет еще одна разновидность
приключенческой литературы, своим экзотизмом близкая
колониальному роману: советская космическая опера,
возродившаяся в счастливый для НФ 1959 год.
Трюк заключался в том, что к обычным приключенческим
схемам были добавлены космические и инопланетные
мотивы. Л. Оношко пересказал содержание ’’Аэлиты”
А. Толстого в венерианской мелодраме ”На оранжевой планете”
(1959), К. Волков перенес почти тот же сюжет на Марс
в повести ’’Марс пробуждается” (1961). Но самую настоящую
космическую оперу создал А. Колпаков в своем романе
’Триада” (1959). Я не могу отказать себе в удовольствии
передать здесь его сюжет.
В XXIII веке на коммунистической Земле старый профессор
открывает принцип антигравитации и строит ’’гравитонный”
корабль, на котором летит к центру галактики вместе
с молодым героем. После удивительных происшествий в
полете, вызванных парадоксом Эйнштейна, они приземляются
на Триаде, где обнаруживают тоталитарное общество.
Каста ученых — лысых с птичьими клювами Познавателей,
— эксплуатируют массы грианоидов-тружеников, гораздо
более симпатичных по внешности. Наука Триады ушла дальше
земной, но ее применение односторонне: в течение тысячелетий
Познаватели ведут пропаганду ”с помощью гигантской
идеологической машины — кино, телевидения, радио,
печати, с помощью достижений биофизики, биологии и психологии,
сочетая идеологический нажим с удовлетворением
насущных материальных потребностей тружеников”*1. Наши
герои бегут от ученых и попадают на запретный Остров.
Там стоит корабль метагалактиан, представителей цивилиза-
109
ции, познавшей почти все тайны мира. Они изучают Гриаду,
но не вмешиваются в ее дела, так как Познаватели грозят
лишить энергии всю планету, и тогда погибнут подводные
города, где работают грианоиды. Герои-земляне молниеносно
находят решение. Профессор галактианским методом
’’перестраивает” пространство вокруг себя так, что становится
невидимым и препятствует отключению энергии. Познаватели
атакуют могучими средствами Остров, но галак-
тиане уничтожают их всех, включив ’’генератор поля Син” :
”по океану несся нечеловеческий, потрясающий душу рев —
это кричали Познаватели, превращаясь в мезонное излучение,
в пыль, в ничто...” Гриада освобождена. Галактиане
отвозят героев домой, снабдив их всеми своими научными
познаниями. На Земле за это время прошел миллион лет,
но никто этим не затрудняется, и меньше всех — главный
герой, невеста которого, совершенно свежая, выходит ему
навстречу из Пантеона Бессмертия, где ждала его погруженная
в анабиоз.
Забавная эта — несмотря на свою вздорность — книга
стала козлом отпущения советской критики, ортодоксальной
— из-за своей несерьезности, и менее ортодоксальной —
по той же причине. В защиту ее (и других космических опер
— книг Волкова и Оношко, ’’Сердца Вселенной” О. Бердника,
’’Звездного бумеранга” С. Волгина, ’’Путешествия
’’Геоса” В. Новикова) можно сказать что среди советских
книг, пожалуй, нет больше написанных с такой беспечностью
и презрением к правдоподобию (от комиксов Гончарова
их отличает лишь не такая явная автоирония). В этом
смысле они перещеголяли даже псевдодетективные пародии.
В них в чистом — хотя очень несовершенном — виде
появляется рассказ как занимательная опись событий, то,
что американцы зовут ’’стори-теллинг” , — явление чрезвычайно
редкое в советской литературе. К тому же, и это важно
для исследователя, такие книги в силу своей несамостоятельности
очень точно — иногда раньше других — указывают
расхожие идеи и настроение умов для определенного времени.
В ’Триаде” , кроме ’’перестроенного пространства” ,
110
’’поля Син” , сверхсветовых скоростей и времени, исчисляемого
в миллионах лет, — доказательство внезапно обретенной
свободы воображения, — есть элементы антиутопии,
впервые после трех десятков лет.
Количественно книги, о которых мы говорили, — ’’ближняя
фантастика” и политический памфлет, продолжающие
главное течение 40-50-х гг., приключенческий памфлет, пародии
и космическая опера, возвращающиеся к традиции
20-х гг., занимают важное место в литературе нового периода,
использующей приемы НФ.
Не они, однако, определяют ее облик.
Этот период недаром открыла ’’Туманность Андроме-
ДЫ .
В рассказе В. Журавлевой ’’Сквозь время” (1959) врача-
лепролога, заболевшего проказой, замораживают до того
времени, когда найдется лекарство, способное его вылечить.
Длительность эксперимента устанавливается на два десятилетия.
Герои рассуждают: ’’Двадцать лет — это другие люди,
другая жизнь, другая эпоха”. Девятнадцать лет проходит,
врача размораживают. Просыпаясь, он видит Зорина, руководителя
эксперимента, и шепчет: ’’Девятнадцать лет...
Люди... — Зорин понял. - Да, коммунизм, — он улыбнулся.
- Многое изменилось”22.
Смешно и грустно читать сегодня этот рассказ. Но в
1959 году у многих - если не у большинства - было это
ощущение перелома, времени, готового помчаться галопом,
коммунизма, ожидающего за углом.
НФ стала ’’литературой крылатой мечты” — так ее определяли
критики, писатели23, так ее воспринимали читатели.
С дня на день ожидались великие открытия и, разумеется,
они должны стать уделом советских ученых: как никак,
советские спутники первыми вышли на орбиту. От этих открытий
зависит судьба мира.
В ’’Детях земли” Г. Бовина (1960) советский корабль,
’’воплощенное чудо, созданное нашим трудом”, летит на Венеру.
Сообщение об этом слушает весь мир: на Западе ’’совершенно
незнакомые люди поздравляли друг друга, цело-
111
вались и шумно, как дети, выражали свой восторг”24.
’’Советское чудо”, полет героя, расщепленного в луч
света, на расстоянии 10 тысяч километров, ведет к потрясающим
последствиям в повести М. Ляшенко ’’Человек-
луч” (1959). На материализующегося героя нападает вражеский
самолет. Европейская общественность потрясена
беспримерным подвигом и беспримерным злодейством,
повсеместно проводятся митинги, Европа разоружается,
— начинается новая эра.
Еще более нетерпеливый, чем Журавлева, Ляшенко
сократил время ожидания чуда до десяти лет. В его повести
действие происходит в 1970 году, когда решена Институтом
научной фантастики проблема тяготения и передачи вещества
на расстоянии, созданы совершенные ’’счетно-вычислительные
машины, сформированные в виде человека” и
играющие в хоккей, а Институт Долголетия завершает работы,
в результате которых человек сам сможет регулировать
свой возраст.
Вера в науку доходит до предела в повести А. Полещука
’’Ошибка инженера Алексеева” (1961). Инженер Алексеев,
на основе новой теории строения материи проводящий опыт
по созданию зародыша атома, создает около Земли целую
микрогалактику. Когда Алексеев пытается прервать опыт,
необычайно высокая цивилизация, развившаяся в микрогалактике,
где время течет в 20 миллиардов раз быстрее,
заключает всю лабораторию в блок прозрачного и несокрушимого
материала. ’’Микроцивилизация” , обогнавшая на
миллиард лет земную, завязывает с Землей дружественные
отношения.
Несколько меньшие масштабы, но не меньшая эвфори-
ческая надежда на научное чудо отличает других писателей,
занявшихся в то время всерьез исследованием возможностей
НФ.
Все тогда было новым: новые писатели, новые темы. Почти
каждый опубликованный рассказ в чем-то был первым.
А. Днепров впервые в советской литературе подробно и
обстоятельно описал сложные кибернетические машины в
112
наделавших много шуму рассказах ’’Крабы идут по острову”
и ’’Суэма” (1959). Гостей с первой планеты из антивещества
ожидают герои ’’Богатырской симфонии” (1960)
Г. Альтова. И. Забелин в ’’Загадках Хаирхана” (1960-61)
изобрел прибор, позволяющий видеть прошлое. А и Б. Стругацкие
написали рассказ ’’Шесть спичек” (1959), где в первый
раз зашла речь о телекинезе. Во ’’Второй экспедиции на
Странную ’’планету” (1960) В. Савченко первым описал разумные
существа, ни в чем не напоминающие людей: неорганические
’’ракетки” , все жизненные процессы которых
проходят во много сотен раз быстрее, чем у человека. Даже
специалист по ’’хозяйственным” темам Г. Гуревич принялся
за новые идеи: в ’’Инфре Дракона” (1959) он рассказал о
цивилизации на близком нам, но невидимом в телескопы
черном карлике. И т. д.
Написанные в открывательском азарте, истории эти чаще
всего весьма примитивны в литературном отношении: главное
в них заключается в изложении идеи. Поэтому очень
мало ’’чистой” фантастики выходит за пределы короткой
формы: рассказа или — реже — повести.
Но в то же время ощущение значительности перемен,
ожидание новой эпохи внутренне связывает рассказы, не
дает им рассыпаться энциклопедическим собранием разрозненных
мыслей о перспективах науки. Близкое или не
очень отдаленное будущее — время действия большинства
из них. Иногда будущее перестает быть пассивным фоном
для реализации научной мечты и наделяется более или менее
определенными признаками. В таком конкретизирующемся
фоне вырисовываются все новые детали, они требуют
постоянного дополнения.
Короткая форма не удовлетворяет: рождаются циклы
рассказов и повестей, вариации на главные темы, со сквозными
героями.
Серии рассказов В. Сапарина, Г. Альтова, Г. Гуревича
дают панораму блестящих свершений коммунистического
общества.
Случается, что связь между рассказами настолько сильна,
ИЗ
что достаточно взять их в рамки некоего общего сюжета,
чтобы получить роман: так сделал, например, Г. Гуревич,
включивший ранее публиковавшиеся рассказы в свою книгу
о коммунизме ”Мы — из Солнечной системы” (1965).
Аркадий и Борис Стругацкие, которым суждено будет
сыграть одну из главных ролей в дальнейшем развитии
жанра, дебютируют рассказом ’’Извне” (1958), и вскоре
публикуют ’’Страну багровых туч” (1959) — первую книгу
большого цикла.
Очень любопытно и характерно постепенное перемещение
центра тяжести в повестях этого цикла.
’’Страна багровых туч” — не слишком умело написанная
история полета советского корабля на Венеру в самом конце
нашего столетия. Переполненная трафаретными приключениями
и техническими подробностями, она — типичный
образец оптимистической ’’чистой” НФ о технике и подвигах
будущего.
Вторая повесть Стругацких ’’Путь на Амальтею” (1960)
рассказывает о полете встретившихся в первой книге и ставших
неразлучными друзьями героев — планетологов Дауге
и Юрковского, пилота Быкова, штурмана Крутикова — на
исследовательскую станцию на орбите около Юпитера. Здесь
приключения — фотонолет терпит аварию и начинает падать
в атмосферу Юпитера, - описаны совсем иначе, сдержанно
и сурово, без бывшей ранее восторженности. Полет опасен,
но он — один из многих. Речь идет не о великих открытиях,
а о буднях космической жизни.
Будущее предстает не как прерывистая цепочка вершин
— исключительных, меняющих облик вселенной событий, а
как наполненная событиями повседневность.
Поворот в сторону повседневности еще резче в ’’Стажерах”
(1962). Наши знакомые — старики, Дауге врачи запретили
летать, Юрковский и Крутиков отправляются в последний
рейс в качестве почетных пассажиров: первый —
инспектор Международного Управления Космических Сообщений,
второй пишет мемуары. Повесть начинается с обыденного:
провожавший друзей Дауге разговаривает со своей
114
бывшей женой, мещанкой, которая никак не хочет понять,
что смысл жизни — в работе.
На протяжении всего рейса герои непрерывно встречаются
с повседневностью: монотонная жизнь колоний на Марсе,
скандалы и пьянство иностранных пилотов в международном
космопорту — в начале XXI века еще существует
потерпевший поражение в экономическом соревновании
капитализм, — организационные проблемы на базе астрономов.
Главный конфликт повести — психологический. Он
разыгрывается между склонным к цинизму Юрковским,
считающим, что жизнь скучна и нужно разряжаться в великолепных
вспышках, — и трудолюбивым угрюмым Быковым,
для которого жизнь — вечная борьба и ^прекращающееся
напряжение. Но, несмотря на внешнее несходство,
оба они — романтики, рыцари космоса.
Новичок из ’’Амальтеи” , а ныне опытный пилот Жилин
- главное действующее лицо книги, выбирает другой путь.
После геройской, но бессмысленной гибели Юрковского и
Крутикова, он приходит к выводу, что человек ’’должен
жить” . Подвиг — не самое главное, на Земле ждут проблемы,
которых не решить наскоком, не избежать с помощью
самых удивительных открытий. Жилин бросает карьеру космонавта
и возвращается на Землю.
В ’’Стажерах” Стругацкие — уже достигшие изрядного
литературного мастерства, начавшие проявлять необыкновенное
для советских авторов умение заполнять вымышленный
мир полновесными деталями, — осознают, что самая
могущественная наука и техника — средства для достижения
цели: счастья человека.
Опубликованная в том же году повесть ’’Возвращение
(Полдень, 22-й век) ” показывает осуществленную цель
— коммунистическое общество.
Так Стругацкие проходят путь от оптимизма в науке к
социальному оптимизму. Большинство своих рассказов
начала 60-х гг. о будущем науки писатели включают в
первое и второе издание повести о будущем общества — в
115
качестве ’’добавочной информации” . В центре внимания
становятся люди нового общества и их отношения.
Научно-техническая и социальная утопия — главная тема
первых лет заново родившейся советской НФ.
Над ней как недосягаемый образец возвышается ’’Туманность
Андромеды” .
’’Кажется почти невозможным что-либо добавить к
ефремовской картине — все кажется частностями”25, пишет
критик и писатель Р. Нудельман. Действительно, рассказы
Сапарина, Гуревича, Альтова, Журавлевой, романы Мартынова,
Забелина, даже ’’Возвращение” Стругацких воспринимаются
как дополнение книги Ефремова.
Во всех этих книгах (и в более поздних романах утопической
тенденции) повторяются — иногда буквально — основные
черты ефремовского построения. Нудельман объясняет
успех ’’Туманности” ее грандиозным антропоцентризмом.
Мне думается, что дело в другом. Ефремов создал
классическую утопию со своей, продуманной и прочувствованной
программой улучшений, с критикой, направленной
в современное ему общество, с восстановлением забытых
традиций. Многие идеи ’’Туманности” после некоторых
колебаний были приняты и одобрены официально, остальные
снисходительно раскритикованы и отодвинуты в тень.
Составился, как мы сказали, новый образец романа о будущем.
Последующим писателям оставалось либо оторваться
от этого образца и взяться за построение собственной утопии,
либо подражать образцу и пополнять его, выискивая
недосказанное. Увы, писателей смелых и самостоятельных,
имеющих свои собственные мысли и отвагу их высказать,
не оказалось.
Недосказанное осталось недосказанным, и советские
утописты принялись, ничем не рискуя, усердно повторять
то, что было повторением уже у Ефремова. А то, что Ефремов
внес от себя, чаще всего пропускалось или исправлялось.
Ни в одной другой утопии мы не найдем эквивалента
Острова Забвения (куда могут добровольно уйти люди, не
желающие или не умеющие включиться в ритм жизни об-
116
щества) или Острова Матерей (где живут матери-индиви-
дуалистки, воспитывающие своих детей сами, а не отдающие
их в общественные школы). Такого рода гнилой либерализм
совершенно не под силу строителям счастливых обществ,
позволенных руководящими органами. Зато обитатели
Земли через два тысячелетия знают назубок всех
Героев Советского Союза времен Отечественной Войны,
и украшают их бюстами научные лаборатории: так предупреждает
брошенный Ефремову упрек в забвении героического
прошлого Г. Мартынов в ’’Госте из бездны”
(1962).
Ефремов размышлял о том, как прийти к совершенству,
как построить совершенное общество. В следующих книгах
размышлять уже было не о чем: человек и общество давно
достигли идеала, а теперь достигают неограниченной власти
над природой. Советская утопия катится силой инерции по
проложенным Ефремовым рельсам.
В рассказе В. Журавлевой ’’Человек, создавший Атлантиду”
есть размышление, приложимое и к НФ в целом, и к
ее утопическому ответвлению, в частности. Приводится сюжет:
из далекого полета на Землю возвращаются космолетчики,
истосковавшиеся по родине. Вдруг с Земли приходит
просьба догнать проходящую невдалеке комету из минус-
материи и исследовать ее, отдалив встречу с Землей на
долгие годы. На эту тему можно написать два рассказа.
В первом ’’фантастическая ситуация... нужна только для
того, чтобы поставить человека в необыкновенные условия.
А во втором — необыкновенная ситуация становится целью.
Главное уже не человек, а фантастические приключения”26.
Первый рассказ должен ставить проблему: вернуться или
согласиться на разлуку с родиной. Такой рассказ написан:
написала его Журавлева и помещен он в том же сборнике.
Необыкновенные условия у Журавлевой есть, есть и проблема,
но ее решение заранее известно всем: Открыватель,
мечтавший увидеть Землю, отправляется в дальнейшие
странствования в космических далях.
Это проблема мнимая, общее место, вытекающее из
117
другого общего места: представления об идеальном человеке.
Раньше ближняя фантастика вообще не ставила никаких
проблем. ’’Чистая” НФ конца 50-х — начала 60-х гг. сталкивалась
с проблемами, но не замечала их. Разница уровней цивилизации
в миллиард лет не смущает героев ’’Ошибки инженера
Алексеева” — они прекрасно сумеют договориться.
Тающие ледники в ’’Черном льде” Гуревича не могут, конечно,
вызвать нарушения климатического равновесия. Кал-
листяне Мартынова истребляют всех хищных и даже просто
бесполезных (!) животных на своей планете и очень этим
гордятся.
Утопия же, занятая, казалось бы, социальными проблемами,
подменяет их под сурдинку общими местами, и успокаивается
на этом. Постановка действительных и серьезных
проблем связана с социальной критикой, но даже такая
отрывочная и, в сущности, неглубокая критика, как в
’’Туманности Андромеды” , не под силу последователям
Ефремова — и в этом их отличие от него и в этом же причина
их неспособности дать что-либо новое.
’’Литература крылатой мечты” — техническая и социальная
утопия — оказалась тупиком.
Избежали его в то время два писателя: В. Савченко,
автор ’’Второй экспедиции на Странную планету” и ’’Черных
звезд” (1960), — повести, в которой говорится впервые
о несвоевременности некоторых открытий, об ответственности
ученых перед миром, и Г. Гор в ’’Докучливом собеседнике”
(1961), единственной в то время книге НФ, где
видна и забота о литературном качестве. К пониманию того,
что становится необходимой новая форма, вплотную подошли
Стругацкие.
Между тем положение дел в стране менялось. В конце
1961 г. прошел XXII съезд партии, посвященный разоблачению
сталинских преступлений. В литературе началась вторая
оттепель.
Тогда же стало выясняться, что самые точные науки
118
сами по себе не помогут разобраться в окружающем мире.
Один из первых поэтов оттепели Б. Слуцкий написал стихотворение,
включившись в спор ’’физиков” и ’’лириков” :
Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете.
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы,
что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы.
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете
То-то лирики в загоне.
Поэт бросал обвинение поэзии в том, что она не сумела
сказать самое важное.
Такое же обвинение точным наукам представляют физики.
Роман Д. Гранина ’’Иду на грозу” (1962) посвящен науке
и людям науки. Его герои — молодые физики, которых
’’больше всего увлекала возможность научно осмыслить
происходящие перемены, и они горячо и самоуверенно перестраивали
этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром,
Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей
специальностью эпохи, от них, полагали они, зависит
будущее человечества, они были его пророками, благодетелями,
освободителями” . Они чрезвычайно удивляются, выслушав
мысли ’’человека из будущего” , гениального физика
Данкевича: ’’Что, по-вашему, отличает людей от животных?
Атомная энергия? Телефон? А по-моему, нравственность,
фантазия, идеалы. Оттого, что мы с вами изучим электрическое
поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь,
циклотрон! Ах, открыли еще элементарную частицу. Еще
119
десять. Мир не может состоять из чисел”27. Один из главных
героев романа, талантливый и блестящий Тулин, заинтересованный
лишь в достижении конкретных результатов в своей
работе и использующий для этого любые средства, губит
свой талант. Большое открытие достанется не ему, а его
другу, незаметному и очень обычному, терпящему одну неудачу
за другой, но которого отличает от других человеческая
совесть и честность перед самим собой.
Не очень глубокий, но очень симптоматичный роман Гранина
говорит о том, что наука не всесильна, что нравственная
чистота иногда дороже замечательных открытий, что
человек должен приглядеться к самому себе так же пристально,
как он приглядывается к движению электронов.
Этот простой вывод действителен прежде всего для НФ.
Он суммирует краткий период безоблачных надежд на будущее.
В
1962 г. выходит первый выпуск сборника ’’Фантасти-
ка” , который будет появляться ежегодно. В нем были напечатаны
’’Попытка к бегству” А. и Б. Стругацких и ’’Глеги”
А. Громовой — повести, положившие начало новому направлению
в советской НФ, вскоре получившее название ’’литературы
предупреждения” (в отличие от беспросветно пессимистической
западной антиутопии). В том же томе ’’Фантастики”
напечатана первая пародия на ’’Туманность Андромеды”
— рассказ А. Глебова ’’Большой день на планете Чунгр” .
Утопия подвергается сомнению. Рождается новая волна
в советской НФ. Заканчивается гегемония ближней фантастики,
утопии и приключенческой НФ, меняет свой характер
’’чистая” НФ.
Начинается новый этап — развитие научной фантастики
социальной и философской.
Прервем на этом хронологический обзор советской НФ и
перейдем к ее анализу. Я не пишу истории жанра, и для меня
важно не просмотреть как можно больше произведений и
назвать как можно больше писателей, а проследить, как
меняется структура жанра. Поэтому в дальнейшем я буду
говорить о книгах и писателях, не упоминавшихся до сих
120
пор, лишь изредка помещая их в хронологический контекст.
НФ интересует нас как литература и как часть советской
литературы. Советская же литература отличается от западной
прежде всего своей зависимостью от идеологического
диктата. Анализ связей между литературой и идеологией
оставим на позже, здесь ограничимся примером.
Г. Гуревич в своей книге о НФ делает такое признание:
”Я написал небольшую повесть ’’Наш подводный корреспондент”
(’’Приключения машины”) . Речь шла о самоходной
кибернетической машине... Писалось это в 1956 г., в первый
год признания кибернетики, и я не решился сделать машину
очень уж современной”28. Писатель говорит, что сам коверкает
центральную идею своего произведения — подчеркнем,
что он делает это в ’’незабываемом 1956 году” , уже не открывая
запретные двери и не в результате вмешательства
цензуры: нет, тут действует идеологическая автоцензура,
главный элемент творческого процесса в советской литературе,
искусстве, науке, — и говорит об этом, как о чем-то
вполне естественном, будучи уверенным, что читатель не
может не разделять его мнения.
Этого рода феномен неизвестен в нетоталитарных странах.
П
оэтому, говоря о литературе в СССР, нельзя не говорить
о ее идеологическом содержании. Роман Дудинцева оставил
глубокий след в жизни советского общества и в литературе
не потому, что был выдающейся книгой — написан он очень
традиционно и посредственно, — а потому, что начал открытую
полемику с официальной идеологией.
Форма и содержание, как известно всем, неделимы. Но
здесь, говоря о советской НФ, я отделю собственно литературный
анализ от идеологического толкования. Как я говорил
во введении, я сознаю искусственность такого подхода и
не буду претендовать на чрезмерную в нем последовательность.
Но мне он кажется целесообразным при объеме материала,
с которым приходится работать, — для ясности изложения
и во избежание повторов.
121
Глава 4
СТРУКТУРЫ ЖАНРА: ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Литература богаче литературного языка в том смысле,
что она призвана создавать формы, непредусмотренные
грамматическими правилами.
Почти треть века, с конца 20-х до конца 50-х годов, советская
литература была беднее учебника по грамматике.
Прошлое время в ней либо говорило о настоящем (в очень
условном наклонении), либо блуждало по страницам исторических
романов наподобие зомби, — как мертвая оболочка,
потерявшая душу, спрепарированную из того же настоящего
по общеобязательному рецепту. Будущее же время
отсутствовало.
В литературу будущее время вернулось под видом утопической
и научно-технической фантастики.
В одном из ранних рассказов В. Журавлевой ’’Голубая
планета” (1959) планетолет возвращается на родину после
нескольких лет странствий. Из-за недостатка горючего
122
космонавтам приходится, не долетев до Земли, высадиться
на Марсе. Они не узнают знакомой, спокойной, уже обжитой
исследователями планеты: людей нет, радиация высокая,
ужасные ураганы. Объяснение приходит довольно быстро:
люди создают на Марсе атмосферу, устроив на нем термоядерные
очаги с управляемой цепной реакцией.
Течение времени выражено здесь не теми событиями, которые
приключились в космическом рейсе — хотя им и
посвящена большая часть рассказа, — а скачком, проделанным
земной техникой за недолгие годы отсутствия героев,
еще точнее — наглядным результатом этого скачка.
Не события и действия, а их результаты остаются во времени.
Преображение облика Земли, разжигание новых солнц,
новые машины и звездолеты нужны для того, чтобы отсчитывать
ход времени, это точки кристаллизации времени,
только в них время материализуется; между ними — насыщенная
действиями людей бесформенность, хаос, содержащий
в себе новые потенциальные кристаллы времени.
Г. Гуревич в книге ”Мы — из Солнечной системы” подробно
рассказывает о школьной системе коммунистического
будущего. При переходе из класса в класс дети получают
подарки. Сначала им ’’дарят время” - часы; затем -
’’эфир” , радиобраслет, с помощью которого они могут разговаривать
с любым жителем Земли; следующий подарок
— ’’ключи от плодов” , т. е. право получать по потребностям;
и, наконец, дарятся вода (обувь из ’’аквафобита” , позволяющая
ходить по воде) и небо (авиаранец).
Отметим самое очевидное: все без исключения подарки
не что иное, как продукты развитой технологии — автору
почему-то не приходит в голову дарить детям ’’живопись”,
’’музыку” или же ’’дружбу” , — обратим внимание на то,
что и сами дары, и их последовательность довольно случайны.
’’Эфир” можно было бы подарить после ’’ключей” , а
вместо ’’воды” — ’’землю” , изменений в педагогической
системе и, главное, в принципе отсчета времени по предметным
вехам — техническим достижениям — не было бы.
123
Если сравнить фантастико-утопические произведения под
этим углом зрения, окажется, что некоторые открытия в
них повторяются, другие принадлежат какому-нибудь одному
писателю; Гуревич открывает ’’ротомацию” , воспроизведение
и передачу на расстояние материи, а Снегов — превращение
времени в пространство и наоборот; все пишут о
чудесах медицины и космической техники; величайшие
открытия начинают новые периоды в развитии человеческого
общества. Напрасно было бы, однако, искать в веренице
открытий определяющее начало. У Ефремова открытие
мгновенного перехода в пространстве происходит через две
тысячи лет, у Снегова — через пятьсот, в книге Е. Войскун-
ского и И. Лукодьянова ’’Плеск звездных морей” (1969)
— в XXI веке, а для Ляшенко — это вопрос десятка лет.
Думающие и чувствующие роботы описаны Днепровым в
обстановке нашего времени, у Г. Гора они появляются в
XXIII веке (’’Странник и время”, 1962), над их созданием
работают в повести В. Михановского ’’Когда параллели
встречаются” (1967) в XXI веке, но их нет ни у Ефремова,
ни у Гуревича, ни в будущем мире ХХХЕХ столетия, описанного
Г. Мартыновым в ’’Госте из бездны” (1962) .
Впечатление такое, что писатели не задумываются, какое
открытие нужнее человеку и должно, в связи с этим, произойти
скорее, чем другое, нужное на другом этапе развития,
в другое время. Открытия являются открытиями не
по отношению к человеку, а по отношению к предыдущему
состоянию науки и техники.
Время сокращается или вытягивается в зависимости от
того, каким темпом идет усовершенствование технологии.
”Мы измеряем жизнь не годами, а открытиями, путешествиями”
1, говорит один из типичных героев советской
’’оптимистической” НФ.
Ни внутри себя, ни в окружающем его мире человек не
ощущает течения времени; той жизни времени, о которой
писал Мандельштам:
Это век волну колышит
Человеческой тоской,
124
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.
У человека больше нет сознания времени, вместо него
есть знание того, что время должно двигаться; и человек
подталкивает время, изготовляя все новые и новые предметы;
так происходит отчуждение человека от времени, отождествленного
с научно-техническим прогрессом, очередные
этапы которого обозначены Свершениями.
А. и Б. Стругацкие в первой части ’’Улитки на склоне”
(1966) описывают глухую деревню, расположенную в фантастическом
Лесе. Жители этой деревни пытаются разобраться,
что происходит в большом мире, ставят вопрос, в какое
время они живут — ходят слухи о войне. ’’Слухач стал объяснять,
что никакой войны нет и никогда не было, а есть и
будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление,
возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление
давно кончилось, уж сколько лет, как Заболачивание...
Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил,
что все это нельзя, что нет никакого такого Заболачивания,
а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на
Юге... Да никакие это не утопленники, и не борьба это и
не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержа-
ния!”2.
Достаточно назвать технологические свершения лозунгами,
которыми они обычно сопровождаются, и произвести
небольшую грамматическую операцию — лишить штампованные
фразы дополнения, как это сделали Стругацкие, и
время обезличивается, его ’’кристаллы” растворяются,
как растворяется смысл определяющих его слов: остается
хаос.
Мы говорим о времени литературном.
В утопических романах и в большинстве рассказов о будущем
композиционные узлы — великие открытия или очередные
технические достижения. Роман Забелина ’’Пояс
жизни” начинается формулировкой проекта освоения Венеры,
затем идет подготовка его реализации, наконец полет
и начало работы: постройка Землеграда, первые посевы.
125
Время действия совпадает со временем осуществления проекта.
Индивидуальное время — психологическое и эмоциаль-
ное - полностью зависит от хода ’’технического” времени:
события личной жизни персонажей вводятся для того, чтобы
продвинуть вперед общую работу или, наоборот, ее затормозить.
Несколько более сложный вариант — когда речь идет о
нескольких великих достижениях сразу. В таком случае
время, не меняя своего характера, расслаивается на параллельные
потоки, мотивы, связанные эпохой и иногда героями.
Таковы циклы рассказов. В ”Мы из Солнечной системы”
Гуревича ведется хронологическое повествование о жизни
очевидца различных этапов освоения ротомации, и тут же
даны вставные новеллы со своей собственной хронологией
о жизни и деятельности (первое полностью обусловлено
вторым) авторов проектов, решающих проблему перенаселения
Земли: сооружения подводных городов, искусственных
плавучих островов на океанах, отепления полярных
областей и заселения космоса. Единственная точка пересечения
времен новелл — и вместе с тем единственный конфликт
книги — честная борьба между открывателями, т. е. дискуссия
о целесообразности той или иной технической концепции.
Побеждает ”Ааст Ллун — архитектор неба” , его космические
города станут новым этапом прогресса, а другие
проекты останутся в качестве более мелких, ориентировочных
отметок.
Время не усложняется от добавления новых линий: это
не новые грани времен, а та же грань, повторенная несколько
раз.
Повторение времени — тема рассказа Г. Альтова ’’Клиника
’Сапсан’ ” , написанного в 1967 г. В нем решена проблема
бессмертия, ставится первый эксперимент на человеке. Герои
долго обсуждают решение: можно выбирать между
увеличением продолжительности жизни (это означает долгую
старость: ”не растягивать же детство на сотни лет!”),
вечной молодостью (но вечно молодой человек, сформировавшись,
развивается только количественно — и это ’’самый
126
верный способ замедлить прогресс”) и, наконец, периодическим
омоложением. По мнению героев, только последний
вариант достоин внимания3.
Тщательно выбирается герой-объект эксперимента — без
семьи, талантливый ученый, которому должно хватить смелости
оставить свою работу, отказаться от полученных ученых
степеней и достижений, чтобы вернуться на десять лет
назад и начать свою жизнь сызнова. Рассказ составлен из его
заметок, сделанных за три часа до эксперимента — с целью
позже понять смысл своего превращения. Заметки касаются
революционных работ клиники ’’Сапсан” , места, где совершенствуется
человек.
Рассказ этот, может быть, лучшее проявление способа
мышления советской утопии, хотя на первый взгляд он
новаторский по форме. Это трактат о возможностях науки
и, вместе с другими рассказами Альтова, составляет как
бы объяснительную часть задуманного утопического романа.
Память и время — близкие понятия. Эксперимент, кроме
омоложения тела героя, должен омолодить его память.
Однако, полностью лишить его памяти последних лет не
имеет смысла; нужно ’’расшатать” память так, чтобы запомнилось
важное, а забылось несущественное, излишняя
нагрузка. Поэтому испытателем должен быть ученый: с
его ’’объективным самоконтролем и самоанализом” он
сможет решить, что нужно закрепить в новой памяти.
Что же считается существенным? Руководитель клиники
Панарин на себе доказывает возможность сосуществования
разных памятей: у него их девять, помимо первой, обычной.
Чему они служат? Они подготавливаются к самостоятельной
научной работе. Панарин одновременно впитывает в
себя десять разных научных текстов, думает над десятью
разными задачами, и хотя объем второй памяти меньше,
чем первой и т. д., соответственно возрастает скорость
мыслительных операций. Панарин уже почти может состязаться
с ЭВМ.
Бессмертие путем омоложения — как и многие памяти
127
— дает возможность прожить бесконечное количество жизней.
Но героям Альтова ясно, что переживать детство не
стоит; не нужна и вечная молодость. Цель бессмертия определена
точно. Человеческий мозг, говорится в рассказе,
имеет емкость 1015 —1016 битов. А за восемьдесят лет работы
по 8 часов ежедневно мы получим не больше 4,2.1010 битов.
Наши возможности использованы в одной миллионной
части. Итак, бессмертие, параллельные памяти и пр. — все
это нужно для максимального использования наших возможностей,
для бесконечного усовершенствования мозга,
’’столь же стремительного, как и развитие машин”4, для
научной работы, простирающейся в бесконечность. Жизнь
не для самой жизни, а для слияния в трудовом потоке, имя
которому — прогресс.
Глубина размышлений Альтова мнима. Он не хочет учитывать,
что помимо ”8-ми часов напряженной работы”
человек также получает информацию, которая зачастую
важнее научной и ценность которой мы еще не измеряем в
битах. Альтов не принимает во внимание, что кроме памяти
мозга существует память каждой клетки тела, что от памяти
зависит вся физиология и т. д. Вся сложность человеческого
организма, жизни, личности сведена к способности воспринимать
научную информацию.
Вот последние фразы рассказа, заметки написанные за
минуты до начала опыта:
”И еще одно: я не сирота. Панарин ошибся. Не знаю, как
это ускользнуло от его внимания. Ей двадцать четыре года.
Она геофизик. Сейчас она где-то в тайге. Что ж, я только
первый. Пройдет несколько лет, и само понятие возраста
дрогнет, расколется, обратится в прах.
Остались секунды. С почти физически ощутимой остротой
я хочу понять: какие же горы своротят победившие время
люди?..”5.
Мелодраматический полу-поворот концовки — мимолетное
вторжение какого-то иного, чем технологическое,
времени — сразу же сменяется победным возгласом, воспоминание
о любви стирается в общечеловеческом оптимизме.
128
Своего рода продолжением ’’Клиники ’Сапсан’ ” можно
считать написанный гораздо раньше рассказ А. Днепрова
’’Подвиг” (1962). Уже при коммунизме Земле угрожает
смертельная опасность от роста радиации Солнца. Людям
не хватает времени обработать информацию, нужную для
решения задачи, не могут быть составлены программы для
вычислительных машин. Тогда проводится эксперимент:
превращение даровитого ученого в гения. Дело в том, что
структура нервной системы человека все еще основана на
старой схеме приспособления к враждебным условиям
жизни. В коммунистическом обществе ’’ненужные традиционные
нервные связи” тормозят полное проявление гения
человечества, но их ’’можно легко и безболезненно разорвать
при помощи обыкновенной ультразвуковой иглы”6.
Что и делается. Ученый Корио становится гением, и за один
день находит выход из положения - та же победа над временем,
— спасая все человечество. В рассказе, однако,
выдержано некоторое напряжение. У Корио есть возлюбленная.
Она боится нового Корио, считает эксперимент противоестественным.
”Я глубоко убеждена, что такое искусственное
вмешательство в самую сущность человеческого
”я” не правомерно и не этично. — Даже если это необходимо
для решения жизненно важной задачи во имя всего человечества?
— Она промолчала. — Корио станет для людей более
ценным и полезным, чем сейчас. — Но он будет другим, понимаешь,
совершенно другим, чужим?..”7. Но гений-Корио
любит девушку во много раз сильнее и лучше, чем старый,
нормальный Корио. Ее опасения не могли оправдаться:
ведь они были вызваны теми самыми ненужными нервными
связями, ’’доставшимися ей из глубины веков” . Все, что
делается для блага человечества, отзывается благом для
каждого человека. Скоро все будут такими же, как Корио,
и человечество поднимется на новые вершины могущества.
Днепров дает понять, что сверх-гении будут людьми нового,
идеального типа, их чувства, фантазия, способность
ощущать мир будут идти в паре с интеллектуальным развитием.
129
Почему же нет среди утопических произведений хотя бы
одного, посвященного счастью вечной любви или вечного
творчества в искусстве?
Зато в ’’Людях как боги” Снегова голова великого математика,
погибшего в катастрофе, живет отдельно еще 32 года,
непрерывно выдавая научную продукцию. А в рассказе
М. и Л. Немченко ’’Двери” (1967), где люди могут получить
вторую жизнь, — с несколько ослабленными интеллектуальными
способностями, — они борются за честь попасть в Дом
Продолжателей, чтобы своевременно умереть, отдав свой
мозг машинам-анализаторам, которые продолжат неоконченную
ими работу.
Несмотря на необычную, казалось бы, обстановку XXI
или XXX века, на фантастические идеи и невероятные свершения,
советская утопия производит на нас очень знакомое
впечатление: мы различаем в ней характернейшие особенности
самой мощной ветви соц-реалистической литературы —
производственного романа.
В нем точно так же — начиная с самых первых, с ’’Цемента”
Гладкова, ’’Гидроцентрали” Шагинян, ’’Лесозавода”
Караваевой, и кончая книгами 50-х гг. и самых современных,
— время замыкается в пределах какого-нибудь технического
действия, так же отсутствует время человека или же
оно полностью подавлено течением общего ’’производственного”
времени — соответствующего общечеловеческому
прогрессу в НФ, — так же промежутки между делами заполнены
рассуждениями о необходимости дел, а вместимость
времени и его ценность зависит от количества процентов
выработанной нормы.
Жизнь, вмещающая сотни разных жизней, остается производственным
романом, вмещающим сотни разных производственных
романов.
Здесь причина моего убеждения, что советская утопическая
литература после ’’Туманности Андромеды” не составляет
отдельного, самостоятельного литературного жанра
утопии.
Время утопии — это время исправления ошибок настоя-
130
щего, качественно отличное — по меньшей мере, в замысле,
— от настоящего. Советская утопия видит будущее как
украшенное дополнение настоящего. ’’Настоящее хорошо,
будущее еще лучше” — уже известный нам лозунг. Можно,
конечно, показать, что и в послеефремовских книгах о
коммунизме есть переделка настоящего. Вот, например,
выхваченная наугад из первой части романа Снегова фраза:
”На Земле каждому человеку разрешено входить, куда он
захочет — на заводы, на склады, в институты, в общественные
дворцы...”8. Фраза бессмысленная в повествовании о
счастливом и довольно отдаленном будущем, если не знать,
что в Советском Союзе даже для входа в университет требуется
особый пропуск.
Анализ таких деталей подтверждает, однако, что это -
детали. Советская утопия подправляет и украшает, но не
меняет.
К тому же, если понимать движение времени как переход
от одного этапа прогресса к другому, и если прогресс определяется
современными научно-техническими критериями,
время вообще не может измениться: коммунистические
общества находятся на ином этапе, но не в ином времени.
В главах о сюжете и литературном герое я постараюсь
показать последствия такого понимания в структуре произведений,
показать, насколько, в сущности, близка советская
утопия своему антиподу в литературе, фантастике
’’ближнего прицела” .
Утопия, возродившаяся в результате реакции на тиранию
железных правил соцреализма, почти сразу же водворяется
обратно в лоно соцреалистической литературы. Она теряет
специфику утопического жанра, но и не становится полноправной
НФ, несмотря на все свои замечательные открытия.
Мы говорили, что функция НФ — построение альтернативного
мира, иначе говоря, поиски неизвестного. Советская
же утопическая литература имеет дело с хорошо знакомыми
временем и пространством, несколько гуще уставленными
усовершенствованными технологическими продуктами,
не более того. Конечно, это все же НФ, — внешние при-
131
меты налицо, — но НФ с ослабленной функцией, очень ограниченная
в своих средствах, НФ, которая боится неведомого.
Но есть в советской НФ и незнакомое время.
В научный институт приходит новый директор, удивительный
человек, молниеносно решающий любую задачу, гениальный
специалист и организатор. Работники института
его не любят: он лишен человеческих слабостей, беспощадно
требователен, в работе не считается ни с кем и ни с чем. Это
ученый, поставивший на себе опыт ускорения нервных процессов
в 76 раз. Но изменение нервной системы влияет на
гипофизы. Директор умирает. Узнавший обо всем герой-
рассказчик заключает повествование словами: ”Он пришел
к нам из будущего. Почему же нам было так трудно с
ним?..”9.
Старый ученый подвергается операции омоложивания тела
и мозга. Освобождая клетки памяти от бесполезной для
научной работы информации, хирург проводит селекцию:
’’Любовь к женщине — это хорошо. Возбуждает воображение.
Остальное убрать. Слишком много нервных связей занимает
вся эта ерунда. Щелк, щелк. Все ужато до размера
фотографии в семейном альбоме...”10. Воспоминание о любви
ободрано от своего фона, от ассоциаций, образов, ощущений.
Ученый возвращается домой — и не помнит о юбилее
собственной свадьбы, о том, что у него был сын. Его жена
совершает самоубийство, а он в ночь ее смерти находит
доказательство сложной теоремы. Операция прошла удачно.
Исследователь, попавший под машину, должен умереть.
Он решается на осуществление своей идеи и позволяет воссоздать
свой мозг в машине. Машина становится тем же человеком
— но без тела. Невеста ученого уходит к его другу.
Машина страдает, и говорит в последней беседе умирающему
человеку-двойнику: ’’Никому из вас не пришло в голову,
что неудача задуманного эксперимента с тобой была бы
неизмеримо гуманнее успеха”11.
Те же темы, что и в рассказах Альтова, Днепрова, Немченко,
те же победы человеческого гения над временем.
132
Рассказы же совсем иные. В них совсем другое время. Не
время действий, достижений, а время последствий, чувств,
время размышлений и сомнений.
Советский историк и социолог заметил, что ”в каком бы
времени ни развертывалось действие фантастического романа
— безразлично в прошлом, настоящем или будущем, —
интерес к нему всегда связан только с проблемами настоящего,
современного, сегодняшнего дня”1
В общем, это верно. И все-таки интересно знать, что было
когда-то и что случится в будущем. Утопическая и технологическая
НФ удовлетворяет это любопытство — но в очень
небольшой мере. Время радостных новых свершений равнозначно
с временем пожеланий, оно охватьюает не то, что
может быть, а то, что должно быть; к тому же, оно — по
своей дефиниции — обязано. находиться только впереди,
хотя бы на полшага впереди современного производственного
романа. Время размышлений может вместить любую
возможность, может быть везде, — и в этом его огромное
преимущество. Оно передается несравненно большей гаммой
интеллектуальных и, главное, литературных средств.
Путешествия во времени начинают встречаться в советской
НФ. Никогда, однако, рассказ о них не развертывается
вокруг описания создания и принципа функционирования
машин времени. Технические детали, придающие
объемность изображаемым событиям, — да, но не время
технологии.
Еще пример. Коммунистическое будущее. Открыта новая
теория пространства, отправлен корабль на Тау Кита, чтобы
собрать сведения о ее возможных обитателях. Но вместо
того, чтобы мгновенно пробить надпространство, корабль
попадает в будущее — и возвращается с информацией о
жителях Земли. Это всего лишь завязка — рассказанная
на полстранице — романа О. Ларионовой ’’Леопард с вершины
Килиманджаро” (1965), романа о том, что будут
делать люди, когда каждый из них узнает дату своей смерти.
Необычное использование научно-фантастической ситуа-
133
ции ведет к созданию психологического времени — к своеобразному
психологическому эксперименту.
Любопытно заметить, что психологическое время само
по себе непривычно советскому читателю, и книга Ларионовой
- по сути дела, доказьюающая победу инстинкта
жизни над смертью, т. е. книга оптимистическая, отвечающая
главному требованию советских литературных законов
— ввела в замешательство и вызвала негодование очень
многих — тех, кого ’’огорчает /.../ нагнетание тяжелых эмо-
ций” 13.
Так или иначе, в НФ входит подлинно литературное время.
Вместе с тем, путешествия во времени - это смена декораций,
сосуществование разных пространств, разного
быта.
В социалистическом реализме, сложившемся в 30—50 годы,
пространство, предметы, быт нагружены той же функцией,
что и время.
Рассмотрим очень бегло признанный классикой соцреализма
роман В. Кочетова ’’Журбины” (1952). Это история
рабочей семьи судостроителей, переживающей кризис: на
заводе вводится совершенно новый метод, и герои должны,
позабыв о прошлых заслугах, осваивать эту новую технологию.
Место действия: завод, заводские бюро, дом героев,
городок. Меньше всего показан город — его значение подсобное,
место жительства рабочих завода. Кроме того, город
— сцена неудачной (затем наладившейся) любви одного из
Журбиных, стахановца, который едва не опускается из-за
этого в работе. В городе живет подлец и соблазнитель —
единственный ’’интеллигент” в книге, — причина несчастий
стахановца. Одним словом, город — это место отдыха, но и
страданий, отвлекающих от главной цели. Зато дом Журбиных
— и квартира других членов семьи — средоточие предметов,
предназначенных для достижения цели. Огромную роль
в нем играет радиоприемник, передающий международные
новости; вокруг него ведутся разговоры, выражающие вы-
134
сокую сознательность рабочих. Стол служит для таких же
разговоров или для дискуссий о производстве. Другой стол
— место производства, на нем создается модель нового станка,
который принесет Сталинскую премию одному из сыновей
Журбиных. Патриарх семьи ходит в гости к живущему
отдельно сыну; у того в квартире три предмета: кушетка у
окна, на которой сидит старик, кресло сына и карта на стене;
к карте подходит сын, называя ’’знакомые деду места;
происходил подробный и обстоятельный разбор мировых
событий” 14. Есть в романе бытовая сценка: описание Желтой
ямы, куда рабочие приходят отдыхать, удить рыбу. Попадаются
большие карпы, способные вырвать из рук рыбака
удилище. На этот случай имеется выход: у одного из рыбаков
есть резиновая лодка, он спасает снасть и в награду
берет себе добычу, снятую со снасти. И вот, оказывается, что
весь этот достаточно короткий эпизод понадобился для того,
чтобы ввести в действие парторга ЦК, который выступает
против заведенного порядка: ”Не по-коммунистически получается,
а по-капиталистически. Предлагаю такое безобразие
отменить. Со следующей субботы тут будет резиновая
лодка общего пользования” 15. Больше сцен быта в романе
не встречается.
”Журбины” — образец построения литературного произведения
по законам соцреализма: каждая деталь быта, каждый
предмет, каждое действие подчинены описанию главного
события: шага вперед в жизни людей нового общества,
т. е., говоря без обиняков, приспособления людей к новой
технологии, обещающей дать новые и лучшие технологические
средства для развития еще более новой технологии,
чтобы построить коммунизм и жить по-коммунистически.
Нечего и говорить, что такое время может двигаться только
вперед; и, соответственно, строго хронологично построение
повествования, допускаются лишь экскурсы в прошлое
героев — для объяснения их очередного продвижения в
будущее.
Точно так же строго определено пространство романа,
135
предметы и места действия, не имеющие собственной жизни,
отдельной от геометрической точки пространства — центра
производства; в прямой пропорции к масштабу производства
сокращается или расширяется пространство: от небольшого
завода и нескольких героев до гигантского строительства
нефтепровода с десятками действующих лиц.
Мир официальной советской литературы упорядочен и
постоянен, на нем не отразилась эйнштейновская революция.
Н
овая НФ позволила выйти из этого мира.
Уже космические открытия и утопические предвидения
дают возможность строить повествование в измененной
обстановке. Это изменение, однако, может быть всего лишь
количественным; качественное превращение идет в ином
направлении.
В рассказе М. Чудаковой ’’Пространство жизни” (1970)
говорится о человеке, жизнь которого не ограничена во
времени, он мог бы жить вечно, но постепенно сокращается
пространство, где он может передвигаться; он умирает,
когда пространство его жизни сжимается в одну точку.
Это настоящая НФ, НФ парадокса.
Петли времени, прерывистое время, в дырах которого
мерцают параллельные времена, анти-время и время флюктуаций
- реализации невероятностей, — создают ситуации,
не поддающиеся обрамлению традиционной хронологией;
принцип композиции как установленного иерархического
целого с экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой
отвергается в пользу свободного — или просто более свободного
— подбора и чередования событий.
А когда наше знакомое и земное пространство меняется
— сворачивается в гравитационном коллапсе, преломляется
новыми измерениями, — тогда предметы тратят извечно
определенные формы, оживают, приобретают не зависящую
от людей активность.
Жизнь всей Земли в ’’Пикнике на обочине” (1972) А.
и Б. Стругацких меняется оттого, что промелькнувшие,
136
как метеор, пришельцы из космоса оставили после себя
’’зону” — сказочное место со сказочными предметами, которые
иногда можно, как будто, приспособить к использованию
в земной науке и технике, но истинное предназначение
которых где-то вне возможностей человеческих дел и разума.
Маленький домик на окраине провинциального городка
в повести А. Громовой и Р. Нудельмана ’’Вселенная за
углом” (1969) вдруг отрезается от мира каким-то неведомым
пространственным измерением или силовым полем
неземного происхождения. Жители домика, выходя наружу,
выпадают из нашего континуума, оказываются в прошлом
или будущем, исчезают для своих друзей на десять секунд
и живут сутки на другой планете, и т. д. Пространство и время
восстают против людей. До самого конца люди не понимают,
что же такое происходит. Развязка готовится в ином
мире и приходит в повесть извне, помимо воли героев и как
бы помимо воли самих авторов.
Люди становятся пассивными объектами действия, а его
двигателем — метаморфозы времени и пространства.
В 1961 г. Г. Гор, младший современник и последователь
Обериутов, начавший писать в начале 30-х гг., довольно
известный автор этнографических, а затем ’’университетских”
произведений, печатает свое первое научно-фантастическое
произведение — повесть ’’Докучливый собеседник”
.
В повести присутствует три времени и два мира, она
состоит из диалогов между людьми и бесед между человеком
и роботом; ее персонажи — космический путешественник,
попавший на Землю каменного века, современные
ученые, писатель НФ и философы, душевнобольной и жители
утопической планеты Анеидау. Каждый из них видит по-
своему мир, ощущает по-своему время. Разные ощущения
не сливаются в однородной, предопределенной писателем
ткани повести, они существуют отдельно и сосуществуют
вместе, создавая впечатление живого мира, многомерного,
неуловимого и парадоксального.
137
Человек, потерявший память и вылеченный спустя долгое
время, видит все окружающее новыми глазами. ’’Воздух
в комнате был полупрозрачен. Своей полупрозрачно-
стью он окутывал предметы. У каждой вещи было свое
яркое бытие, наполненное тишиной и осязаемой предметностью.
На столе стоял фарфоровый чайник. Фарфор поблескивал
округло и туго. Чайник был прекрасен в своем
предметном замкнутом существовании. Он был как бы
вписан в утреннюю синеву комнаты рукой великого мастера.
На подоконнике в глиняном горшке рос цветок. Зеленое.
Розовое. И желтое. Цвета играли на подоконнике. Но
еще чудеснее их игры был коричневый горшок. Он был,
как и чайник, замкнут в своем вещественном бытии. К нему
хотелось притронуться” 16.
Об этом и так писали в 20-30-х гг.; так писал Гор в первом
сборнике своих рассказов о живописи и вещах; о самостоятельном
бытии вещей советские писатели давно забыли,
почти забыл о нем и сам Гор в своих ’’реалистических”
романах; он вспомнил о жизни вещей, обратившись к НФ.
С 1961 г. он не перестает печатать научно-фантастические
произведения, связанные поиском единого ощущения
мира.
Жизнь, бытие проявляется у Гора везде.
Собственной жизнью живут роботы, думающие и чувствующие,
как люди, сознающие свою механическую сущность
и страдающие от этого.
Особой, творческой и созерцательной жизнью наделена
природа.
Время не разделяется на прошлое, настоящее, будущее,
перестает течь в одном направлении.
Философское время подчиняет себе время действий;
герои Гора думают, пишут, разговаривают, вспоминают;
элементы мира появляются и исчезают, укрупняются или
сходят на задний план не в зависимости от своего места в
развитии отношений между героями, а по мере того, как
в разговорах, раздумьях, в созерцании проявляется перед
героями сущность тех или иных явлений.
138
В философском времени книг Гора главная тема размышлений
и разговоров: время и память, опредмечивающая
время. В повести ’’Кумби” (1963) есть герой, которого так
и зовут: Юлиан Матвей Кумби. Этот человек помнит всю
свою жизнь, все малейшие ее детали. Вот как он рассказывает
об этом: ’’Что вы делали 19 июня 2032 года? — Утром
съел яйцо всмятку и творожники со сметаной. Пил кофе.
В обед скушал холодный борщ и пожарские котлеты с
морковью. Поужинал скромно, чтобы не видеть тяжелых
снов...”17. Этот рассказ - перечень действий. Кумби ничего
не видит, кроме фактов, он неспособен их осмыслить, найти
’’священную связь событий” , оживить свое прошлое: у него
нет фантазии. Только когда главный герой учит его выдумывать
то, чего не было, он становится живым человеком
— но теряет свою уникальную память.
Основная мысль Гора — необходимость преодоления
разрыва между субъектом и объектом. Люди, вещи, природа,
время имеют отдельные бытия. Но жизнь едина, и в книгах
Гора появляются пластичные время и пространство.
Предметы дематериализуются и появляются по желанию
людей. Люди превращаются в предметы, в книги, соединяются
с природой, становятся рекой, деревом, облаком.
Время течет туда, куда его направит человеческое сознание;
можно быть одновременно в детстве и в старости; можно
видеть мир лишь с одной стороны, например, глазами насекомых,
можно созерцать его как одушевленное целое.
Время и пространство перестают иметь границы, определенные
объективными физическими законами.
”На экране телевизора возникло лицо женщины, глядящей
в ручное зеркало. Охваченное круглой рамкой, в руке у
женщины было прозрачное озеро с рыбами, плавающими на
дне. Затем возникла стена с картиной. В раме был живой
лес, шумели деревья, колеблемые сильным ветром” 18.
Это фрагмент фильма, присланного на Землю с другой,
чудесной планеты. В каждой книге Гора речь идет о такой
чудесной планете, будь ее название Анеидау, Уаза, Тиома
или Земля, планете, где осуществилось единение жизни.
139
Книги Гора — тоже утопия, но не социально-техническая, а
философская и литературная, прямая противоположность
утопической фантастики Мартынова, Сапарина или Гуревича.
140
Глава 5
СТРУКТУРЫ ЖАНРА: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ
Самый утопический из русских утопистов и человек,
сыгравший гигантскую роль в развитии русского революционного
движения, — Чернышевский писал, что искусство
должно ”в случае отсутствия действительности быть некоторой
заменою ее и быть для человека учебником жизни” 1. В
развернутом виде эта по-своему замечательная мысль являет
собой всю официальную советскую эстетику. В ней с необыкновенной
четкостью обозначена главная задача литературы
(и всякого искусства) — воспитание людей и всего
общества; и в ней же говорится, что реальная действительность
не может считаться действительностью - истинная
действительность идеальна, и именно ее призвано изображать
искусство.
Советское искусство отличается от всех других самым
существенным: оно существует в стране и в эпоху прстепен-
141
ного, но непрерывного воплощения, идеала человечества.
Оно имеет дело с действительностью, уже проявляющей некоторые
черты будущего идеального целого. Оно ’’утверждает
это лучшее в жизни, осмысляя его как прекрасное, непосредственно
воплощая его в художественных образах”2.
В то же время, одно из основных положений советской
эстетики гласит, что специфическим объектом искусства
является ’’общественный человек в живом единстве общественного
и личного”3. Это положение — категорический
императив. Уже Плеханов, требовавший от искусства
в первую очередь ’’идейности” — понятие, преображенное
Лениным в ’’партийность” , первый критерий для оценки
искусства, — критиковал импрессионистов за то, что главным
действующим лицом их картин был не человек, а игра
света. Даже натюрморт должен говорить нам о людях и их
отношениях в эпоху, когда он был написан, иначе он — недопустимое
убежище ’’чистой живописи”4. Тем более это
касается литературы.
Есть литературная категория, как фокус собирающая в
себе все то, чем должно жить советское искусство. ’’Новый
тип общественных отношений рождает новый эстетический
идеал. Новый идеал воплощается в образе положительного
героя”5.
Советская литература — это прежде всего литература положительного
героя.
Все советские анализы, обзоры, истолкования литературы
исследуют прежде всего — и почти исключительно — характеры
и взаимоотношения героев произведений, и при
этом всегда, даже при исследовании лирической поэзии,
ведутся поиски положительного героя и его оценка под
углом соответствия установленному образцу. Официальная
история развития советской литературы почти тождественна
истории создания таких образцов: Чапаева, Глеба Чумалова,
Павки Корчагина, Олега Кошевого и т. д.
Это герои нового типа: ’’Принципом оценки положительного
героя для нас является характер его отношения к
действительности /... /. Подлинное художественное значение
142
будут иметь лишь те герои, характер которых определен отношением
к передовому, новому, вырастающему в жизни,
в конечном счете — к освободительному движению народа, а
в советском обществе - к строительству коммунизма”6.
Так утверждает Л. И. Тимофеев, один из ведущих советских
теоретиков и историков литературы. Он отличается
краткостью и прямотой формулировок. Бывает, что современные
официальные критики по-разному пытаются сгладить
углы, но их рассуждения всегда сводятся к формуле
Тимофеева.
Априори можно предположить, что идеальным героем
соцреалистической литературы будет герой, построивший
коммунизм на Земле: герой утопии.
Присмотримся же к этим героям.
Когда ’’гость из бездны” , возвращенный к жизни герой
романа Мартынова пробуждается, он видит перед собой
человека далекого будущего: ’’Незнакомец был очень
высокого роста, с могучей фигурой атлета /... /. Загорелое
лицо обладало настолько правильными и красивыми чертами,
что даже производило впечатление какой-то искусственности,
точно классическая статуя”7.
Такие искусственные греко-римские красавцы-утопий-
цы, похожие, по словам одного критика, на ’’картинки с
дореволюционного мыла ’’Молодость” фирмы Брекер и
К0”8, возродились в ’’Туманности Андромеды” и проходят
через очень многие книги о коммунизме на Земле и других
планетах.
В этом нет ничего удивительного — традиция идет от
Платона.
Напротив, несколько удивляет, когда жители утопии
своим обликом не отличаются от наших современников;
в конце концов, в числе завоеваний человечества неизменно
на почетном месте стоит евгеника, и непонятно, почему бы
ей не использоваться по назначению.
Поначалу, у Ефремова, красота людей будущего мотивирована:
она подчеркивает качественное их превосходство
над нами, и в то же время, связана с мыслями писателя об
143
искусстве и его поклонением перед Грецией; эта красота
иллюстративна, и, между прочим, поэтому примитивна, но
у нее есть обоснование. Она скопирована подражателями
Ефремова как нечто само собой разумеющееся, и ’’красивые”
подробности, загорелые лица, прямые носы и стальные
мышцы играют у них роль заполнителя провалов в повествовании.
Отказ от безупречно красивых персонажей в утопических
произведениях - у Гуревича, Стругацких или Войскун-
ского и Лукодьянова — сам по себе является литературным
ходом, недостатки внешнего вида — средством литературной
характеризации.
Мы можем сформулировать первую закономерность: в
утопии красота есть нечто подразумевающееся как ”доли-
тературная” данность; и еще: в силу своей распространенности
абстрактно-идеальная красота подвергается литературной
девальвации, а ценность получают отклонения от нее.
Это простое правило действует и когда речь идет не о
красоте внешней, а внутренней.
Внутренний мир идеального человека занимал всех без
исключений утопистов и многих писателей, и все они боролись
с огромными трудностями, пытаясь дать ему литературное
воплощение.
Точно с теми же трудностями встретились советские писатели.
В одном из своих рассказов Ильф и Петров описали
собрание халтурщиков, посвященное созданию положительного
героя киносценария. Оказывается, все знают, каков
из себя тип отрицательный, и несравненно проще — по знакомому
нам принципу инверсии — от него перейти к типу положительному:
если подлец лыс и брит, хорошему человеку
приделываются густые волосы и борода, и т. д. Рассказ
смешон, но в нем точно поставлена проблема положительного
героя в советской литературе.
Вокруг этой проблемы велись и ведутся ожесточенные
бои.
144
В 20-е гг. РАПГГовским лозунгом была ’’психологизация”
героев: по ходу роста своей социалистической сознательности
он должен был преодолеть свое подсознание,
дворянско-интеллигентско-буржуазные наслоения в своей
психике: рождались советские ’’лорды Джимы” . Их сильно
поуменьшилось после ликвидации РАППА’а и после 1-го
съезда ССП; в 30-е годы все реже случалось встретить в
советских романах усложненные образы положительных
героев. Во время войны все заслонила богатырская фигура
советского героя-воина, в ждановщину переродившаяся
в безупречного советского героя-гражданина великой державы.
Очередные постановления ЦК партии и статьи в
’’Правде” давали шаблон, и всякие попытки внести в положительные
характеры некоторую психологическую глубину
беспощадно пресекались (как, например, в случае с повестью
Э. Казакевича ’’Двое в степи”) .
Ошибкой было бы, однако, думать, что конец сталинской
эпохи исчерпал вопрос.
Накануне 2-го съезда ССП в 1954 г. разгорелась дискуссия
о положительном герое. Толчок к ней дала статья, автор
которой требовал построения образа идеального героя,
обладающего качествами, перечень которых приведен в
статье, и лишенным каких-либо недостатков9.
Прошло десять лет, и снова появилась статья известного
критика, заявившего, что образ нового человека (т. е. члена
советского общества) надлежит составлять из качеств,
определенных в ’’Моральном кодексе строителя коммунизма”
10. Снова завязался спор, в котором писатели отстаивали
свое право писать о ’’живых людях” , спор, не оконченный
до сих пор.
Причем ’’живые люди” в большинстве случаев понимаются
особо. М. Алексеев, заслуженный ’’деревенский” писатель
так определил своего положительного героя: ’’Идеальный
герой — это божество, в реальной жизни не встречающееся.
Положительный герой — существо сугубо земное /.../. Я
верю своему герою, он у меня облачен всей полнотой авторской
власти и потому не скован, потому свободен /.../,
145
оставаясь при всех обстоятельствах самим собой, то есть
живым человеком. И как таковой он может ошибаться в
чем-то, но он не подведет меня в главном — при всех обстоятельствах
он останется решительным бойцом за наши общие
с ним идеалы. Положительный герой — категория социальная.
Помня об этом, мы не заблудимся в трех соснах в наших
не угасающих ни на минуту спорах” 11.
’’Наши общие идеалы” — это строительство коммунизма.
Алексеев, порассуждав о свободе своего героя, внезапно
повторяет почти буквально железную формулу Тимофеева.
В ’’Открытии себя” В. Савченко, одном из самых заметных
романов НФ 60-х гг., идет разговор о том, каким должен
стать усовершенствованный, ’’новый” человек, каковы
критерии отбора его качеств. Три таких критерия по очереди
обсуждаются: ’’хорош тот, кого считает хорошим большинство”
(но ведь ’’испокон веков кого только не поддерживало
большинство”), хорош тот, кого я считаю хорошим;
и, наконец, — хорош тот, кто хорош для меня12. Ни один
из этих критериев не признается безусловно годным. Изобретатели
Савченко забыли о четвертом — главном и единственно
действенном в советском обществе — критерии:
хорош тот (или то ), кого (что) считает хорошим партия.
Писатели, рассуждающие наподобие Алексеева, соглашаются
принять именно этот критерий, надежность которого
уже не может подлежать сомнению. Как говорит Шолохов:
”0 нас, советских писателях, злобствующие враги за
рубежом говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело
обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке
сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу,
которым мы служим своим искусством” 13.
Советский писатель не может не отдать своего сердца
партии, и не может создавать своего, лично выстраданного
положительного героя, не согласуясь с ’’общими идеалами” .
Академик Чепыжин из романа В. Гроссмана ”3а правое
дело” , изобретатель Лопаткин Дудинцева, старая крестьянка
Матрена из рассказа Солженицына — ’’положительно
146
прекрасные люди” , - все они подвергались уничтожающим
ударам критики: они не входят в схему соцреализма.
Свобода, о которой говорит Алексеев — и та не всегда
доступна — не свобода создания положительного героя, а
свобода ’’учеловечения” героя идеального, возможность,
так сказать, подпортить идеал человеческими черточками,
подлить лимонного соку в слишком приторное варенье
— чтобы воспрепятствовать тошноте.
НФ, как в капле воды, отразила все изгибы ’’большой”
литературы.
В 1962 — переломном для советской НФ году — журнал
’’Нева” организовал встречу писателей-фантастов на тему
’’Человек нашей мечты”. Дискуссия очень отчетливо проявила
три главные тенденции в ’’научно-фантастической”
трактовке положительного героя (’’нового человека”) ,
тенденции, сохранившиеся до настоящего времени.
Один из участников встречи, Г. Мартынов, противопоставил
персонажей утопических книг Ефремова и Стругацких:
первых читатель не понимает, вторые якобы ’’обладают
очень отсталым и бедным внутренним миром” 14. Образцом
положительных героев Мартынов считает персонажи из
романа Казанцева ’’Полярная мечта” .
Б. Стругацкий же объясняет свою точку зрения таким
образом: ”Мы стараемся изображать людей, которых мы
видим. С некоторыми из них мне приходилось бывать в
экспедициях и работать с ними, служить в армии” ; Стругацкие
не хотели бы видеть в будущем людей, похожих на
героев Ефремова: для них лучшие из реальных людей сегодня
и есть люди будущего коммунистического общества15.
Итак, на крайнем фланге закоренелым ортодоксом стоит
Ефремов с его идеальными образами, с противоположной
стороны — Стругацкие, а где-то между ними — большинство
авторов утопической НФ: Мартынов, Казанцев, Гуревич,
Томан, Жемайтис и др.
В действительности ситуация эта несколько более сложна.
147
Перейдем от теории к практике, и продолжим смотр героев
советской утопии.
Морально-психологические доблести советского положительного
героя покоятся на двух краеугольных камнях:
верности революционной идее и чувству коллективизма.
Они неразрывно сопряжены вместе: партия — элитарный
коллектив — единственная сила, способная осуществить
идею (таким образом, верность идее приравнивается к верности
партии и ее вождям), и она же указывает путь большему
коллективу — народу, а затем всему человечеству.
Советский коллективизм — не просто чувство связи с
народом или человечеством, даже не только преданность
партии. Это осознание себя до такой степени частицей целого,
чтобы, не задумываясь, отдать себя целому до остатка.
Геройство, способность к подвигу (за идею, за Родину, за
партию, за вождя) — важнейшая составная часть мифологической
концепции советского человека. Есть писатели,
видящие в геройстве ни больше ни меньше, как высший
смысл человеческого существования. В. Чалмаев, лидер
’’советских славянофилов” , так и пишет: ’’Подвиг — синоним
состоявшейся жизни” 16.
Героя-антифашиста, умирающего от пыток в гитлеровском
застенке, на несколько часов ’’выдергивают” из его
времени в будущее. Он своими глазами видит осуществленную
утопию — и спокойно возвращается на смерть (он должен
вернуться, ибо его исчезновение, согласно теории путешествий
по времени, созданной Бредбери и Азимовым,
может вызвать непредвиденные последствия). Герой входит
в интрохронолет: ’’Перед ним напряженные, суровые, стояли
люди будущего, внезапно понявшие, какой огромной ценой
завоевано их существование /.../. Он поднял сжатый кулак
в пролетарском приветствии, и все стоявшие у люка повторили
его жест” 17.
Предки своей кровью завоевали утопию; потомки не могут
от них отстать, они ’’повторяют жест” Александра Матросова,
закрывая своими телами пробоины от метеоритов,
жертвуют собой в научных опытах, ведут бой за еще более
148
совершенную утопию для своих потомков. Сжатый кулак
— символ героической борьбы — проносится через века в
бесконечность.
Это своего рода связь поколений — через подвиг и смерть.
Самоотверженность — черта характера всех положительных
героев советской литературы, а в утопии она ощущается
тем более явно, что причин для нее, казалось бы, все
меньше и меньше.
С коллективизмом советского стиля связана еще одна
особенность в построении человеческих типов.
Герой рассказа из утопического цикла В. Сапарина участвует
в ликвидации катастрофы, вызванной опытом смещения
земной оси; он находит верное решение, но разбивается,
не успев его передать товарищам. Мораль этой истории (ее
нравоучительность подчеркнута счастливой концовкой):
нужно было думать вслух по радио: ’’ведь мозг, его работу
тоже надо направлять”1 ° .
Индивидуальное, скрытое от других мышление может
привести к беде.
Коллектив (идея, партия) требуют от человека раскрытия
себя. Во множестве советских романов есть ’’соборные”
сцены — часто кульминационные в произведении — партийных
и комсомольских собраний, на которых всенародному
обсуждению подвергается внутренняя жизнь людей. Критика
и самокритика, главные рычаги советского общественного
механизма, действуют и по отношению к внешнему поведению
членов общества, и по отношению к их интимному
бытию: ’’новый человек” создается от основания, этот процесс
’’надо направлять” на каждом его этапе.
Партийных собраний в утопических романах нет, но есть
всепланетные обсуждения того или иного поступка героев
(в ’’Туманности Андромеды” , ’’Каллистянах” Мартынова).
В утопиях достигнут идеал: аппарата принуждения нет, все
наблюдают, направляют и воспитывают каждого; мысли и
чувства каждого всегда на виду у всех: происходит полная
экстериоризация внутреннего мира.
Преданность идее, полная самоотдача, самораскрытие и
149
готовность к любому подвигу — это железобетонная конструкция,
костяк нового человека и в идеологии и в литературе.
Часто попадается в НФ герой, лишенный каких-либо
дополнений. У персонажа красного Пинкертона или космической
оперы нет определенного лица, оно задано ситуацией,
а поскольку сюжет состоит из однотипных ситуаций, а к
тому же они повторяются в разных книгах, такие персонажи
без изменений кочуют в пределах одного произведения и
целого жанра. Именно они состоят из голого каркаса: качеств,
необходимых для того, чтобы справиться с конкретной
ситуацией. Они — эпифеномен сюжетного события.
Нечто похожее случается в такой НФ, где главное — фантастическая
идея сама по себе. В рассказах Г. Альтова,
В. Журавлевой, А. Днепрова нет характеров: вместо них
выступают лекторы, преподносящие трактат на научно-
фантастическую тему; такие произведения часто строятся
на диалогах или дневниковых записях, иногда переходят в
очерк и попросту теряют персонажей.
В СССР распространена теория — поощряемая официальной
критикой — о том, что специфика героя НФ заключается
в его психологической эскизности: ’’Герой НФ в принципе не
может быть измерен жизненной полнотой бытового изображения”
- потому, что в НФ ’’характер развертывается в
приключениях мысли, а даже' эмоционально окрашенная
мысль не так индивидуальна, как чувство” 19. Иначе говоря,
в НФ человек интересен фантастическими идеями, стоящими
за его спиной. Теория эта, в которой есть зерно правды, если
ее отнести к жанру ’’чистой НФ” , т. е. к паралитературе,
поощряет заведомую антихудожественность; ее задача
заключается в том, чтобы лишить НФ права на свободное
развитие, на слияние с большой литературой. Научные и
научно-фантастические идеи легче контролировать, чем
чувства, а в соцреализме с давних пор герой выходил на
сцену прежде всего для провозглашения какого-нибудь
лозунга или идеи.
Есть утопические романы, в которых действующие лица
150
появляются лишь для того, чтобы произнести речь, изложить
идею. Но есть и такие, в которых делаются попытки
несколько более вещественно изобразить нового человека.
Г. Гуревич, вообще склонный к классификаторству,
составил диаграмму ’’прекрасного и богатого” внутреннего
мира людей будущего и, попав под власть очевидной символики,
уподобил ее пятиконечной звезде. ’’Пять лучей” положительного
героя таковы: труд полезный (столько-то часов
в неделю); общественная работа (в том числе и творчество)
; личная жизнь; забота о своем здоровье; хобби
(поскольку и в будущем случается необходимая, но неинтересная
работа) 20.
Скажем сразу, что эта многогранность — пустая декларация.
Диаграмма Гуревича подозрительна уже по своим формулировкам,
и, конечно же, ни у него, ни у других советских
утопистов мы не найдем описаний ’’неинтересной”
работы, героев, теряющих время на бесполезные хобби,
строителей космических проектов, заботящихся о своем
здоровье (они делают как раз обратное) или позволяющих
своему чувству помешать в работе.
Обратим внимание на характерную деталь: в утопических
романах все люди чрезвычайно артистичны, однако они
предельно мало времени уделяют искусству.
Рискуя несколько удалиться от темы, приведем в этой
связи пример из ’’Гостя из бездны” .
Один из мартыновских утопийцев, астроном, прекрасно
поет. Он — из немногих гениальных артистов, выступающих
публично один только раз, и это выступление - высший
момент искусства — сохраняется в записях на века. Но,
’’естественно, искуство не заполняет их жизнь, у них есть
другая, любимая профессия” . Имеются в XXXIX веке и
профессиональные артисты, но они — ”не особо одаренные”
2 1, увековечению не подлежат, а просто обеспечивают
приятный отдых своим согражданам. Одним словом, выдающиеся
’’технологи” забавляются — гениально и безо всякой
подготовки — искусством, а занимаются им постоянно се-
151
редняки, вероятно, недостаточно одаренные и для полноценной
научной работы.
Эта бессмыслица уникальна в своем роде, но, в общем,
Мартынов в утрированной форме выразил мысль, которая
идет от Гегеля, считавшего этап искусства пройденным,
которая перешла в марксизм с его теорией материального
базиса, и которая, конечно, подспудно заключена
в советской теории искусства: само по себе искусство
значения не имеет, его роль подсобная, она сводится к
воспитанию нового человека. А в обществе, уже состоящем
из новых людей, иной задачи, чем украшение или
отражение их трудового быта, подобрать искусству довольно
трудно.
И еще одно: творчество по природе своей слишком изменчиво,
слишком ненадежно, чтобы стать главным делом
человека, воплотившего идеал советской эстетики.
В утопическом романе Е. Войскунского и И. Лукодьяно-
ва ’’Плеск звездных морей” (1969) редкий в утопиях
персонаж — поэт по достижении зрелости пишет все меньше
— как он говорит, ’’просто не пишется” ; зато он находит
применение своему дару в работе ’’Комиссии по перспективному
планированию взаимных потребностей Земли
и Венеры” и приносит ощутимую пользу в деле покорения
космоса22.
Чаще всего даже такое совместительство не дает советским
утопистам полного спокойствия. Если в области науки
и техники они разгоняют свою фантазию до предела,
большинство из них чувствует потребность придать искусству
определенную и постоянную форму.
Форма эта найдена немедленно: удивительный стиль
греко-египетского псевдо-классицизма сталинской эпохи.
Колоссальные здания с могучими колоннадами; исполинские
скульптуры и аллегорические картины в строго реалистической
манере с налетом символизма; космические
симфонии (некоторую фантазию утописты проявляют
в изобретении новых инструментов, обычно действующих
на биотоках, — техника); спектакли с участием половины
152
населения планеты — таков фон большинства советских
утопий.
И тут мы возвращаемся к нашей теме.
Во-первых, произведения искусства в утопических романах
не что иное, как проекция без изменения масштабов
внутренних качеств героев, положительных типов: их непоколебимости,
монолитности, твердокаменной уверенности
в себе, их геометрической прямолинейности, их грандиозности
(соответственно, в книгах о будущем, где даны ”жи-
вые” герои, например, у Стругацких, нет описаний гигантской
архитектуры).
Во-вторых, богатство внутреннего мира утопийцев отнюдь
не состоит в многосторонности; наоборот, их отличает
необыкновенная единонаправленность — все свои силы и
великие помыслы они отдают труду, подчиняют труду все
другие виды деятельности; и мы уже убедились, каков
характер этого труда.
Речь продолжает идти о бесконечно экспансивном технологическом
производстве.
Все главные качества людей будущего вытекают из их
отношения к этому труду — и так они сближаются (на новом
уровне) с положительными героями соцреалистическо-
го, и в первую очередь, производственного романа.
Совпадение тут глубже, чем может показаться на первый
взгляд. Сходен сам способ компоновки характеров сильных,
обуянных великой идеей.
Как правило, из списка качеств ’’строителя коммунизма”
выбирается одно и дается на первое место; особенно отчетливо
это проявляется в романах с многими действующими
лицами. В одной из типичнейших книг ждановского соцреализма,
’’Далеко от Москвы” В. Ажаева, изображено в полном
составе руководство огромной стройки на Дальнем
Востоке. Все руководители обладают теми же вечными
достоинствами — честностью, искренностью, любовью к родине,
чувством справедливости и т. д.; черты эти, повторяясь
у всех, как бы взаимно снимаются, а лицо каждого
героя определяет и отличает от других одно свойство-доми-
153
нанта: стальная воля у директора Дальстроя Батманова, философская
мудрость у партсекретаря Залкинда, бурное жизнелюбие
и веселый нрав у главного инженера грузина Беридзе,
наконец, молодая энергия в паре с человечностью у
главного героя инженера Ковшова.
Во многих советских утопиях характеры персонажей
вообще не обозначены; но там, где они как-то отличаются
друг от друга, в игру входит именно такой ажаевский принцип.
Каждого из персонажей Гуревича, Забелина, Велтисто-
ва, Снегова, ранних Стругацких можно характеризовать
одним прилагательным: ’’угрюмый” , ’’остроумный” и пр.
Люди-богатыри Ажаева почти идеальны, и все же им случается
ошибаться — самую малость. Даже директор Батманов
допускает маленькую ошибку: неправильно оценивает
одного из своих подчиненных; к этому человеку ключ
подбирает Ковшов, тот самый, который в начале книги едва
не принимает ошибочное решение. Такие мелкие просчеты,
с честью исправляемые по ходу действия, ’’очеловечивают”
героев. Тут действует принцип М. Алексеева.
Уже в 30-х гг. А. Беляев полагал, что достигшие совершенства
люди коммунизма будут мало понятны современному
читателю, и находил нужным оживлять их мелкими
слабостями. В период расцвета ’’ближней” НФ тиражный
рекордсмен В. Немцов особенно часто пользовался этим
простым способом, но явные следы его мы обнаруживаем
у всех ближних фантастов, и у многих утопистов.
Мы снова видим, как смыкается круг: советская утопия
оказывается совсем рядом с фантастикой ”на грани возможного”
, рядом с производственным романом, остается плотью
от плоти соцреализма.
Итак, по своим качествам, способу их сочетания, — моделирования
психологического рисунка, — по характеру своего
отношения к окружению и воздействию на него, герой
утопии совпадает с идеальным литературным типом соцреализма.
Это как нельзя более естественно: утопия, ’’ближняя”
НФ, производственный роман говорят о том же положительном
герое, и не могут не пользоваться теми же кли-
154
ше. Тем не менее, разница — кажущаяся незначительной, на
деле достаточно важная, — есть. Она не в самих героях, а в
структуре их взаимоотношений. В литературе соцреализма
герои соотносятся между собой согласно определенной
иерархической схеме, отражающей структуру советского
общества; ее, как правило, избегают утописты. Герой утопии
пользуется сравнительно большей свободой, которая
проявляется в определенных ситуациях, а потому мы возобновим
разговор на эту тему в главе о ситуациях.
Для того, чтобы сделать шаг в поисках истинно живого
литературного героя нужно было сломать канон положительного
героя, а в НФ — оторваться от старой утопической
традиции.
Сначала В. Савченко в ’’Черных звездах” , и почти в то же
время братья Стругацкие первыми подошли к новому
решению.
Кажется несомненным, что у них был общий литературный
источник.
В 1956 г. в журнале ’’Юность” появилась повесть ’’Хроника
времен Виктора Подгурского” ; ее автору, Анатолию
Гладилину был 21 год. Повесть Гладилина открывает целую
серию произведений молодых писателей, сгруппировавшихся
главным образом вокруг ’’Юности” . Писателей этих называют
обычно ’’четвертым поколением” , а их книги — ’’исповедальной
прозой” .
Молодые писатели — А. Гладилин, А. Кузнецов, В. Аксенов,
А. Битов, В. Войнович, Э. Свирский — откликнулись
на призыв Померанцева: давать в литературе не только
проповедь, но и исповедь. Они составили первое большое
литературное направление ’’оттепели” .
’’Исповедальная проза” рассказывает о том, что по-настоящему
близко ее авторам: о современной молодежи,
входящей в жизнь и выбирающей место для себя.
Во всех книгах писателей четвертого поколения один
герой: молодой человек, как правило, из интеллигентской
семьи, окончивший школу (реже — университет) и не
155
знающий, что ему делать дальше. Это обычный парень, весельчак,
спортсмен, любитель джаза и современной живописи,
интересующийся модой, хорошо начитанный и умеющий
спорить. Он честен и правдив, но очень наивен, он
переживает первую любовь, как катастрофу, и первые
столкновения с действительностью, как крушение мечты.
Слабостей у него не перечесть; он охотно дерется и пытается
устраивать попойки; он любит казаться циником и часто
попадает впросак из-за своего чрезмерного самолюбия. Он
скептически относится к ’’громким словам” и ничему не
верит на слово. Устроенная, испытанная и продуманная
жизнь его родителей вызывает у него приступы страха и
отвращения. Больше всего ему хотелось бы совершить
подвиг. Он поднимает бунт: уходит из семьи, отказывается
поступать в вуз, в поисках самостоятельности работает на
заводе, в шахте, в порту, отказывается от легкой городской
карьеры и идет работать врачом в деревню. Его главная и
единственная проблема — поиски самого себя.
Именно таковы мальчики XXII века в ’’Возвращении”
Стругацких, четыре друга, устраивающие побег из школы,
чтобы зайцами полететь на Венеру. Они взрослеют, и начинают
выбирать свои дороги в жизнь — типичная ситуация
’’исповедальной прозы” . Они начинают работать, и остаются
хорошими малыми, честными, трудолюбивыми и остроумными.
Эти несколько повзрослевшие мальчики родом из молодой
прозы, занявшись научно-исследовательской работой,
в скором времени наводнили НФ; они появляются и в утопических
произведениях (кроме ’’Возвращения” Стругацких,
в повестях Войскунского и Лукодьянова, Михановско-
го, Велтистова, Жемайтиса); но чаще всего они действуют
в современных декорациях — у Савченко, Громовой, Ну-
дельмана, Емцева и Парнова, С. Павлова, В. Колупаева и
т. д. — словом, в книгах писателей, составляющих ’’новую
волну” в советской НФ и, как правило, начавших свою
карьеру в период расцвета ’’исповедальной” прозы.
Мы еще вернемся к ’’исповедальному” герою; он сыграл
156
большую роль в советской литературе, помог избавиться от
штампованных абстрактных характеров, принес с собой
свежие и искренние чувства, позволил ставить себя в еще не
освященные директивами ситуации, полностью обновил
язык. Он отражал некий существующий в действительности
тип; взяв под лупу реального человека, писатели обратили
внимание на его среду, на быт — очереди в магазинах, коммунальные
трудности, стоимость джинсов и пластинок с
джазом; действие последовало за героем на улицу, в кафе,
рестораны, в лыжные походы. С реальными людьми в литературу
проникло реальное время и пространство — и это
было одним из важнейших достижений молодой прозы.
Вместе с тем, писатели четвертого поколения, разрушив
старые схемы, тотчас установили новые. Их персонажи реальны,
но упрощены, мы узнаем их по первому слову,
предугадываем их поведение на много страниц вперед.
Одна из аксиом их поведения: безудержная активность,
вначале беспорядочная, но вскоре продолжающаяся в стенах
современного института или завода, в большом коллективе.
И взрослые ’’мальчики” , герои НФ предстают перед нами
уже в виде активистов науки и техники.
В стороне от научного прогресса, от бурливой университетской
среды ведут незаметное существование герои
В. Шефнера, изобретатели-одиночки.
В. Шефнер — ленинградский поэт; он дебютировал в
1936 г. — на три года позже другого ленинградца, Г. Гора,
— еще успел пережить литературные споры и влияние акмеизма;
в 1947 г. он — как и Гор — сильно критиковался за
созерцательность и элегичность своих стихов, но продолжал
публиковать, а с конца 50-х гг. стал — и остается до сих пор
— одним из наиболее часто встречающихся в печати советских
поэтов.
В 1964 г. Шефнер публикует утопическую полупародию-
полусказку ’’Девушка у обрыва” , рассказ о жизни и любви
гениального изобретателя, обставленный шутливыми деталями
сказочного XXIII столетия, домиками отдыха из шоко-
157
лада, яичного порошка и леденцов, роботами, рецензирующими
стихи. После этого Шефнер довольно регулярно обращается
к сказочно-фантастической форме; в 60-х гг. он
пишет свои ’’полувероятные истории” — повести ’’Скромный
гений” , ’’Человек с пятью ’не’ ”, ’’Счастливый неудачник” ,
’’Запоздалый стрелок” . Все они похожи друг на друга по
стилю, композиции и настроению.
Самая короткая из них: ’’Скромный гений” .
Это история Сергея Кладезева, обыкновенного человека с
очень обыкновенной жизнью. Он кончил техникум, полюбил
одну девушку, из застенчивости ухаживал за другой, по
ошибке женился на третьей, несимпатичной и занятой вышиванием
ковриков с лебедями и оленями. Он работал техни-
ком-контролером, воевал, продолжал служить, выслушивать
ругань жены и думать о своей первой любви. Самая
заурядная жизнь. За исключением одного: Сергей наделен
великим даром. Он изобретает коньки, скользящие по
воде и дарит их своей случайной подружке; строит фотоаппарат,
снимающий будущее, но когда встречается с любимой
девушкой и демонстрирует ей действие аппарата, на
снимке получается незнакомая женщина — будущая жена,
— и девушка уходит от Сергея. Открытия его гениальны, но
они не производят переворота в технике, не дают их творцу
ни счастья, ни денег, ни славы. ’’Так как у него не было
никакой ученой степени, то никто особенного значения не
придавал его открытиям. А проталкивать свои изобретения
он не умел, да и не слишком к этому стремился”23. Только
под старость он вдруг понимает, в чем был смысл его жизни,
включает свой самый удивительный, сконструированный
для разового пользования прибор для омоложения, возвращает
молодость себе и любимой, и едет с ней кататься на
водяных коньках по озеру.
Как две капли воды похожи на Сергея герои других по-
лувероятных историй. Все это люди, не умеющие ’’устраиваться”
, лишенные каких-либо амбиций, чудаки — слишком
добрые, слишком доверчивые и безобидные. Почти симво-
лична — в ’’Человеке с пятью ’не’ ” — судьба изобретателя
158
препарата против лысения, имеющего побочное действие:
бурный рост волос на всем теле. Изобретатель мечтает о
дне, когда все человечество будет бесплатно носить удобную
и теплую шерсть вместо одежды, а тем временем его практичная
жена заставляет его непрерывно выращивать на самом
себе шерсть, стрижет ее, и вяжет из нее кофточки,
которые затем продает на базаре.
Деятельность этих чудаков смешна и нелепа, у нее всегда
благородная цель, и всегда она оборачивается против них
самих. Их изумительные открытия не имеют, конечно,
ничего общего с наукой и техникой: в них материализуется
доброта и любовь ’’скромных гениев” к людям. Однако,
рядом с ними живут пошлые жены; фальшивые, но официально
признанные изобретатели, патентующие мыло ”Не
воруй” с брикетом несмывающейся черной туши внутри;
ужасные бюрократы и псевдо-поэты, промышляющие угодливыми
песнопениями. Это они опошляют все благородные
помыслы, им не нужны сказочные дары.
Герой Шефнера дан в постоянном столкновении с окружающим
его миром. Этим он отличается и от положительного
производственного типа, и от героя молодой прозы,
бунт которого длится лишь в отрочестве. В ’’Скромном
гении” конец счастливый, но это условный конец; счастья
герой достигает лишь во второй, фантастической жизни.
Повесть грустна, и так же печальны другие полувероятные
истории, и даже утопическая ’’Девушка у обрыва” . Ибо
настоящая действительность сильнее мечты, не поддержанной
современной организацией, техникой и пропагандой.
И все же грусть Шефнера не глубокая, его герои не трагичны;
несмотря на свои вечные неудачи, они счастливы
как истинные поэты, — гораздо больше, чем их счастливые
мещанские соперники. Противопоставление герой — мир не
кажется непреодолимым; мещанство гнездится повсюду,
но и носителей мечты много. Главное, о чем, на наш взгляд,
говорит Шефнер, — то, что самые важные для человека ценности
скрыты в нем самом, они проявляются не столько в
великих подвигах и свершениях, сколько в повседневной
159
жизни, в обыкновенных чувствах, в общении с другими
людьми.
Не стоит подчеркивать, насколько это противоречит
штампу деятельного, перекраивающего вселенную положительного
героя.
Шефнер представляет в своих ’’полувероятных историях”
одну из самых ярких струй течения, возникшего в период
второй ’’оттепели” (1962—64), которое условно можно назвать
’’поэтической” НФ.
Прикасается к Шефнеру одной гранью своих многоликих
повестей Г. Гор; для него тоже характерен интерес к
повседневному герою, к бытовым мелочам; один из его
многочисленных космических пришельцев, Сережа из ’’Минотавра”
(между прочим, у Шефнера в ’’Человеке с пятью
’не’ ” есть персонаж Вася-с-Марса) говорит: ’’Человека делает
человеком не квантовая механика, не биофизика, а
обыденность, привычки. Лиши человека привычек — и он
станет абстракцией, иксом или игреком”24.
Обыкновенные люди со смешными привычками, но обладающие
каким-нибудь удивительным даром, становятся
традиционным героем поэтической НФ, они выступают в
рассказах В. Григорьева (”Рог изобилия”), Д. Биленкина
(’’Человек, который присутствовал”) , Р. Ярова (’’Вторая
стадия”) , а В. Колупаев, дебютировавший в 1969 г., посвящает
им почти все рассказы своего первого сборника.
Маленький человек с годами преображается. Он обнаруживает
в себе все большие залежи прекрасных чувств, он
все меньше смешон. У Колупаева он превращается в образец
человеческого поведения, поражает своей твердостью
(полностью отсутствовавшей у персонажей Шефнера), принимается
учить своим примером других — не сознательно,
правда, но в намерении автора.
Он возвышается и возвышает себе подобных, иными
словами, теряет оригинальность и начинает выполнять
функцию положительного героя соцреализма.
Остаются в ’’приниженной” конвенции жители Великого
160
Гусляра из цикла рассказов К. Булычева. Городок этот расположен
где-то между Вологдой и Архангельском; в нем
имеется главная улица с универмагом, книжным и зоомагазином,
а также парк. Начиная с 1967 г. в нем стали появляться
космические пришельцы. Главная тема рассказов: поведение
местных жителей, сталкивающихся с необычайным.
Главный интерес рассказов в том, что ничего необычайного
не происходит.
Действующие лица цикла — плотники, счетоводы, продавцы.
Они не очень умны и очень мало деятельны. Заставить
их работать с энтузиазмом можно лишь тайно введя в
их организм - вместе с вином — особый препарат (рассказ
’’Две капли на стакан вина”) . Мировые проблемы их не касаются,
их больше волнует, как прожить до очередной получки.
Появление инопланетян их не удивляет. Для них
более смахивает на фантастику внезапное решение соседа
купить жене подарок за 12 рублей, чем встреча с трехглазым
пришельцем (’’Надо помочь”). Когда в зоомагазине
появляются в продаже золотые рыбки, выполняющие
по три любых пожелания, оказывается, что сокровенные
стремления героев по меньшей мере прозаичны. Вот сокращенный
перечень исполненных заказов: восемь костюмов,
платья, французские духи, грузовик с белыми грибами,
наконец, водопровод, брызжущий водкой, — понадобилось
дополнительное пожелание, чтобы вернуть городу воду.
Жители городка ведут такую серую жизнь, их занимают
такие мелкие заботы, их участие в гигантских переворотах
нашей эпохи настолько ничтожно, что самые удивительные
чудеса они сводят к уровню повседневных мелочей.
Назвать положительными таких героев нельзя. И все же
они тоже способны совершать хорошие поступки. Булычев
высмеивает их, но добродушно и любя. В конце концов
он даже согласен, чтобы они представляли собой человечество,
ведь инопланетяне из его рассказов тоже провинциалы.
’’Гуслярский” цикл Булычева встретился с необычайным
успехом у читателей, а его главный герой Корнелий
Удалов, воплощение ’’среднего гражданина” стал, пожалуй,
161
самым популярным героем НФ. Вообще надо сказать, что
проза Булычева - одно из самых заметных явлений в НФ
конца 60-х - начала 70-х годов.
Итак, мы познакомились с разными типами героев НФ —
утопическим, молодежным, опоэтизированным ’’обыкновенным”,
смешным провинциалом, — и можем прийти к довольно
очевидному заключению.
Чем меньше в литературном герое от абстрактного идеала,
тем больше в нем жизни; и по мере того, как герой
приближается к обыденной действительности, он отдаляется
от положительного образа, созданного по жестким законам
соцреализма.
И в то же время соцреализм — государственное учреждение
— обладает огромной массой; избежать его притяжения
в советской литературе способны немногие. Когда ослабевает
центростремительная сила, засасывающая советское
общество вокруг одной центральной точки, писатели и их
творения могут оторваться от нее довольно далеко. Но это,
в большинстве случаев, — эллиптическая орбита кометы,
отдаление ее лишь предваряет неизбежный перигей.
В одной из первых книг ’’исповедальной прозы”, в ’’Коллегах”
В. Аксенова, есть очень знаменательное место. Мудрый
коммунист, предмет восхищения героя повести рассказывает
о своем друге, на котором со времен войны лежит
несмываемое пятно: попав в плен, он — отважный в бою —
испугался казни, ожидающей всех коммунистов и евреев,
и зарыл в землю свой партбилет. Рассказчик спрашивает
Зеленина, молодого ’’гневного” героя: ’’Вот рассудите:
подлец он или нет?” И тот отвечает: ”Я не знаю /.../ такой
страшный выбор... Может быть, он и не подлец, но не коммунист.
Просто человек” . Мир делится на людей и коммунистов
— а коммунист должен пойти даже на бессмысленную
смерть, лишь бы не нарушить неписаного кодекса сверхлюдей.
И Зеленин с волнением задает себе вопрос: способны ли
люди его поколения выдержать экзамен на сверхлюдей,
’’экзамен на мужество и верность” , — и восклицает: ”Да,
162
способны!”25; объяснение же этой уверенности: он и его
друзья живут не для себя, а для других.
Герой молодой прозы — Зеленин очень типичен — самый
неистовый бунтовщик против норм, традиций, истертых
фраз; самый, казалось бы, далекий от штампа, на проверку
оказывается несколько модернизированной в духе нового
времени постройкой, скелет которой тот же, что у положительных
героев Ажаева, Бабаевского, Фадеева: великая
идея, верность, мужество, чувство коллективизма.
В НФ рисунок персонажей освобожден от многих деталей,
присущих ’’реалистическому” методу; в ней еще отчетливее
видна причина неотвратимости перигея — возвращения
к определившемуся штампу.
Соцреалистический идеал отличается от других - античного,
христианского и т. д. — не столько новыми, неизвестными
ранее свойствами, сколько новым их сочетанием, но
прежде всего — отсутствием некоторых свойств.
Не предвидит этот идеал самостоятельного мышления
отдельной личности.
В постановлении редколлегии ’’Литературной газеты”,
осудившем один из самых важных современных советских
романов ”3а правое дело” В. Гроссмана, говорится: ’’Тенденциозно,
вопреки правде жизни, наиболее значительное
место в романе В. Гроссман отводит героям не действующим,
а рассуждающим и рефлектирующим”26.
И более десяти лет после разгрома книги Гроссмана, в
лучшее для НФ время мудрец из научно-фантастического
романа ’’Сиреневый кристалл” А. Меерова говорит: для
того, кто не действует, ”не остается ничего, кроме самолюбования
и ’’сампознания” (словечко-то какое нелепое!)
— занятий по сути своей никчемных, а посему порождающих
пессимизм, скепсис”27.
В соцреализме резко противопоставлено действие — и
никчемное, нелепое занятие рассуждение. К соцреалисти-
ческой схеме прочно привязывает героя молодежного, а
также персонажей Шефнера, Колупаева и даже Булычева,
163
вообще большинство героев НФ одно: они действуют и мало
думают.
Они, конечно, думают постоянно: научно-фантастические
книги заполнены их размышлениями, а после ’’оттепели”
они думают о таких предметах, упоминание о которых ранее
было немыслимо.
Но если думать значит — самостоятельно познавать мир и
определять свое место в нем, то им свойственно более или
менее полное бездумие.
Они заглядывают в себя на дозволенную глубину, их
взгляд на мир охватывает только те горизонты, за которые
выйти становится опасным. Даже герои произведений новой
волны, в которых ставятся серьезные проблемы, начинают
отдавать себе отчет в существовании таких проблем, лишь
столкнувшись с ними в определенной ситуации, требующей
действия.
Тип литературного персонажа, в котором мысль и дело
объединены нерасторжимо, впервые намечается в ’’Туманности
Андромеды” .
Персонажи ’’Туманности” идеальны, но индивидуализированы.
Они отличаются друг от друга своими расовыми
чертами: ”в каждой расе в древности была своя отточенность,
своя мера прекрасного”28. Но не это самое важное:
характеры всех главных героев романа основаны на внутренней
коллизии. Индивидуальные коллизии придают
особое лицо каждому герою.
Говоря о ’’человеке нашей мечты” , А. Казанцев тоже пытается
уверить читателей в необходимости внутренних
конфликтов; он называет в их числе неразделенную любовь,
творческую неудачу, ревность, в общем — ’’частный
неуспех у людей коммунистического общества”29. Типичный
советский утопист Казанцев путает — по-видимому,
вполне сознательно — понятия: частный неуспех еще не
конфликт. В советской утопии конфликтов нет. Они намечены
в книге Ефремова.
Самый интересный герой ’’Туманности” Мвен Мае, переживает
и самый глубокий конфликт: повышенная африкан-
164
ская эмоциональность отличает его от остальных героев, для
которых самообладание - кардинальная добродетель. Мвен
Мае вопреки мнению большинства решается на опасный
эксперимент, кончающийся катастрофой. В своих размышлениях
на острове Забвения Мвен Мае приходит к такому
выводу: ”Мы по-прежнему живем на цепи разума, — интеллектуальная
сторона у нас ушла вперед, а эмоциональная
отстала /.../. О ней надо позаботиться, чтобы не ей требовалась
цепь разума, а подчас разуму — ее цепь”30. В персонаже
Мвен Маса выражен — увы, убогим языком — конфликт
’’Зависти” Олеши, столкновение между поэтом и ’’физиком”
.
Герои ’’Туманности” заняты не только решением своих
внутренних проблем, они стараются осмыслить вселенную,
историю, развитие общества; они критикуют людей и общество
конца эры Разобщенного мира, т. е. — XX века.
Справедливости ради нужно сказать, что если бы Ефремов
закончил свою литературную карьеру после ’’Туманности
Андромеды” и ’’Сердца Змеи” - где он очень приближается
к установленному образцу советской утопии, — мы
не отводили бы ему и его героям особого места. Но выходит
следующий роман Ефремова ’’Лезвие бритвы” , и мы убеждаемся,
что новые люди ’’Туманности” — последний этап
перед переходом в другое качество.
Встречаемся мы с Гириным, героем ’’Лезвия бритвы” , в
1961 году, когда он, провинциальный врач-хирург и одареннейший
психофизиолог, приезжает по приглашению в один
из московских институтов. Гирину, несмотря на его огромный
опыт и талант предлагают место младшего сотрудника;
но он не гонится за постами и согласен работать — пока не
узнает, в чем состоит проблема, которой занимается пригласивший
его профессор. Ведется работа по созданию болевой
сыворотки, средства, вызывающего боль. Гирин считает
неприемлемым подход к проблеме. Происходит стычка между
ним и профессором: Да неужели вы не понимаете, что,
узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем
действовать наверняка в борьбе с нею!.. Видно, что вы не
диалектик. - Диалектика вещь сложная, — спокойно возра-
165
зил Гирин. — Вот, например, может быть и такая диалектика:
живем мы еще в далеко не устроенном мире, еще сильна
всяческая дрянь, и ваша болевая сыворотка преотличнейшим
образом может быть использована для неслыханных
пыток!”^ 1.
Гирин отказывается работать в советском учреждении,
отказывается по этическим мотивам! Такого эпизода, насколько
мне известно, не было в советской литературе.
Этим эпизодом начинается роман, и в нем завязывается
совершенно новый конфликт, — старый литературный
конфликт, изгнанный из литературы соцреализма: столкновение
положительного героя с его окружением.
Гирин занимается психофизиологией и философией человека,
созданной им самим. Его философия основана на
опыте исследований и размышлений. Он применяет ее
прежде всего на самом себе. В течение всей своей жизни он
не прекращает работы над собой во всех отношениях —
нравственном, интеллектуальном, физическом, профессиональном.
Он достигает необыкновенных результатов: пользуется
внушением, гипнотизируя больных или врагов, полностью
контролирует свои чувства и тело, обладает диагностическими
способностями, близкими телепатии. Он —
полубог, как люди XXX века. Его сверхчеловеческое могущество
объясняется просто: он приблизился к познанию
сущности человеческой психики и деятельности человеческого
организма. Гирин говорит: ’’Всех нас меняют, лепят
по-иному, оставляя лишь основу, время и опыт, да еще
собственное старание — падение или совершенствование”32.
То, что нас меняет — это внешние обстоятельства, встречи,
несчастья. Не от этого зависит сущность человеческого характера,
ее мы создаем своим собственным старанием.
Гирин занимается никчемными занятиями — самопознанием
и самосовершенствованием. Более того, в них он видит
ключ к превращению современного человека в человека
будущего. Рационалист и материалист Гирин рисуется Ефремовым
согласно нормам житий святых: говорится о его исключительности,
о его одиночестве среди непонимающих
166
и равнодушных ученых и директоров — сильных мира сего;
есть в его биографии элементы мученичества: Гирина невинно
осуждают, принижают, пишут доносы. У него есть
верная последовательница и множество будущих учеников,
которых одно его слово заставляет пересмотреть свои
взгляды на мир. Есть и чудеса — излечение неизлечимо
больных, — и навек обратившиеся в веру из благодарности.
Т
акое построение персонажа случается в соцреалистиче-
ских книгах - когда они говорят о революционном прошлом
или народном движении в капиталистических странах.
У Ефремова это делается наоборот: его герой, человек
будущего, противопоставлен современному — советскому!
— обществу. Мы говорили о столкновении героев Шефнера
с действительностью; но они никогда не выказывают своего
недовольства, их противники — мещане в обществе, а не само
общество. Гирин же ставит под сомнение устои общества
— идеологию, систему воспитания, он неустанно критикует
и — проповедует свои идеи.
Гирин — провозвестник и пророк новой философии человека.
В его образе Ефремов создал ’’положительно прекрасного”
— по выражению Достоевского — человека, положительного
героя не по указке сердца, отданного партии, а по собственному
разумению и воле.
Таких героев очень мало в советской литературе; он
сильно напоминает изобретателя Лопаткина — своей несгибаемостью,
аскетизмом, подвижничеством, верой в свою
правоту, своим одиночеством; и, может быть, еще больше
— теми же качествами, но сочетающимися с глубоким
убеждением в необходимости самопознания, самосовершенствования
— он напоминает Костоглотова из ’’Ракового
корпуса” Солженицына.
Итак, мы видим, что ’’дислокация” положительных героев
в НФ, схему которой мы составили на основании отчета
о высказываниях фантастов о человеке ’’нашей мечты” ,
167
ложна. Ефремов не стоит на крайне ортодоксальном фланге,
наоборот — это он ушел дальше всех от центра тяготения
— официального соцреализма, — вокруг которого толкутся
другие советские утописты и большая часть авторов НФ.
Не будем составлять новой схемы — она не может быть
полной. Новых героев создали Стругацкие в своих книгах
1966—68 гг., новый, самоуглубленный герой появился в
последних повестях Савченко, отдельного упоминания заслуживают
любопытнейшие персонажи Г. Гора. О них мы
скажем в другом месте.
168
Глава 6
СТРУКТУРЫ ЖАНРА: СЮЖЕТ
На далекую планету Цеверу посылаются с Земли космические
строители для установки маяка, замыкающего сеть
сверхдальней связи. По очереди гибнут три экспедиции: корабли
возвращаются с мертвыми пилотами. Готовится очередной
полет. Пилоту вводится вытяжка из мозга последнего
погибшего, Ральфа: эксперимент, последствий которого
нельзя предвидеть. Когда корабль приближается к цели,
пилот вдруг ощущает сигнал об опасности. Стенки кабины
загораются словами: ’’Разум Цеверы приветствует тебя.
Узнай правду о себе” . Не дожидаясь продолжения, предупрежденный
памятью Ральфа, герой догадывается, что его
предшественники погибли от ужаса, прочтя эту правду,
— и закрывает глаза. С закрытыми глазами герой садится
на Цеверу. Он устанавливает маяк — сооружение ярко красного
цвета на фоне монотонной серости мертвой планеты.
169
Никто не знает, что под ее поверхностью в пещерах живут
странные белесые гроздья. Герой улетает, но за ним гонятся
’’огненные буквы” ; он возвращается на Цеверу, перекрашивает
маяк под цвет окружения, и освобожденный, летит
на Землю. В финале мы узнаем, что герой превратился в
другого человека — Ральфа, мозг которого в минуту опасности
подчинил себе сознание ’’хозяина” .
Этот рассказ — ’’Эксперимент с неуправляемыми последствиями”
(1972) А. Горбовского — занимает несколько
страниц. В нем спрессован добрый десяток фантастических
идей. В нем сосуществуют два сюжета: история полета на
планету с неожиданной, непонятной формой разумной жизни
и неожиданного контакта с нею; история человека, искусственным
путем получившего две памяти, два сознания.
Первый сюжет — линейный, он ведет нас к первой кульминации
— разгадке причины враждебности чужого разума; второй
сюжет составляет завязку рассказа, затем вытесняется
первым, почти забывается и, как спрятанная пружина, разворачивается
в последних фразах рассказа, во второй развязке.
События и поступки героя лишены пространных мотивировок:
”не объяснять, а показывать” — принцип рассказа,
принцип сжатого, динамического повествования.
Техника композиции, сюжета, наррации в 60-е гг. ушла
от ’’ближней” НФ и традиционной научной и социальной
утопии на пол столетия вперед. И в коротких формах — новеллах
Горбовского, Булычева, Гансовского, Шалимова,
Биленкина, — и в больших произведениях Громовой, Емце-
ва и Парнова, Савченко, Стругацких, — видно, как НФ все
больше приближается к уровню настоящей, живой литературы.
Процесс усложнения формы идет двумя путями: во-первых,
это усовершенствование повествовательного мастерства;
во-вторых — изменение функции научно-фантастического
события в сюжете.
В ’’Разводе по-марсиански” (1967) О. Ларионовой жители
Марса умеют полностью изменять свою внешность. Героиня
рассказа уходит от своего мужа. Он остается один и внезап-
170
но обнаруживает ужас положения, в котором буквально осуществляется
выражение ’’любимый человек стал чужим” .
Рассказ Ларионовой — психологический эскиз. Научно-фантастическая
в нем лишь экспозиция, сам сюжет — семейная
сцена, ссора, воспоминания об ушедшей любви, наконец,
блуждания героя по улицам и барам города — марсианского,
но ничем не отличающегося от любого земного, — в
тщетных поисках жены, сюжет этот с НФ не имеет ничего
общего. Мы даже не знаем, каковы из себя эти жители
Марса.
Научно-фантастическая идея в сюжете сходит на задний
план.
Возникает вполне оправданный вопрос: какой же перед
нами сюжет?
Во введении я говорил о том, что ’’чистые” жанры обрабатывают
готовые сюжетные схемы. НФ становится жанром
в 10—20-е годы, когда мотивы, воспринимавшиеся современниками
Верна или Уэллса как новшество, стали узнаваться
как повторение читателями ’’журнальной пульпы” , то
есть прессы, печатающей дешевую (во всех значениях) литературу.
Тогда-то и канонизировались сюжеты НФ. И сразу
же оказалось, что исходные научно-фантастические мотивы
(идеи) обрастают сюжетным материалом за счет схем, выработанных
в других жанрах.
Уже Гернсбек в своем скучнейшем и — технологически
говоря — пророческом романе счел нужным обратиться к
приключенческому сюжету, чтобы склеить воедино свои
предсказания. Дальше — больше, и совсем не научные приключения
в других измерениях, мирах и эпохах завоевали
весь рынок НФ. Космической опере услужливо отдали свои
сюжеты и персонажей экзотический роман, вестерн, роман
плаща и шпаги, роман о пиратах. Фэнтези Меррита и Лов-
крафта усиленно питалась мотивами оккультной литературы
XIX—XX вв., под влиянием г-жи Блаватской и Рудольфа
Штейнера возродившей мифы об Атлантиде, создавшей
увлечение магией, каббалой, алхимией, месмеризмом и пр.
Сказания о сумасшедших ученых и о жукоглазых чудови-
171
щах БЭМах, писались по всем правилам готического романа
тайн и ужасов.
Положение не изменилось и поныне. Если взять самые известные
книги НФ, не ограничивающиеся однособытийной
формой новеллы, то мы увидим, что ’’Повелитель света”
Р. Зелазни — оккультный роман, ’’Дюна” Ф. Герберта —
помесь романа колониального с историей придворных
интриг, в тетралогии Ф. Дж. Фармера о Мире Ярусов типичный
вестерн перемежается с рыцарским романом, ”Вави-
лон-17” С. Делани основан на шпионской схеме, вызвавший
сенсацию ’’Все на Занзибар” Д. Браннера имитирует структуру
повествования американской трилогии Дос Пассоса,
ит. д.
Парадокс совсем в духе НФ: она оказалась неспособной
произвести определенную, самостоятельную жанровую схему.
Когда мы говорим ’’детектив” или ’’шпионский роман” ,
воображение немедленно подсказывает нам цельную готовую
историю, мы думаем не об убийстве, а о процессе раскрытия
убийства, не о шпионской организации, а о ее действиях,
о борьбе разных супершпионов. На сигнал ”НФ”
наша память реагирует восстановлением нескончаемого перечня
прогнозов, ситуаций, образов, парадоксов, и на этом
останавливается: даже зная тему научно-фантастического
произведения мы не можем предвидеть его сюжета.
Поэтому приходится изменить поставленный вопрос:
говоря о НФ, рассматривать стоит не сюжетную схему, а
сюжетообразующую роль научно-фантастической идеи.
Некоторое внимание этому вопросу уделяет С. Лем в
своей ’’Фантастике и футурологии” , книге, безжалостно
критикующей всю научную фантастику. С диаметрально
противоположной точки зрения на вопрос отвечает советский
популярный фантаст Г. Альтов, многие годы собиравший
’’Регистр фантастических идей” и написавший книгу
’’Алгоритм изобретения” , в которой разрабатывал теорию
рождения новых открытий. Рассуждения Альтова интересны
и очень показательны.
172
Классифицировав в своем ’’Регистре” 3 тысячи идей, Альтов
утверждает, что в развитии любой фантастической темы
существует четыре ’’резко отличающиеся категории идей” 1.
Допустим, тема: ’’способы и средства межзвездных перелетов”
.
Первый ее ’’этаж” (в теоретической формулировке Альтова:
’’один объект, дающий некий фантастический результат”)
охватывает идеи, связанные с полетом первого корабля.
Второй этаж (’’много объектов, дающих в совокупности
уже совсем иной результат”) : множество звездолетов, регулярные
рейсы, колонизация миров, контакты между ними,
проблемы типа: как будет проходить эволюция на разных
планетах с разными условиями? Третий этаж (”те же результаты,
но достигаемые без объекта”) : межзвездный полет
заменяется межпланетным, т. е. мы обходимся уже известной
техникой, не прибегая к световым или сверхсветовым
скоростям, если звездные системы сближаются, если недалеко
от Солнца существуют невидимые инфра-звезды, если
планетолет летит бесконечно долго (тут варианты: анабиоз,
бессмертные пилоты, поколения, сменяющиеся во время
полета). Наконец, четвертый этаж: ’’условия, при которых
отпадает необходимость в результатах” . Альтов дает пример
собственного рассказа: развитые цивилизации космоса
собирают свои системы в шаровые скопления и не сталкиваются
более со сверхдальними расстояниями.
Логика этой теории кажется Альтову неопровержимой;
можно было бы показать, что это не совсем так. Важнее,
однако, подчеркнуть, что речь у Альтова все время идет об
идеях, но отнюдь не о том, как их развить в литературный
сюжет; идея четвертого этажа с сюжетной точки зрения так
же первична, как и идеи первых этажей, все они — исходные
ситуации, требующие развития, и в литературном отношении
никак не составляют ’’резко отличающихся категорий” .
Альтов — один из главных сторонников теории героя-от-
блеска научно-фантастических идей — требует от писателей
использовать в работе добротные идеи, которые он называет
’’красками на палитре писателя-фантаста” . С этим
173
можно согласиться. Но он дает понять, что эти краски и
есть самое главное в НФ, он громит тех, кто думает иначе и
считает НФ прежде всего литературой. По сути дела Альтов
нагружает НФ раз и навсегда определенной задачей: пропагандировать
научно-технический прогресс. Терминология его
теории становится бессмысленной, едва лишь применить ее
к понятию, а не к объекту: она вращается вокруг объекта и
результата его действия, обрекает на манипуляции с продуктами
технологии.
Для того, чтобы убедиться в приложимости рассуждений
Альтова к литературе, рассмотрим один из его рассказов
— ’’Порт Каменных Бурь” (1965), упомянутый в статье для
иллюстрации четвертого этажа темы межзвездных перелетов.
Разведчик исследует планету, движущуюся по анормальной
орбите, и находит на ней доказательство деятельности
внеземного Разума — ’’Круг” , таинственное устройство,
одно из многих в космосе, назначение которого - противодействовать
разбеганию галактик. Разведчик входит в
контакт с Кругом — неизвестно, каким образом, — и улетает
вместе с планетой к центру галактики, к шаровым
скоплениям — звездным городам. Все это пересказывается
и комментируется нарратором, дешифровщиком сообщения,
присланного пилотом. Комментарии и размышления,
разряженные описаниями пейзажа планеты, заполняют весь
небольшой объем рассказа.
Рассказчик живет в будущем, он говорит: ’’Уже в первой
трети XXI века все люди получили условия, необходимые
для существования. Давно прекратились войны. Исчезли
болезни и голод” . Действие происходит при коммунизме,
сомнений нет. Но на последней странице тот же нарратор
мечтает: ”Мы будем как экипаж корабля, пересекающего
великий и бурный океан вселенной /.../. Дорогу в зазвезд-
ные дальние дали осилит лишь объединенное человеческое
общество, навсегда покончившее с войнами и бесполезной
тратой энергии”2. Эта фраза и по грамматической форме, и
по смыслу — пожелание, направленное в будущее. Из нее
174
явствует, что в обществе нарратора сохранились войны, а
это противоречит началу рассказа. В чем дело? Просто писатель,
увлекшись своей научно-фантастической идеей и подкрашивая
ее штампованными лозунгами (фраза об объединенном
обществе — дословная цитата из ’’Звездных кораблей”
Ефремова), напутал и включился в рассказ помимо
своего нарратора, доказав тем самым полную случайность
формы рассказа.
Для Альтова ничего не существует кроме идеи, в ’’Порте
Каменных Бурь” нет литературных событий.
Несколько живее построены рассказы, где обсуждаются
проблемы с альтернативными решениями, например, ’’Второй
путь” (1963) В. Журавлевой. Тут перед человечеством,
колонизующим космос, стоит выбор: размножить во вселенной
бесчисленные копии Земли, переделав планеты для человека,
или же предоставить каждой колонии свой путь,
рискуя перерождением колонистов в неземные существа. И
снова писательница отказывается от литературных возможностей
своей идеи; она не показывает воочию трансформацию
человека, а ограничивается изложением сути вопроса,
пользуясь для своей футурологической темы древней формой
диалога между сторонниками разных решений. Столкновение
двух идей создает здесь некоторую драматизацию,
но событие и сюжет остаются почти неощутимой тенью.
Эти рассказы Альтова, Журавлевой и другие того же
типа выполняют ту же функцию, что и научно-популярная
литература, которая, кстати сказать, очень развита в СССР,
где различается даже особый жанр научно-фантастического
очерка.
Совершенно ясно, что качество идеи никак не влияет на
построение сюжета, а ее развитие и наращивание вокруг нее
литературных событий — две разные вещи.
С. Лем ядовито утверждает, что исходный толчок для
написания научно-фантастического рассказа может дать
любое бессмысленное словосочетание, и доказывает это
практическими примерами, такими же бессмысленными3.
Часто используется аргумент о том, что научно-фантасти-
175
ческая идея развивается внутри произведения строго научно,
согласно научной логике, что якобы доказывает отличие НФ
от других жанров; мне кажется, что это положение не выдерживает
критики; закон последовательного развития
заданной ситуации, характеров, действия обязателен везде
в прозе. Научная же логика в литературе просто не существует.
Идея НФ — элемент внелитературный. И так же, как явления
других внелитературных рядов (исторический факт,
газетное сообщение, партитура симфонии или разговор в
автобусе), она должна преобразиться для того, чтобы войти
в литературную структуру произведения.
Говоря в своей статье о втором этаже темы ’’космический
скафандр” Альтов замечает: его пока нет, ибо ’’переход
от одного скафандра к массовому их применению не открывает
сколько-нибудь интересных литературных возможностей”
4. Это — применение научной логики к литературе.
Мы не можем поверить, что Альтов незнаком с одним из
самых знаменитых научно-фантастических рассказов —
’’Калейдоскопом” Р. Бредбери, где ситуация, в конечном
итоге, основана именно на идее многих скафандров, благодаря
которым люди, выброшенные из корабля в безвоздушное
пространство могут переговариваться и жить — ровно
столько, сколько нужно, чтобы осознать смысл жизни (или
смерти). Во многих ранних и более поздних книгах такая
ситуация невозможна, так как в них космонавты обходятся
без скафандров. Но не наличием скафандров определяется
сюжет рассказа Бредбери. В памяти от него остаются два
образа: бескрайняя бездна, пронзенная слабым пунктиром
человеческих голосов, и в финале — падающая звезда, сгорающий
в земной атмосфере космонавт.
’’Калейдоскоп” — развернутая метафора, как и все лучшие
рассказы Бредбери; их строение подчиняется логике
образа, логике поэтических ассоциаций, — и только в этом
их право занимать почетное место в современной американской
литературе.
Бредбери, Ларионова в ’’Разводе по-марсиански” исполь-
176
зуют научно-фантастические идеи в качестве мотивировки
ситуации, в которой реализуется метафора, иносказание.
На мой взгляд здесь кроется литературная специфика
научно-фантастической идеи: она статична; она снабжает
писателя не действием, т. е. последовательностью событий, а
образами и ситуациями. Вселяющие ужас звезды в ночном
небе у Азимова — образ; кристаллические джунгли и крокодилы
у Балларда — образы; объятый пламенем Галли Фойл,
летящий сквозь вселенную и время в романе Бестера, —
тоже образ; а все темы НФ — встреча с новым, кибернетический
гомункул, нашествие марсиан, тираническое общество,
петли времени — ситуации, отправные точки для любого
сюжета и любой формы.
В статичности слабость и сила НФ.
Слабость потому, что, поставив во главе угла самодовлеющую
идею, т. е. оригинальность, смелость, логику, точность
предвидения гипотезы, а не ее способность порождать сюжет,
персонажей, образы, — НФ вынуждена либо просто-напросто
излагать эту идею, либо занимать у других события и приемы.
В первом случае она приближается к более или менее
занимательной научной популяризации; а до тех пор, пока
НФ одалживает готовые клише у паралитературных жанров,
ее место среди них.
Сила же НФ в том, что она — идеальный литературный
прием, прием очень современный, еще далеко не исследованный,
способный дать неисчерпаемые запасы новых ситуаций
и образов, не навязывая никакой заранее заданной
схемы.
После перелома в начале 60-х гг. советская НФ начинает
жить полной жизнью; производственная НФ, утопия, антика-
питалистический памфлет, космическая опера, фантастический
детектив, фантастика юмористическая, лирическая,
реалистическая, психологическая — думается, что богатство
тем и сюжетов в то время почти сравнялось с протеевым
многообразием раннего периода.
Даже оккультный роман воскрес в ту пору под пером
177
О.Бердника — в ’’Путешествии в антимир” (1963) и особенно
в ’’Подвиге Вайвасваты” (1965). В этом последнем романе
действие происходит в Атлантиде, населенной магами,
которые своим колдовством управляют стихиями. Там
известны самые современные технические новинки, есть
летающие лодки и смертоносные лучи и молнии, там есть и
звездные пришельцы-боги, проповедующие философию Вечного
Космического Магнита, есть и мифический герой
Вайвасвата, созданный богами, чтобы вывести из обреченной
Атлантиды праведных.
Господствующая поначалу утопическая литература меняется.
Она вбирает в себя ситуации и сюжетные повороты из
других под-жанров, пользуется опытом молодой прозы.
С. Снегов, автор нескольких вполне реалистических романов
о современной жизни, контаминировал утопию схемой
космической оперы и придал ей невиданные масштабы. В
’’Людях как боги” (1966, 1968) он описывает титаническую
и длящуюся вечность борьбу между хорошими галактами
и ’’зловредами” , пиратами вселенной. Люди Земли выступают
в поход к логову ’’зловредов” , созвездию Персея, и
там дают баталию под стать самым необузданным комиксам:
’’зловреды” закривляют пространство вокруг землян,
а те вырываются из западни, аннигилируя планеты и заменяя
пространство во время.
К середине 60-х гг. спадает волна больших утопических
произведений. Фантастов привлекают отдельные, часто неожиданные
аспекты будущего, лишь отдаленно связанные с
техническими достижениями.
В рассказе Г. Шаха ”И деревья, как всадники...” (1973)
действие разыгрывается через много сот лет; великих
произведений литературы к этому времени становится
столько, что никто не в состоянии ознакомиться хотя бы с
’’минимальными” изданиями классики. В рамки общедоступной
литературы не входят такие книги, как ’’Хаджи
Мурат” , ’’Шагреневая кожа” — ’’менее важные” в гигантском
творчестве Толстого или Бальзака. Так люди теряют
178
бессценные шедевры; и вот один писатель переписывает забытые
книги, выдавая их за собственные.
Рассказ Шаха очень красноречиво свидетельствует о
смещении центра внимания в советской НФ. Даже когда
фоном остается коммунистическое общество, трудно назвать
такую НФ утопической.
Тем более, это уже не ’’советская утопия” , созданная по
канонам соцреализма.
Среди требований к произведению, которое может нести
почетное звание соцреалистического, есть нечто, обозначенное
термином ’’жизнеутверждающий оптимизм” .
Дело в том, что литература соцреализма принципиально
отвергает трагический сюжет.
Когда Вс. Вишневский назвал свою пьесу ’’Оптимистической
трагедией” , самые авторитетные критики отказались
принять оксюморон: ”В настоящем и недалеком прошлом,
со времени великого Октября, не было элементов для трагизма.
Трагедия — это такое противоречие, которое должно
привести героя к гибели; у нас таких положений со времени
великого Октября не было и нет”5.
Время идет, ’’Оптимистическая трагедия” давно стала
классикой, однако в убеждении руководителей жизни и
искусства за полвека не прибавилось элементов для трагизма
ни в настоящем, ни в ’’недалеком прошлом” .
Забегая вперед, оговорюсь: в 70-е годы положение внешне
несколько изменилось: критики с гордостью заговорили
об обогащении тематики именно элементами трагизма,
ссылаясь прежде всего на повесть В. Распутина ”Живи и помни”
, официально зачисленную в выдающиеся достижения
советской прозы. Однако, ’’Живи и помни” поражает именно
как исключение из остающегося в силе правила. И критики,
и сам автор в своих публичных выступлениях старательно
трудятся над оптимистическим истолкованием книги. Об
этом явлении я еще буду говорить, пока же напомню, что
разбираю здесь модель, так сказать, ’’твердого” соцреализма,
сложившуюся в 30—50-е и сохраняющую свой авторитет
179
в 60-е годы. В этой модели оптимистическая настройка обязательна
и прямо вытекает из определения соцреалистиче-
ского метода, который ’’требует от художника правдивого,
конкретно-исторического изображения действительности
в ее революционном развитии”6.
Вооруженный марксистско-ленинским мировоззрением
писатель ясно видит в самой безысходной ситуации подспудное
движение к одной для всех и во все времена великой
Цели.
Поэтому в сюжетах драматических — о войне, о прошлом
— необходимы указания о том, что страдания или гибель
героев в конечном счете — еще один шаг вперед в победном
марше.
Книги о современной советской жизни должны оканчиваться
счастливо: с еще большей постоянностью, чем пресловутые
голливудские фильмы, советская литература наказывает
злодеев, награждает героев, старательно избегает всего,
что может оскорбить нежные вкусы читателей.
В нашумевшей статье ’’Писатель, читатель, критик” ,
направленной против критики сталинского толка, В. Лакшин
восклицал: ’’Критик предлагает автору строго выбирать,
— куда глядеть и что видеть. Но разве художник не
вправе глядеть всюду и видеть все, что только трогает и
волнует его на широкой дороге жизни?”7
Свой риторический вопрос Лакшин задал почти двадцать
лет назад, с тем же правом он мог бы повторить его
сегодня.
Приведем здесь цитату из книги известного критика
Ю. Андреева, образцовой для ’’официального” типа мышления
в литературе.
Речь идет о ’’Предварительных итогах” одной из московских
повестей Ю. Трифонова — важнейшего явления в прозе
начала 70-х годов. Эта повесть — история неглупого и неплохого
человека, запутавшегося в семейных дрязгах с
женой-мещанкой, сыном-обманщиком, фальшивыми друзьями,
мрачная повесть о людях, которых постепенно убивает
обыденность.
180
Ю. Андреев — в отличие от критиков сталинского времени
и как бы отвечая Лакшину — признает за автором право
’’наводить лупу на этот шуршащий угол” . Но добавляет:
”И все же... Смысл искусства ведь не только в том, чтобы
изобразить тот или иной объект /.../, но и в том, чтобы с
истинно общественной позиции оценить, чтобы дать верную
этическую оценку явлению /.../. Я говорю об отношении
Ю. Трифонова к избранному им тараканьему скопищу. Ни
штрихом, ни интонацией Ю. Трифонов не дает почувствовать,
что за пределами светового круга, в котором копошатся
его персонажи, существует большой человеческий
мир” .
Заканчивая же, Ю. Андреев безапелляционно заявляет:
’’Пойти в своих выводах о сути исследуемого им явления до
конца художник не сумел, фокус его микроскопа оказался
смазан, предварительные исследования расплывчаты и
неточны”8.
В чем суть упреков критика?
В повести Трифонова нет ни грана оптимизма, нет сцен
с участием мудрых коммунистов, нет перековки героев,
обретающих веру в светлые перспективы, нет жизнеутверждающего
финала.
В корне неправильна точка зрения писателя.
Так разговор об оптимизме привел нас к размышлениям
о роли автора в произведении, о точке зрения.
Писатель соцреализма знает, куда глядеть. Заглядывая
же в менее презентабельные уголки, он одним глазом косит
в должном направлении; его персонажи могут с головой
утонуть в косности, но сам он знает, что правда факта не
имеет ничего общего с правдой явления, что идет революционное
развитие действительности, — и он должен дока-
зать свое знание.
Трагедия, безнадежность, пессимизм — мелкие отдельные
факты; оптимизм — правда явления, знак благонадежности
писателя. Это, так сказать, внелитературная функция оптимизма.
Литературная же состоит в том, что он фиксирует произ-
181
ведение в установленной системе координат: в системе соцреализма.
В современной советской литературе писатель чаще всего
играет ту же божественную роль, что и романисты XVIII—
XIX вв., более или менее открыто направляя действие,
сопровождая своих персонажей, поддерживая их или противопоставляя
им свою точку зрения, обращаясь к читателю
с пояснениями. Соцреализм не терпит смазанности, расплывчатости,
неточности; читатель должен ощущать крепящее
сердце присутствие автора, постоянного и всесильного хозяина
ситуации. Писатель же не может позволить себе вводить
в сомнения читателя; ’’инженер человеческих душ” ,
он обязан с высоты своего положения видеть все, все оценить,
сделать единственно верные выводы, вынести однозначный
приговор.
А если этого не делает писатель, за него делают критики:
’’московский цикл” Трифонова допущен в советскую литературу,
но неизменно сопровождается комментариями обратными
оценкам Ю. Андреева; новые критики убеждают
читателя, что повести совсем не мрачны, не пессимистичны,
наоборот, проникнуты оптимизмом и верой в идеал. Как
говорится в предисловии к одному из последних изданий:
в московских повестях жизнь просвечивается рентгеновскими
лучами, а ’’этими лучами для Трифонова всегда
были революционные традиции, нравственность, освященная
ими”9.
Так авторская — всегда жизнеутверждающая — точка зрения
становится по определению двигателем соцреалисти-
ческого сюжета.
Самое странное в рассказе Горбовского для читателя,
привыкшего к советским книгам, — не парадоксальные
научно-фантастические идеи, даже не искусные сюжетные
повороты, а полное отсутствие авторского суждения. Рассказ
этот невозможно классифицировать по признаку
оптимизм-пессимизм. Позиция писателя нейтральна, она расположена
где-то вне действия и вне персонажа. Автор отказывается
от каких-либо преимуществ по сравнению с чита-
182
телем, он знает не больше, и точно так же застигнут врасплох
неожиданным финалом.
Сюжет, свободный от авторского вмешательства, появляясь
в ’’утопических” по времени и месту действия произведениях,
полностью меняет их характер. Никаких оптимистических
акцентов, никаких окончательных решений
нет в рассказе Шаха. Благородный плагиат его героям представляется
сомнительным выходом, автор же не дает своего
мнения, предлагая читателю решать по-своему.
Утопия, и прежде всего советская утопия живет своей
идеальностью; она доказывается силой убеждения автора;
когда уходит в тень автор-конструктор идеала, кончается
утопия и начинается НФ.
Часть советской НФ осознает, наконец, свою функцию —
ту, которую мы назвали специфической функцией НФ, — и
принимается исследовать возможности, альтернативы, неизвестное.
Писатель видит новую ситуацию, и приглашает читателя
вместе с собой взглянуть, подумать и удивиться.
Чувство удивления — вот в чем очарование настоящей
НФ, недаром столько научно-фантастических журналов в
своих названиях повторяет слова ’’Амэйзинг” , ’’Астаун-
динг” , ’’Стартлинг” . Но удивление читателя возможно, если
его искренне разделяет автор; знающему же все наперед
писателю-богу нечему удивляться. В НФ писатель должен
отказаться (или притвориться, что отказывается) хотя бы
от части своего всеведения.
Этот отказ от категоричной точки зрения автора, от его
всеобъясняющего присутствия — грубое нарушение законов
соцреализма, — несомненно, главное литературное завоевание
новой волны в ’’чистой” НФ.
Открывается путь новым поискам.
По примеру ’’исповедальной” прозы новая НФ пользуется
одновременно отрывками из дневников, газетными заметками,
научными отчетами, строит сюжет на столкновении
разных точек зрения.
Изменение точки зрения освобождает повествование.
183
Самый смелый эксперимент в этом направлении проводит
Г. Гор, о котором я уже начал говорить.
Во всех произведениях Гора к превращениям времени и
пространства присоединяются метаморфозы персонажей.
В рассказе ’’Великий актер Джонс” (1966) настоящий
Э. А. По появляется в облике актера конца XX века, игравшего
его роль на сцене. Герой лучшей повести Гора ’’Минотавр”
предстает перед нами как книгоноша; читая Чехова
он становится похож на Чехова, изучая Мопассана, он меняется
с ним местами; за рюмкой коньяку он — обычный,
даже чересчур обычный парень Сережа, спустя минуту —
мудрый и всесильный инопланетянин. На бесконечных
превращениях основан роман ’’Изваяние” (1972), роман,
где нет никакой хронологической последовательности, где
время течет вспять, сюжет сложен из случайно — на первый
взгляд - составленных эпизодов, персонажи книг оживают
и включаются в действие, живые люди становятся знаками,
статуями, картинами, в одном человеке совмещаются разные
памяти, разные характеры, разные точки зрения.
Персонажи Гора двоятся, троятся, они — так же, как
предметы и время — лишены острых границ. Они живут, но
живут в мире многих измерений, где перемешаны сон,
реальность, символы.
Можно выделить две категории героев в книгах Гора.
Одни — такие, как лейтенант милиции из ’’Минотавра” ,
для которого встреча с неземным разумом — непозволительное
нарушение порядка. Среди действующих лиц этого типа
у Гора почти всегда есть автор НФ. Иногда это как бы сам
Гор. У него есть повесть ”Уэра”; в повести ’’Электронный
Мельмот” (1964) большую роль играет фантаст, тоже написавший
повесть ”Уэра” . Автор входит в произведение, но
не как надзиратель, а как действующее лицо, причем весьма
ограниченное в своих возможностях. Для писателей из книг
Гора выдумка, фантазия — игра, подчеркивающая прочность
устоев привычной реальности. Профессионалы необычного
менее всего подготовлены для встречи с иной реальностью
— именно они до последней минуты сомневаются в
184
действительности событий, выходящих за пределы их повседневного
опыта.
Гор походя смеется над претензиями фантастов представлять
авангард человечества, но, прежде всего, он расправляется
с мифом всезнающего автора.
Вторая категория его героев — те, кто представляет собой
Новое, и те, кто принимает его и старается понять. Это с
ними происходят превращения. Для них открыты разные
измерения, разные точки зрения, для них реальность становится
бесконечно богатой.
Сюжеты Гора одинаковы: тема — контакт с пришельцами,
эксперименты с памятью, чаще всего обе темы вместе,
— вокруг которой сплетается сеть метаморфоз и встреч.
Герои сходятся, разговаривают, задают друг другу вопросы.
Превращения дают возможность одному человеку поставить
много разных вопросов. Чаще всего эти вопросы — о сущности
времени, памяти, о реальности знаков и искусства, о
формах жизни — остаются без ответов: те, кому предстоит
отвечать, знают или слишком мало, или слишком много.
’’Пока умолчим” — любимая фраза героев Гора.
Цепь превращений, встреч практически неограничена,
вопросы не нуждаются в ответах. Сюжеты Гора не имеют
развязок и концовок; в них единственно важное: наблюдение,
описание мысли, предмета или ощущения.
Среди ортодоксальных советских критиков имеет хождение
клише насчет Гора: он, дескать, пишет философскую
прозу, но пишет ’’суховато, холодно” . В этом упреке, противоречащем
очевидности, ибо стиль Гора полон юмора и поэзии,
кроется все то же недовольство отсутствием настырного,
кричащего оптимизма и растерянность перед обилием
вопросов, поставленных Гором. Г. Гуревич растерялся настолько,
что зачислил ’’Докучливого собеседника” в разряд
’’антиутопий” , хотя в повести этой нет ни малейшего намека
на то, что обычно называется антиутопией, зато есть фрагменты
настоящей утопии.
Неуловимость и формальная многоликость книг Гора
идут от традиции Обэриутов, в первую очередь — от рома-
185
нов К. Вагинова, перед которым преклоняется Гор, и у которого
точно так же стерта грань между живыми людьми и
их отражением в словах и образах. В современной же литературе
Гор более всего близок — по композиции, по приему
опредмечивания времени, воспоминаний, сна — к трилогии
В. Катаева, единственному в новое время напечатанному
советскому анти-роману.
Совершенно иной тональности, но, пожалуй, еще более
неожиданной для привыкшего к соцреалистической литературе
читателя была повесть А. Громовой ”В круге света”
(1965).
3-я мировая война в 196... году. Человечество уничтожено
почти целиком. Атмосфера отравлена радиацией. В изолированном
доме возле Парижа один из последних людей на
Земле стремится осознать происшедшее. Следя за внутренним
монологом героя, из отрывочных и беспорядочных
воспоминаний мы складываем, как составную картинку,
историю его жизни. Клод Лефевр — человек, обладающий
необыкновенными парапсихологическими свойствами, несет
в себе неизгладимую память о войне и гитлеровских лагерях.
Монолог Клода сбивчив, его мысли перескакивают с
одной темы на другую, но независимо от темы они всегда
возвращаются к лагерю: ’’Память о лагере, память о смертях
и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном
страхе, увечащем душу! /.../ Чем дальше, тем сильнее
терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство
страшных лет, тем больше отравляет и глушит она другую,
светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте,
о любви, о свободе”10.
В лагере Клод участвовал в Сопротивлении, пользуясь
своими способностями, внушил коменданту отказаться от
истребления узников при отступлении. Активный борец,
выйдя из лагеря, он убеждается, что мир стоит на краю катастрофы,
и создает собственную философию, согласно
которой разум не может спасти мир, но могут это сделать
любовь и дружба. Клод противопоставляет враждебным
186
силам ’’Светлый Круг” — близких себе людей, связанных
любовью и телепатическими узами. Веря в любовь, Клод не
замечает, что нередко он принуждает любить, он доводит до
трагедии собственную семью. Но вот наступает светопреставление.
Силой воли Клод спасает и удерживает при жизни
семью и друга.
В какой-то момент мы понимаем, что Клод не контролирует
своих мыслей и воспоминаний. Во внутренний монолог
врываются мысли другого человека. Мы догадываемся, что
идет какой-то опыт. Клод теряет контроль над событиями:
люди, жизнь которых зависит от него одного, замыкаются
перед ним, они боятся и не доверяют его власти. Один за
другим они предпочитают уйти за пределы ’’Круга” , в убийственный
уничтоженный мир.
Эксперимент окончен: Клод просыпается. Его друг и
солагерник Робер, сторонник активной борьбы за изменение
мира, под гипнозом заставил поверить Клода в вымышленную
ситуацию, чтобы показать последствия ’’мещанской”
философии ’’Светлого Круга” . Клод кончает самоубийством.
В финале появляется третий персонаж, тоже
бывший лагерник Марсель и обвиняет Робера в том, что тот,
действуя для блага друга, ворвался в его душу и уничтожил
ее. Робер отвечает, что Клод насиловал души своих близких,
опыт был необходим. Он обращается к Марселю: ’’Что сделал
бы ты на моем месте? Ждал бы катастрофы сложа руки?
Или все же попробовал бы вмешаться, спасти то, что можно
спасти?” Ответ Марселя — последние слова повести: ”По
совести говоря, не знаю...” 11.
”В круге света” — одно из немногих произведений, включая
сюда и американскую НФ, где научно-фантастическое
допущение определяюще влияет на форму повествования:
экспериментатор нащупывает электродами разные уголки
памяти — отсюда смятая хронология, нелогичные ассоциации,
контрасты настроения, возрастающая нервозность тона,
ощущение беспокойства, проскальзывающее в подсознании.
Автора в повести нет совсем; в какой-то мере
авторскую позицию выражает Марсель, но именно он укло-
187
няется от поучений, от однозначного ответа. Клод и Робер
— правы и неправы одновременно. Однако, если последний
просто совершает ошибку, главный герой ту же ошибку
оплачивает страданиями и смертью. Противоречие между
верой во внутренние силы человека и неверием в себя неотвратимо
ведет героя к гибели. Клод Лефевр, осужденный
на смерть законами жизни, но не автором, — трагический герой,
его история — трагический сюжет, редчайшее в советской
литературе явление.
Повесть Громовой — одно из первых и, бесспорно, лучших
произведений ’’новой школы” в советской НФ.
Во время дискуссии о НФ, проведенной ’’Литературной
газетой” и затянувшейся на полгода, А. Громова протестовала
против понимания НФ только как ’’литературы ’мечты’ ” ,
и говорила: ’’Фантастика произвольно укрупняет и выделяет
какие-то элементы действительности” , и делает это ’’прежде
всего для анализа современности, различных тенденций ее
развития”12.
После появления в 1962 г. первого сборника ’’Фантастики”
советские критики отметили, что ’’социально-психологическая,
а не научно-техническая тема стала главной темой
нашей фантастики” 13. В 1964 г. Громова уверенно заявляет:
’’Передовые позиции уже заняла философская фантастика,
которая стремится решать коренные проблемы эпохи, то
проецируя их в будущее, то изменяя какие-то компоненты
настоящего”14.
Итак, время вопросов и последствий, НФ философская,
социальная, психологическая, главная задача — постановка
актуальных проблем.
Научно-фантастическая литература для писателей ’’новой
волны” — лаборатория, в которой испытываются не научно-
фантастические идеи и не свойства альтернативных моделей
мира, основанных на таких идеях. Объект экспериментов:
наша действительность; их цель: исследовать те ее свойства,
которые с трудом поддаются наблюдению во внелаборатор-
ных условиях.
Иначе говоря, сюжеты в НФ ’’новой волны” подчиняются
188
не движению, открывающему структуру научно-фантастической
модели, они развиваются в соответствии с динамикой
поставленной в центре опыта проблемы.
”В круге света” Громова не занимается описанием после-
атомного мира, причин катастрофы, сюжет ограничен или,
вернее, расширен до переживаний человека, на практике
испытывающего, способна ли любовь и дружба спасти мир.
Научно-фантастические предпосылки создают условия для
опыта, в результате которого рождается новый вопрос:
допустимо ли вмешательство во внутренний мир человека?
Повесть Громовой — не только история принудительного
исправления людей для их же блага; в еще большей степени
это рассказ об отравлении лагерной памятью. И хотя речь
идет о филиале Маутхаузена — писательница сама прошла через
гитлеровскую тюрьму, — повесть направлена против
каждого насилия, любых тюрем и лагерей.
Щ »блема — увы, слишком реальная и актуальная — вот
пружина сюжета повести Громовой — и многих произведений
новой советской НФ.
Утопия тоже, как будто, может похвастаться тем, что в
центре ее — проблемы. Большинство их, однако, уже решено,
а решение оставшихся, как водится в литературе соцреализма,
предполагается заранее. Советская утопия — счастливое
завершение запланированного и благополучно проведенного
опыта по улучшению производства.
В произведениях ’’новой волны” опыт редко проходит
гладко — проблемы слишком сложны, условия мало благоприятны,
ибо и те и другие жизненны, — результат его в
лучшем случае предваряет очередной опыт, никогда не успокаивает,
чаще же вселяет беспокойство.
Если признать, что существуют проблемы, решение которых
неизвестно — отказаться от всезнания, — или же допустить,
что найденные в реальной жизни решения неверны,
— отказаться от всеобъемлющего оптимизма, — невозможно
остаться внутри форм, определенных соцреализмом.
Занявшиеся анализом действительности писатели ’’оттепели”
уходят в сторону от соцреализма, в литературу, кото-
189
рую критики называют разными загадочными терминами:
’’критический реализм”, ’’натурализм” и т. д.
Писатели новой НФ, устремленные в том же направлении,
вступают на запретную ранее территорию литературы ’’предупреждения”,
пользуясь обиходной в СССР терминологией.
Литература предупреждения - это антиутопия в самом
широком смысле, понятие, противоположное утопии, рассказы
о тиранических обществах, о катастрофах, о технике,
оборачивающейся против ее создателей, о неудачных контактах,
— произведения с драматическим или трагедийным,
всегда динамическим сюжетом.
В 1962-68 гг. не утопия, а антиутопия определяет настроение
советской НФ.
Радикальный перелом в развитии НФ — это переосмысление
всей литературной структуры.
Мы видели, как в сюжете меняется роль научно-фантастической
идеи, точка зрения, как тип повествования от статики
или заимствованной извне динамики переходит к динамике
внутренней, как появляется новая доминанта, средоточие
событий нового рода.
И, может быть, яснее всего перелом этот отразили литературные
ситуации, то сочетание составных частей, в котором
можно в разные моменты задержать движение любого сюжета.
Ситуация — исходная, кульминационная, финальная — в
первую очередь фиксирует взаимоотношения действующих
лиц; если искусственно разорвать и разделить — как мы
делаем — элементы литературной модели мира, ситуация
будет как бы социологическим аспектом этой модели.
Естественно, что ситуации в советской литературе строго
отмерены и отвешены, и находятся под неусыпным надзором.
Если не в реальном, то в платоническом мире идей существует
постоянный и постоянно меняющийся в зависимости
от политического климата перечень дозволенных
190
ситуаций для самых разных жанров, перечень, безошибочно
улавливаемый чутьем цензора официального и того, который
сидит почти в каждом советском писателе.
В статье о советской НФ К. Андреев, историк жанра и
критик, сравнивает ’’Туманность Андромеды” с романом
С. Лема ’’Магелланово облако” . Он рассказывает один из
эпизодов книги Лема, когда на корабле начинается бунт, а
коммунисты из экипажа воспитьюают бунтовщиков. К. Андреев
замечает: ’’Так Лем утверждает мысль, что и через тысячи
лет не только будет существовать коммунизм, но и
останутся коммунисты — передовой отряд человечества,
потому что есть более слабые — обычные люди”15.
Интерес примера в том, что К. Андреев домыслил эпизод.
В
главе под названием ’’Коммунисты” Лем показывает,
как сознательные члены экипажа выводят на путь истинный
бунтовщиков, рассказав им притчу о герое-мученике, немецком
коммунисте Мартине, жившем за 1200 лет до времени
действия романа16. Настоящих коммунистов — партийной
организации — на корабле нет, как нет их в утопическом
мире книги.
Ошибка К. Андреева — вернее всего, сознательная — показывает,
как хочет критик, чтобы нынешняя ситуация сохранилась
навечно. К. Андреев делит людей так же, как герой
’’Коллег” Аксенова: на коммунистов и других. Советское
общество, в теории уничтожив деление людей по признаку
собственности, ввело на практике новое деление — по признаку
качества: есть люди исключительные и обычные,
сильные и слабые.
Исключительность, сила приобретается очень конкретным
путем.
Вот как описывает перевоплощение обычного человека
А. Яшин в одном из лучших советских рассказов — в ’’Рычагах”
(1956):
’’Сергей Щукин совсем недавно был рядовым колхозником.
Вступив в партию с месяц назад, он начал поговаривать
о том, что все командные высоты в колхозе должны зани-
191
мать коммунисты, а что ему теперь просто неудобно не продвигаться
по должности. С ним согласились. Вспомнили, что
колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за
воровство, и поставили в кладовую Щукина. /.../ Щукин купил
себе авторучку и стал носить галстук” 17.
Советское общество — строжайшая и сложнейшая иерархическая
структура, повторяющая себя во всех масштабах,
от всесоюзного до колхозного; каждая социальная ступенька
четко определена, ей приписаны свои материальные приметы,
вроде авторучки и галстука.
Литература соцреализма верно отражает эту структуру.
Фадеева заставили переписать награжденную Сталинской
премией ’’Молодую гвардию” за то, что коммунисты в романе
слишком пассивны: недостаточно показана руководящая
роль партии. Фадеев исполнил приказ, дополнив роман и
восстановив истинную иерархию.
Все построение, сюжет, строй речи, отношения героев, все
зависит от усилия показать читателю принципиальную
схему.
Сергей Тутаринов из романов С. Бабаевского — рядовой
коммунист. Звание Героя Советского Союза позволяет ему
взойти на верхушку скромной станичной пирамиды, но не
освобождает от жадного выслушивания речей секретаря
райкома и депутата Верховного Совета. Некоторый диссонанс
ощущается только, когда рассказ ведется о председателе
райисполкома, с которым Сергей спорит и никак не может
сойтись во взглядах. И недаром, ибо вскоре Сергея
избирают на этот пост, немного позже — в депутаты, и вот
уже он сам произносит речи в суровом и проникновенном
тоне, сам заглядывает в души людям и поучает других.
Романы Бабаевского — история восхождения по кругам
советской иерархии. Бодрый голос автора убеждает, что дорога
эта открыта всем.
Не будем с ним спорить; заметим лишь, что после 20-х гг.
главными действующими лицами советской литературы
почти всегда были начальники, и очень редко — ’’рядовые”
члены общества, руководимые массы.
192
Представитель этих масс — старый казак Фрянсков из
романа В. Фоменко ’’Память земли” (1-ая часть: 1961) рассказывает
своему новому начальнику историю под поучительным
названием: ’’Как я всю жизнь собирался жить” .
Фрянсков собирался жить после Первой мировой войны,
после революции, после коллективизации, после войны с
Гитлером, после восстановительного периода. Всегда ему
говорили, что не время отдыхать, нужно воевать, работать,
раскулачивать. И в конце его жизни вдруг оказалось,
что проживает он в Цимлянском районе, в котором началось
в 1950 г. строительство огромного водохранилища.
Станицы этого района переселяют на новое место. Пожить
Фрянскову не удалось, но он счастлив: он выполнял то,
что ему ’’говорили” . Говорила партия, говорил славный
герой революции, первый начальник-председатель колхоза
Щепетков, Матвей Григорьевич. Новый секретарь райкома,
организующий эвакуацию станицы, старается ’’говорить”
по-человечески, убедить казака, что лучшее будущее ждет
его на новых землях. Но тот отвечает: ”Желаю, чтоб со
мной все нынешние начальники так же обращались, как
Щепетков. Без брехни! /.../ Матвей бы Григорьевич не стал
бы врать, что покидать мне родной хутор прекрасно и
замечательно. Сказал бы, что мне это плохо, но требует
революция!” 18
Фрянсков — идеальный ’’рядовой” член общества, находящийся
на одном из нижних ярусов пирамиды общества. Его
слова — ключ к пониманию сущности деления на руководителей
и руководимых. Массы желают новой жизни, но не
знают, как ее найти. Им не нужны рассуждения и уговоры,
их по-видимому утомляют размышления. Они ждут приказа.
Начальники существуют с полного согласия народа, они приказывают
— ’’требует революция” , — ибо они знают. Страшные
катастрофы, обрушившиеся на народ, должно принимать
радостно, как Фрянсков, приказ есть приказ. Между
народом и начальниками пропасть: у последних есть знание
— от марксистско-ленинского учения — и умение применить
его — от партии.
193
Вне партии не может, или не должно быть тех, кто знает,
людей исключительных.
С возмущенным удивлением пишет советский исследователь
о герое романа Дудинцева: ’’Лопаткин — борец-одиноч-
ка. Мы не видим в романе ни партийной, ни профсоюзной
организаций, которые поддержали бы его, помогли в трудную
минуту. / .../ Писатель совершил ошибку, не показав, что
сама советская действительность, весь коллектив советских
людей, Коммунистическая партия создают условия для победы
всего передового, способствующего нашему движению
вперед” . И приговор однозначен: ’’Роман ”Не хлебом единым”
принадлежит к произведениям критического реализма”
19, т. е. не входит в рамки литературы соцреализма.
Нарушение иерархии карается незамедлительно.
И. Забелин в ’’Поясе жизни” — единственный утопист,
у которого открыто ставится вопрос целесообразности
партии в коммунистическом обществе. В 80-х гг. нашего
столетия ведется дискуссия на эту тему. Одни считают, что
”в факте деления на партийных и беспартийных есть элемент
социального неравенства” , — и такой эвфемизм не
часто встречается в советской литературе, — и хотят резко
увеличить прием в партию; другие борются с уравниловкой,
заявляя, что ’’партия была и останется на веки веков ведущей
силой” — формулировка К. Андреева! — и потребовав
’’применить суровые меры к инакомыслящим”20. У Забелина
не кончилась еще идеологическая борьба с западным миром,
и он не отказывается от партии, однако, квалифицирует
’’антиисторическими” требования ’’бюрократов” .
В книгах, где действие происходит позже, в эпоху объединенного
человечества, мы не встречаем партийных организаций
— все люди равны в своей высокой сознательности.
Именно здесь, в отказе от элиты среди человечества — главное
и, пожалуй, единственное отличие советской утопии от
других соцреалистических жанров: меняется схема отношений
между героями, поучения и указания передаются на
одном уровне, а не сверху вниз, второстепенные персонажи
пользуются большей свободой действия.
194
Следы начальной ситуации можно, однако, встретить часто
и в утопиях, особенно в технологических, наиболее
приближенных к производственному жанру. У Гуревича
есть некий философ-историк — главный Ум планеты, разрешающий
все сомнения и все проблемы. В ’’Ошибке инженера
Алексеева” А. Полещука марксист-партиец все время
дает советы изобретателю, разбираясь лучше его в научных
тонкостях. Когда работа Алексеева спотыкается, философ
говорит ему: ’’Иди к Ленину /.../ мыслить по-ленински —
вот твоя задача”21. Алексеев читает ’’Философские тетради”
, там находит все, что ему нужно, и делает свое великое
открытие о природе космоса. Один из рассказов И. Росохо-
ватского вообще утверждает, что в будущем хватит места
для прирожденных командиров; о своем друге герой говорит:
’’Все беспрекословно слушались только его. В наше
время не могло быть и речи об армейской дисциплине
прошлых столетий. Командиры не назначались, а выбирались.
Но если б нам пришлось тысячу раз выбирать, мы б
остановились только на нем”2 2.
Чаще, однако, взаимоотношения людей на Земле действительно
меняются; ’’местная” социальная иерархия нарушается.
Но уже строится пирамида другой степени, и корни
ее — все там же.
Дело в том, что иерархизация охватьюает не только советское
общество. Чем является партия для советского
народа, является этот народ для других жителей Земли.
В ’’Знаменосцах” О. Гончара, романе, награжденном сталинскими
премиями за 1947 и 1948 гг., и до сих пор — одном
из главных произведений ’’романтического” течения в
соцреализме, рядового бойца освобожденные Советской
Армией венгры называют ’’паном капитаном” . Вопреки всем
правилам воинского устава ”Хома не растерялся от того,
что они его так называли, словно не замечал ошибки. Если
бы кто-нибудь из наших назвал его офицером, то Хома,
безусловно, сразу внес бы соответствующую ясность. Но
перед иностранцами он чувствовал свое превосходство”23.
Советский солдат — ’’спаситель Европы, спаситель мировой
195
цивилизации” . Советский гражданин - избранный среди других.
Иностранцы — или враги или дети, которых следует
учить. Вся советская литература проникнута этим убеждением,
как, впрочем, и все общество в целом.
Вслед за ’’большой” литературой схему эту приняла НФ.
Задача фантастического памфлета и заключается в занимательном
описании той разницы, которая отделяет ’’нас” от
’’чужих” . И не только в памфлете мир разделен на советскую
’’элиту” и иноземные массы.
Старый миф в новых условиях проявляется ярче всего
не в ’’ближней” НФ - там и условия остаются старыми, — а
в творчестве фантастов, использующих новейшие научно-
фантастические идеи.
”Селеста-7000” — название романа А и С. Абрамовых
(1972), и имя самопрограммирующейся и самоусовершен-
ствующейся электронной машины, заброшенной на Землю
из космоса 7000 лет тому назад. Этот чудесный мозг собирает
информацию обо всем, что творится на Земле, он
способен делать практически все: предвидеть будущее,
материализовать мысли, влиять на время и пространство.
Селеста может входить в контакт с людьми, но не делает
этого; тысячелетия кряду представитель - почти одушевленный
— космического разума отпугивает от себя недостойных,
до тех пор, пока не встречается с советскими инженерами.
Тогда он сам включается и кладет начало плодотворному
сотрудничеству со странами социалистического лагеря.
У тех же Абрамовых в ’’Хождении за три мира” (1966)
та же ситуация обострена. Повесть исходит из идеи о множественности
параллельных миров. Миры эти разнятся лишь
деталями: те же люди живут в них, но заняты они не всегда
тем же делом, случаются с ними разные происшествия,
некто убитый на войне продолжает жить в другом мире,
и т. д. Главное остается неизменным. Герой, а точнее его сознание
путешествует по мирам в телах своих двойников. Некоторые
скачки уводят героя в прошлое и будущее. Три
мира современны нашему. И в каждом из них герой встречает
врага. Враг этот — один и тот же подлец, и великая под-
196
лость его — попытка сбежать на Запад. В очередном мире,
герой лицом к лицу встречает негодяя в заграничном рейсе
на лайнере ’’Украина” , когда тот собирается сойти на берег и
просить убежища. Герой препятствует осуществлению преступного
замысла, нокаутируя подлеца — мысли его он знает
из предыдущего мира, — и читает ему нотацию: ’’Скажи
откровенно, что тебе не нравится наш строй, наше общество.
Выклянчи визу в каком-нибудь посольстве. Думаешь, будем
задерживать? Не будем. С удовольствием вышвырнем. Нам
людская дрянь не нужна”24.
Нет сомнений, что человек, предпочитающий западный
строй советскому — людская дрянь. И отщепенец, плюнувший
на установленный иерархический порядок, скитается по
всем параллельным мирам, неся на себе вечное проклятие
авторов.
Так литературная ситуация выходит из-под власти научно-
фантастической идеи и начинает направлять сюжет.
Книги Абрамовых написаны на современном материале.
Утопия описывает будущее. Одна из аксиом советской утопии:
в будущем люди встретятся с жителями космоса.
Замечательная фраза есть в романе Г. Мартынова ’’Каллисто”
: ”В Кремле тепло и сердечно встретили жителей другой
планеты. Дружеская беседа продолжалась свыше трех
часов”25.
Возьмем из этой фразы не самое главное, но самое очевидное
: жители космоса — типичные иностранцы.
На Венере, описанной в утопических рассказах Сапарина,
живут дикари. Прилетают земляне — новые боги. Историческая
аналогия находится сразу: ’’Если в прошлом веке
один великий народ Земли указал другим народам своей
планеты путь освобождения и развития, то теперь объединенный
народ Земли протянет руку населению иной планеты”
26.
Не обязательно быть дикарем, чтобы рассчитывать на
руку помощи.
’’Баллада о звездах” Г. Альтова и В. Журавлевой (1961)
говорит о встрече землян с инопланетянами — бесплотными
197
одухотворенными существами, миллионы лет назад создавшими
высочайшую цивилизацию, способными проникать в
тайны мира силой мысли: с Видящими Суть Вещей. Повесть
якобы ставит проблему ’’некоммуникативности” , полемизируя
с Ефремовым; в ней есть прямая критика ’’Туманности
Андромеды” , она доказьюает, что Ефремов не прав, считая
наше мышление универсальным. Но в конце концов люди
и Видящие Суть Вещей очень просто договариваются — проблема
’’некоммуникативности” вполне фиктивна — и тогда
оказывается, что люди стоят бесконечно выше тех странных
созданий, которые достигли почти полного совершенства,
но не знали бед и борьбы, не знали труда и забыли о счастье
деятельности (читай: слишком много размышляли). Земное
же человечество после тысячи лет страданий пришло к вечному
празднику, но это особый праздник труда, неизвестный
полубожественным, но вырождающимся инопланетянам.
И человек, преобразовывающий все на своем пути,
опекает Видящих. ’’Разве не закономерно, что именно мы,
познавшие много горя, получили нелегкое право протянуть
руку помощи другим?” И совсем уже откровенно: ’’Станут
ли люди старшими братьями Видящих Суть Вещей? Именно
старшими, ибо опыт и воля людей, их прошлое и настоящее
дает им это трудное право”27.
Иерархизация, распространенная на всю вселенную, руководит
движением сюжета в ’’Людях как боги” С. Снегова.
Снегов начинает с того, что отбрасывает теорию Ефремова
о человеческой форме как наиболее универсальной, а поэтому
обязательной для всех мыслящих существ. Он описывает
очень разных по виду космиян: жителей планет Альде-
барана и Капеллы, каплевидных с поясом глаз вокруг тела;
альтаирцев — светящихся паукообразных; обитателей Веги
- змеелюдей, и Гиад — ’’ангелов” с крыльями. Изумлению
читателя не суждено длиться долго. Мы узнаем, что ’’наши
звездные соседи примитивнее нас, — таков факт” . По разным
причинам ни одна из галактических цивилизаций не
достигла земного уровня. А когда мы узнаем, что в Галактике
есть-таки развитые цивилизации, то хорошие галакты
198
оказываются похожими на людей, а плохие, ’’зловреды” ,
отвратительны — туша с гибкой трубкой, законченной глазом-
наростом. Дальше мы читаем, что именно галакты мутациями
направили эволюцию земной обезьяны и создали человека
— со способностями к совершенствованию больше,
чем у них самих. Опередившие людей на миллионы лет
галакты — как и в ’’Балладе о звездах” — ждут спасения от
землян, и поскольку зловреды уничтожают целые цивилизации,
то земляне становятся спасителями не просто мировой,
но вселенской цивилизации.
Думается, что комментарии излишни. Остановимся лишь
на сценках, показывающих отношение землян к их собратьям
по разуму. Грубый и драчливый ’’ангел” ссорится с
героем романа; тот включает защитное поле, удар которого
повергает на землю оскорбителя. ’’Ангел” , пораженный и
раздавленный ползает у ног героя. ”Он был так унижен, что
я пожалел его. В конце концов он сын своего несовершенного
общества. Я ласково потрепал его перья” . Однако в другом
месте сын совершенного земного общества в приступе
ярости избивает нежных змеелюдей, а потом сентиментально
кается. А своему побитому ангелу, клянущемуся: ”Я твой
раб” , герой царственно отвечает: ”Ты мой адъютант” , и начинает
чувствовать к нему ’’что-то близкое, почти братское”28.
В книге Снегова ясно сказано то, чего не договаривают
другие: старший брат все-таки не совсем брат, он хозяин,
добрый и великодушный к дядюшкам Томам - хорошим
жителям Космоса (Земли), суровый к негодным разбойникам,
которые раньше или позже притащатся на коленях с
повинной.
В хорошей нефантастической книге ”До свиданья, мальчики”
(1962) Б. Балтер рассказывает о жизни ребят в довоенные
годы, и от себя, с грустью многое понявшего человека,
замечает:
”Я любил и часто повторял ленинские слова: коммунистом
стать можно лишь тогда, когда обогатишь память
всеми знаниями, которое выработало человечество. Я был
в школе и везде, где учился потом, круглым отличником. И
199
мне казалось, что этого вполне достаточно /.../• Но теперь,
наедине с собой, в долгие бессонные ночи, я понимаю, что
знал очень мало. Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта,
не прочитав ни одного из них.
Разумный мир, единственно достойный человека, был
воплощен в стране, где я родился и жил. Вся остальная планета
ждала освобождения от человеческих страданий. Я считал,
что миссия освободителей ляжет на плечи мои и моих
сверстников. Я готовился и ждал, когда пробьет мой час.
В пределах этого представления о мире — я думал. Самые
сложные явления жизни я сводил к упрощенному понятию
добра и зла. Я жил, принимая упрощения за непреложные
истины...”.
Сглаживая свое опасное признание, Балтер добавил: ’’Все
это, конечно, не что иное, как факты моей личной биографии.
Не больше. Жизнь человека в своей индивидуальности
не похожа одна на другую”29.
К сожалению, в этом смысле жизни людей в советской
стране похожи одна на другую. Вернее, все одинаково прошли
великую школу судить, не зная, и принимать упрощения
за истины; индивидуальность же проявляется в том,
насколько заучен был преподанный урок.
Ситуация, о которой мы говорим, — иерархия местная,
мировая, вселенская, — не нова, она родилась не под пером
советских идеологов или писателей. И тем не менее, получив
идеологическое оправдание, она вросла в сознание нескольких
советских поколений как незыблемая основа
миропорядка.
В эту глобальную ситуацию вписываются все другие;
и все другие связаны с ней, они могут менять свои главные
очертания, масштабы, но всегда обязательно их внутреннее
соответствие с неписаным ’’идейно-художественным” кодексом
соцреализма.
Оттепель началась, когда писатели стали находить новые
ситуации — или возвращаться к старым, забытым и запрещенным.
Первым образцом для советских писателей НФ стал
200
С. Лем, а библией — его роман ’’Солярис” , показавший беспочвенность
притязаний человека на всезнание, бессмысленность
любой классификации и иерархизации мира.
Сменив свой математический знак с плюса на минус,
НФ сознательно приходит к отрицанию упрощений, и в
поисках истины, с методичной последовательностью, начинает
разрушение сложившихся канонов.
О новых ситуациях скажем в других главах, главах, посвященных
темам новой НФ.
201
Глава 7
СТРУКТУРЫ ЖАНРА: СТИЛЬ И МАНЕРА ПИСЬМА
Долгое время считалось, что и понятие, и термин, и первое
определение социалистического реализма создал сам
тов. Сталин при ближайшем содействии Горького. Ныне
сталинский приоритет поставлен под сомнение. Исследователи
предпочитают доказывать, что термин возник в результате
коллективных обсуждений комиссии, созданной ЦК
ВКП (б) после постановления ”0 перестройке литературнохудожественных
организаций” от 23 апреля 1932 г., а затем
’’понятие легко и свободно было принято всеми отрядами
советской литературы” 1.
По-видимому, так оно и случилось, с небольшой, однако,
оговоркой. На первых порах многие писатели вели борьбу
с собственными слабостями. Следы этих сражений сохранились.
Олеша писал в 1929 г.: ”Я хватаю в себе самого себя,
хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться
и вытянуть руки к прошлому”2. ’’Легкость и свобо-
202
да” дались не сразу и не всем. Несомненно одно: правы советские
литературоведы, критикуя своих западных коллег,
тех, кто превозносит вольные 20-е гг. и ужасается внезапно
свалившемуся на писателей идеологическому ярму. Правы
официальные теоретики, утверждая, что советские писатели,
руководствуясь директивами ЦК, мыслями из статей Ленина
и собственным чутьем, сами создали и развили новый
тип литературы — немногие сопротивлявшиеся в счет не
идут.
Перевоплощение литературы не произошло мгновенно,
оно уже заканчивалось к началу 30-х гг., когда понадобилось
облечь в монолитную форму мало вразумительные и чересчур
запальчивые лозунги послереволюционных лет. К тому
времени большая часть произведений, причисленных к образцам
соцреализма, уже появилась в свет. Кстати найденный
боевой клич сделал молниеносную карьеру, официально
учредился в государственный институт и вскоре обернулся
одним из главных символов веры советского общества.
В своей известной, глубокой, но несколько уже устаревшей
статье ’’Что такое социалистический реализм” А. Синявский
писал, между прочим, что в низком уровне советской
литературы виноват не соцреализм, а писатели, ’’которые
приняли его правила, но не обладали достаточной художественной
последовательностью, чтобы воплотить их в бессмертные
образы” . Большое искусство может быть и соц-
реалистическим: ’’Искусство не боится ни диктатуры, ни
репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется,
искусство бывает узко-религиозным, тупо-государственным,
безиндивидуальным, и тем не менее великим. Мы
восхищаемся штампами древнего Египта, русской иконописи,
фольклором. Искусство достаточно текуче, чтобы
улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает
история”3.
Утверждение более, чем сомнительное. Диктатура зачастую
просто уничтожает неподвластных ей художников —
тут искусству приходится не только бояться, а спасать
свою шкуру; независимое искусство в условиях террора
203
может существовать лишь тайно, лишь вопреки диктатуре,
но не в ней и, тем более, не благодаря ней.
Подчинившись же диктатуре, художник может выиграть
все, что угодно, кроме права на искусство.
Единственный в статье Синявского пример великого ху-
дожника-соцреалиста — Маяковский. Но те вещи Маяковского,
которые можно причислить к соцреализму, — худшие
в его творчестве (а в лучших он — антоним соцреалиста);
и стоит помнить, что затравили поэта именно насаждатели
партийного искусства.
Прославляя тиранию, пытался сохранить хотя бы частицу
творческой индивидуальности другой большой художник
— более правоверный (и более циничный), чем Маяковский,
— Эйзенштейн. Но его верноподданнейший ’’Бежин луг”
был уничтожен, вторая часть ’’Ивана Грозного” запрещена,
третья — не допущена к постановке. Эйзенштейна отстранили
от участия в соцреализме. ”Во всех своих произведениях
Эйзенштейн хочет оправдать все, что происходит в стране
/.../. Беда Эйзенштейна заключается в том, что, оправдывая
действительность, он хочет ее понять”4. Но диктатура не
хочет, боится понимания. Ей не нужны ни гении, ни настоящее
искусство, даже пошедшее к ней в услужение.
Самый знаменитый французский структуралист Р. Барт
с некоторым недоумением отметил как-то, что ’’писатели-
коммунисты — единственные, кто безмятежно продолжает
пользоваться буржуазной манерой письма, давно осужденной
буржуазными писателями”5. Замечание верное, но
оставляющее впечатление парадокса. Между тем, парадокса
нет: никогда революция в искусстве и революция в политике
не ходили в ногу. Наоборот, можно было бы ввести своеобразный
критерий эффективности революционера: чем
ближе его симпатии в искусстве к авангарду, тем меньше
его шансы на победу в борьбе за власть. Ленин с отвращением
относился к модернизму и старательно препятствовал
распространению ’’революционных” произведений (в том
числе и Маяковского). Троцкий, пресловутый покровитель
новых веяний, объявлял ненужными архитектуру Татлина и
204
скульптуру Липшица. Важен тут не факт ошибки — проекты
и теории Татлина вот уже пол сотни лет влияют на всю современную
архитектуру, — а то, что в барственном презрении
самого ’’либерального” из вождей революции к непонятному
ему и нео до бренному явлению кроется принципиальная
нетерпимость диктатора к творчеству.
Ни одна победившая революция нового времени не создала
своего искусства: между идеологическим режимом и
искусством существует противоречие, глубокая антиномия.
Диктатура может присвоить то, что ей нужно — так Маяковский
после смерти стал ’’лучшим, талантливейшим поэтом
нашей советской эпохи”, так Достоевский удостоился звания
’’прогрессивного” писателя, — но она не может творить.
Синявский одним тоном говорит о ’’штампах” иконописи и
’’штампах” соцреализма — но это противоположные вещи.
Разговор о ’’штампах” поможет нам уяснить сущность антиномии.
Временно назовем нормы, фиксировавшие искусство в
разные периоды минувшей истории, канонами. (В других
местах я пользуюсь термином канон в его обиходном смысле
— свод правил, — прилагая и к искусству соцреализма.)
Думается, что не нужно доказывать очевидного: каноны
— это традиция. Фрески, изображавшие подвиги фараонов,
иконопись, запечатлевшая лики святых, классицизм, воскресивший
идеалы античности, народные сказки, передающиеся
из поколения в поколение — повсюду у истоков закрепления
формы лежит ощущение быстротечности жизни,
желание связать времена, перенести прошлое в будущее.
Преклонение перед прошлым и вера в будущее присутствуют
во всем канонизированном искусстве, особенно же в
искусстве сакральном, призванном иллюстрировать церковные
догмы. Анализ Синявского, кстати, во многом исходит
из отождествления советской идеологии с религией. Аналогия
неизбежна, но злоупотребление ею глубоко ошибочно:
тождества нет, может быть лишь мнимое сходство противоположностей.
Для религии прошлое и будущее реальны. Но если рево-
205
люция стремясь первым делом разрушить установленные
традиции ”во имя грядущего” , еще ощущает себя эпифеноменом
времени, то диктатура — плод победоносной революции
- прямо противостоит течению времени. Культ Коммунизма
и Революции, Конца и Начала служит семантической
борьбе с реальностью: Слово должно остановить время.
Культ Ленина — отнюдь не только ощущение преемственности,
он нужен был и для того, чтобы родилась формула
’’Сталин — это Ленин сегодня”. Прошлое не существует:
оно либо уничтожено, либо перекроено для нужд настоящего.
Будущее же — товар разного сорта, отпускаемый в порядке
социального старшинства. Для ’’сильных” будущее
равно мечте о вечности их силы, о неизменности настоящего:
”и через тысячи лет останутся коммунисты” , т. е. мы
сами, — говорят сегодняшние коммунисты, прилагая ко
всем, кроме себя, теорию социального развития. Для ’’обычных,
более слабых” будущее — главная и недостижимая
Цель, которой приносится в жертву настоящее. Условность
будущего и абсолютность настоящего для ’’сильных” , иллюзорность
настоящего и хилиастическая устремленность в
будущее для ’’слабых” — в этой диалектике коренится двойственность
утопии, о которой я столько писал.
В сталинском времени/пространстве, в отрезанном от
прошлого, будущего, от окружающего мира микрокосме —
логически завершенном образце диктатуры — нет места для
канонов.
В микрокосме этом действуют свои законы самосохранения
и автаркии. Идеократия занимается редукцией действительности:
она устраняет все, что не соответствует ведущей
теории. Но насильно приведенный к простейшему виду организм
теряет жизнеспособность — и режим вынужден восполнять
недостающие жизненные функции их подобиями: он
создает симуляцию действительности. Подчеркнем фундаментальную
новизну операции: мир идеологии не просто
влияет на действительность (как внеземной мир религии), а
смешивается с ней, подменяет ее, стремясь захватить ее место.
Уничтоженное, изгнанное, запрещенное живое искусство,
206
исчезнув, оставляет пустоту, в которой усилиями художников,
включившихся в кровообращение системы, в быстром
темпе разрастается новообразование — новое, ’’идейное”
искусство, руководствующееся правилами, прямо противоположными
тому, что мы согласились называть канонами.
Я говорил о том, что явления внехудожественных рядов
— исторический факт, разговор, научная или научно-фантастическая
гипотеза — должны претерпеть метаморфозу для
того, чтобы стать искусством. Каноны, в частности, каноны
сакрального искусства и были особыми фильтрами для
превращения внехудожественного (например, идеологического)
материала в составные части художественной структуры.
Каноны являлись формальными правилами. В иконописи,
скажем, точнейшим образом задавался облик персонажей,
их пропорции, атрибуты, их взаимное расположение,
общая композиция. Все эти элементы соотносились как с
определяемым церковными соборами и комиссиями содержанием,
так и с требованиями сугубо художественного
толка: так, иконостас русских церквей привел к созданию
школы, в которой исключительную роль играла разработка
цветовой гаммы и композиции отдельных икон с учетом их
размещения в иконостасе. Каноны стесняли художника до
предела, но странно: при такой униформизации, при без-
личностном толковании искусства рождались гиганты -
Феофан Грек, Дионисий, Рублев, - неповторимые в своей
индивидуальности, революционные без ломки канонов. На
пятачке дозволенной формы, ценой высшего самоограничения
и сосредоточенности, художник уходил ввысь, к совершенству,
и через формальное совершенство — к бесконечности.
В этом стремлении к совершенству причина бессмертия
канонических видов искусства.
Ничего подобного нет в искусстве соцреализма. Крайне
расплывчато в формальном отношении уже само понятие
’’реализма” , вокруг которого не стихают схоластические
диспуты. Еще меньше ясности вносят основополагающие
понятия ’’идейности”, ’’народности”, ’’партийности” . Короче
207
говоря, теория соцреализма не содержит каких-либо ясных
формальных указаний. В этом, впрочем, предмет ее гордости:
’’Реализм потому есть исторически высшая ступень
свободы художественного творчества, что реалистическое
образотворчество не сковано привнесенными извне правилами
и ничем не ограничено в бесстрашном анализе действительности
/.../. Преодоление канонизированных условностей
и появление новой условности — одно из собственно художественных
отличий реализма”6.
Итак, высшая свобода, отсутствие обязательных форм,
сознательный отказ от канонов.
Откуда в таком случае унылое однообразие премированных
произведений? Откуда неотвратимое костенение языка
у самых даровитых писателей? Откроем наугад книгу — вот
очерк о театре: ”... Его актеры велики не только тем, что
безукоризненно владеют замечательным оружием своего
мастерства. Они велики еще и тем, что постоянно воспитывают
в себе идейных художников, страстно желающих - и
умеющих — направить оружие своего мастерства на тот
участок жизни, где оно нужнее всего. Это подлинные воины
советского искусства, гениальным оружием своего мастерства
возвышающие славу и честь своей социалистической отчизны...”
7. Это не пародия. Так об искусстве пишет Вс. Иванов,
один из оригинальнейших представителей орнаментальной
прозы 20-х гг. В его стиле 50-х годов в заунывных
повторах, в раскачке проповеднического тона явственно
слышатся знакомые интонации: голос Вождя.
Шаблонная речь — идеологический, политический, газетный
язык — не просто проникла в литературу. Она вытеснила
живой язык.
Идеологическая реальность — феномен лингвистический,
она существует словами и в словах; от литературы же ее
отличает главное: стремление к ’’научной” однозначности.
Мир значений раз и навсегда закрепощается словами и словосочетаниями,
начинающими существовать самостоятельно,
отдельно от своего живого, всегда многоликого содержания,
которое понемногу забывается. Подобно стойкам, пилонам,
208
балкам постройки, рассчитанной на максимальную прочность,
слова, оторванные от смысла, взаимодействуют между
собой, неразрывно связываясь в блоки и сопротивляясь
влиянию внешних сил. В этой ситуации словесный шлакоблок
— идеологический штамп — перестает быть общим
местом, а становится главным материалом, из которого
построена новая реальность. И следовательно, при воспроизведении
этой реальности, нельзя не пользоваться теми же
штампами.
Идеологические штампы и составляют костяк соцреализма,
на который естественным путем наращиваются литературные
стереотипы.
Известно изречение Ленина: ’’Должны ли мы небольшому
меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты,
тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном
хлебе /.../. Это относится также к области искусства и
культуры”8. Установка дана с первых дней новой власти:
поднимать массы до утонченной культуры не стоит, им
достаточно и ’’черного хлеба” , ’’общепонятной” продукции.
Неудивительно, что в арсенал соцреализма немедленно вошли
самые избитые приемы бульварных жанров, наряду с
подражаниями избранным кускам из разжеванных классиков.
Эта псевдонародность, вседоступность искусства и есть
то, что Барт на своем полумарксистском жаргоне называет
’’буржуазной манерой письма” , а Синявский несравненно
точнее определяет как ’’эклектизм” , сгубивший советскую
литературу.
И еще одно: Станиславский заметил где-то, что штамп
— это попытка сказать о том, чего не чувствуешь. А в ’’Мастере
и Маргарите” Булгакова бездарный поэт вдруг понимает,
почему его стихи были и будут дурными: ”Не верю я
ни во что из того, что пишу!..”9 По-настоящему чувствовать
бесчувственную и безжизненную реальность идеологии невозможно,
без остатка поверить в нее трудно — одним из
удивительнейших прозрений Орвелла было открытие двоемыслия,
— остается подлаживать под нее чужие напевы.
Гораздо глубже, чем все западные структуралисты, со-
209
ветские руководители искусства усвоили гегелевскую истину
о взаимосвязанности формы и содержания. Чернышевский
писал: ’’Безнравственная идея изобличает свою ложь
/.../ погибая сама от своей ложности, безнравственная идея
погубит с собой и форму” 10. Не только по идее можно судить
о будущей форме, но и по форме уже осуществленной
об идее художника — эта мысль имеет первостепенное значение
в советской эстетике. Гнилой капиталистический
Запад не располагает животворными, гуманными идеями,
а значит, не может создать ничего, кроме безнравственной
формы. На этом основании осуждаются все современные
’’модернистские” течения: они обезоружили западную интеллигенцию
и подготовили приход фашизма, ибо современное
западное искусство — философия, ’’выражающая господство
силы и факта над ясной мыслью и поэтическим
созерцанием мира”11. Удобная аксиома — она дает средства
для борьбы с капитализмом и его приверженцами повсюду,
приверженцами, сами себя разоблачающими своими антигуманными
модернистскими симпатиями. Это, так сказать,
политико-идеологический аспект отрицания ’’нереалистического”
искусства в советской эстетике. Не менее, а пожалуй
и более важен онтологический его смысл.
Неожиданные метафоры, сравнения, эллиптическая речь,
’’неестественная” усложненная композиция, остранение —
все это разрушает привычные заученные связи между предметами,
явлениями, раскалывает цельную глыбу действительности,
данную объективными законами природы и
истории. Поэтому обвинение в ’’формализме” долгое время
приравнивалось к обвинению в ’’идеализме”, и звучало как
смертный приговор. Поэтому все формальные новшества,
все отклонения от штампа подлежат выжиганию каленым
железом, поэтому романы Белого и Пильняка, фантасмагории
’’Серапионов” , поэмы Заболоцкого, книги Вагинова,
Хармса, Введенского десятилетиями скрывались и скрываются
от читателей, поэтому обрублена одна из богатейших
ветвей русской литературы — сказ, поэтому униформизация
тропов — самая характерная черта соцреалистической прозы.
210
Освобождение от правил оказывается фикцией, над всеми
законами воцаряется высший, божественный закон (’’новая
условность”) — отказ от самостоятельности. В полную
противоположность канонизированному искусству прошлого
формальные правила соцреализма действуют отрицательно
— они говорят, как нельзя писать. И с той же силой, с
какой классицизм или иконопись искали совершенства,
искусство соцреализма стремится к посредственности,
исключая все, что пытается понять, все, что пытается выразить
свою, а не навязанную, одну и только одну идеологически
выверенную действительность. Не Маяковский или
Эйзенштейн, а Елизар Мальцев, Бабаевский, Саянов, Кочетов
или Грибачев — истинные соцреалисты.
В провинциальных городках и посейчас встречаются фотоателье,
где натянутые на раму холсты изображают чудесные
пейзажи: пустыню, пальмы, диких бедуинов. У бедуинов на
месте лиц — отверстия. Достаточно просунуть в них голову
— и сказка становится былью. Соцреализм напоминает такое
ателье, и произведения его — не сказочный фон, а снимок с
него, подретушированный фотографом для того, чтобы убедить
зрителя в доподлинности вымысла и в том, что, других,
настоящих пустынь и бедуинов в природе не бывает.
Перефразируя терминологию Ю. Лотмана, можно назвать
искусство ’’вторичной моделью действительности” ,
т. е. действительностью, опосредствованной восприятием
художника. В свете такого определения соцреализм вообще
нельзя называть искусством. Он создает свою модель,
отталкиваясь не от реальной, а от идеологической, уже
сфабрикованной действительности, он — модель модели,
слепок со слепка, имитация подделки, — третичная модель
действительности. На мой взгляд в этом — специфика соцреализма.
Итак, мы имеем два определения: определение жанра
НФ и общее определение искусства соцреализма. Легко
заметить, что определения эти вступают в непреодолимое
противоречие. Действительно, если метод соцреализма
211
состоит в отображении (воспроизведении) одной-единственной
огосударствленной реальности, примирить с ним специфическую
функцию НФ — поиски альтернативных миров,
вариантов реальности — никак невозможно. Здесь третьего
не дано, и история литературы блестяще доказала действенность
простейших логических законов: на время безраздельного
господства соцреализма НФ перестала существовать.
Ибо путешествия по времени и временные петли несовместимы
с объективным пониманием времени, полностью обусловленным
всемирно-исторической необходимостью построения
коммунизма; полеты на другие планеты отнимают
силы и внимание, нужные для решения насущнейших задач
современности; всякие мутации, биокибернетические эксперименты,
физиологические, психологические и антропологические
парадоксы вопиюще противоречат прогрессивным
учениям Лысенко, Лепешинской, Павлова; феномены пси на
версту разят преступным мистицизмом; предвидения
смерти Вселенной, столпотворений и концов миров идут
вразрез с открытиями советских космогонистов, опирающихся
на гениальные идеи Энгельса; наконец, даже мечты о
всемирной революции морально разоружают граждан, занятых
стройкой ’’социализма в одной стране” и безжалостной
идеологической войной.
Только после того, как случилось непоправимое — дал
трещину железобетон идеологии, проглянули вдалеке
какие-то новые, забытые континенты, советская литература
разделилась на два потока, — только после всего этого стало
возможным писать НФ в прямом значении этого слова.
Осознание себя в НФ пришло не сразу — я писал об этом,
но когда пришло, все формы ’’замороженной” соцреалисти-
ческой псевдофантастики внезапно раскрыли свою несостоятельность.
В поисках самовыражения НФ много заимствует,
многому подражает, многому учится.
Можно долго говорить о различных влияниях.
Необычайное впечатление на советских читателей и фантастов
произвели переводы Р. Бредбери, а затем других мастеров
англо-американского жанра (переводы эти впервые по-
212
явились в 1959 г. и стали регулярными с начала 60-х г г .).
Поэтическому мировосприятию Бредбери очень многим обязана
’’лирическая” линия советской НФ; Шекли, Саймак,
Каттнер, Бестер и т. д. преподали урок сюжетной техники;
Азимов, А. Кларк, Фред Хойл, Чэд Оливер дали образцы
строго логической экстраполяции. Сильнейшим стимулом
для советской НФ явилось, несомненно, творчество польского
писателя С. Лема, который воочию показал советским
фантастам, что значит раскованность воображения и ввел
им прививку против социального оптимизма. В советских
книгах на каждом шагу встречаются парафразы и прямые
переносы из книг Лема — будь то подражания его ’’проблемным”
романам, гротескным и пародийным сказкам или же
философским трактатам.
Некоторые писатели делают попытки освоить опыт
экспериментальной прозы 20—30-х гг. В. Григорьев, например,
описал фантастическую историю из эпохи гражданской
войны в рассказе ’’Образца 1919-го” песенно-эпическим языком
в духе А. Веселого или Б. Лавренева. В ’’Аксиомах
волшебной палочки” , другом рассказе Григорьева, язык несет
явную печать синтаксиса Зощенко. Зощенковские интонации
проскальзывают то и дело в гуслярском цикле К. Булычева.
М. Клименко в рассказе ’’Судная ночь” попытался
построить некий обновленный эквивалент речи Платонова.
Такие примеры достаточно многочисленны, но разрозненны.
В области литературной техники наиболее характерным
и, самое важное, массовым — почти всеобщим — было и
остается влияние ’’исповедальной” прозы.
Новая НФ — нечто вроде специализированного филиала
’’исповедальной” прозы. Словно бы для облегчения работы
исследователю переход в жанр осуществляется наглядными
промежуточными стадиями. Так, ”Дым в глаза” (1959)
А. Гладилина, реалистическая повесть с условной научно-
фантастической мотивировкой, еще никем не считается
НФ; посвящена научно-технической теме (созданию ракеты
на Марс) и, следовательно, больший крен в сторону НФ
дает опубликованная в ’’Юности” и написанная по канонам
213
’’молодой” прозы повесть Я. Голованова ’’Кузнецы грома”
(1964), уже попавшая в библиографии НФ; и никакого
сомнения при классификации не оставляют такие романы,
повести, рассказы, как ’’Море Дирака” Емцева и Парнова,
”В институте времени идет расследование” Громовой и
Нудельмана, ’’Чердак вселенной” С. Павлова, ’’Маленький
полустанок в ночи” А. Балабухи, — произведения, где осью
повествования (более или менее ярко выраженной доминантой
сюжета) становится научно-фантастический атрибут
или проблема, но сохранены многие формальные признаки
’’новой” прозы: характеры, взаимоотношения героев,
элементы быта, строй речи, и в особенности — построение
диалога.
Причина этого тяготения НФ к ’’исповедальной” прозе
проста: писатели ’’четвертого поколения” принесли в литературу
живой язык молодой советской интеллигенции, той
самой, из которой выходит подавляющее большинство героев
новой НФ. Те же персонажи, тот же молодежно-университетский
жаргон, тот же быт, часто — сходные проблемы:
готовая литературная форма как нельзя лучше подошла НФ,
и сохранилась в ней еще долго после того, как угасло породившее
ее литературное течение.
Из всех формальных новшеств ’’молодой” прозы одно
сыграло капитальную роль в становлении современного
облика НФ — мы говорим об иронии и остроумии, возродившихся
после десятилетней торжественной и патетической
серьезности, тускло подсвечиваемой ’’народным” юмором.
Определенного типа остроумие, скептицизм, автоирония
сделались едва ли не главными чертами молодых героев
прозы, а в реальной жизни — знаком принадлежности к интеллигентской
среде. Следом за героями Аксенова или Гладилина
принялись сыпать каламбурами, шутками, саркастическими
замечаниями и герои Стругацких, Савченко, Емцева
и Парнова, Войскунского и Лукодьянова; они стали находить
комизм в серьезных положениях. Писатели же фантасты
вдруг обнаружили, что комическое может быть незаменимым
литературным средством.
214
Надо сказать, что остроумие в литературе по своей технике
очень приближается к НФ: оно точно так же пользуется
двумя — по меньшей мере — системами отсчета, признанной
за ’’норму” и ’’анормальной” , столкновение между которыми
и вызывает эффект сюрприза, смех или удивление. Альтернативному
миру НФ, созданному при помощи инверсии,
преувеличения, доведения до крайности, буквализации метафор,
парадоксального толкования - т. е. тех же приемов,
которые входят и в инструментальный набор комического,
— легко придать форму пародии или юморески. Этой естественной
близостью, по-видимому, и объясняется многочисленность
юмористических произведений в западной НФ.
Советская же НФ долго обходилась вымученным оскалом
жизнерадостного оптимизма, но вскоре после того, как
молодая проза открыла дорогу живому комизму, наметилась
самостоятельная линия — юмористическая фантастика.
Пионером научно-фантастической юморески неожиданно
стал пожилой инженер, отнюдь не профессиональный литератор,
начавший писать на спор, — Илья Варшавский. В
1962—64 гг. появляются рассказы, вошедшие в его первый
сборник ’’Молекулярное кафе” .
Рассказы Варшавского сразу же завоевали большую популярность.
Писатель сделал две очень важные находки:
во-первых, сократив до минимума объем рассказов, убрав
все лишнее, он сосредоточился не на изложении научно-
фантастических идей, а на раскрытии коллизий, заключенных
в фантастических ситуациях, и тем самым сделал шаг к
созданию сжатого динамического повествования нового
типа, о котором говорилось в главе о сюжете, — таковы
были его рассказы-парадоксы из цикла ”В космосе” ; во-
вторых, Варшавский первым обратил внимание на то, что
НФ может пародировать самое себя. Большая часть его
ранних рассказов и была пародиями на модные увлечения
новыми науками.
Ситуации в юмористических новеллах Варшавского
просты и, на первых порах, даже чересчур прямолинейны.
215
Говорится в них то о студенте-оболтусе, который с блеском
проходит интенсивный курс обучения с электронным чудо-
профессором, ничему не научившись, зато заронив в машинную
’’душу” ’’профессора” интерес к девушкам, вину и
футболу (’’Поединок”) ; то о зубном кабинете будущего,
где для скоростного и безболезненного выращивания утерянных
зубов используются биотоки; сюда, конечно, попадают
записи биотоков из другой лаборатории, и у пациента
выращиваются во рту вместо зубов волосы (’’Биотоки,
биотоки...”) ; то, наконец, об универсальном усовершенствованном
роботе, который в силу своего сверхлогического
мышления не в состоянии разрезать торт на три части,
ибо единица не делится на три без остатка (’’Роби”) .
В этих и подобных рассказах (по типу юмора напоминающих
рассказы А. Беляева) Варшавский смеется над притязаниями
кибернетиков, электроников, физиков, вообразивших
себя новоявленными демиургами и свято верящих
в свою всесильность. Но насмешка нацелена не против
науки: излюбленный прием писателя состоит в экстраполяции
определенной научной гипотезы, а затем в доведении до
абсурда практических результатов ее применения. Осмеянию
— кстати сказать, вполне добродушному — подлежит
не сам принцип научного мышления, а безоглядный научный
оптимизм, иными словами — научно-техническая утопия.
От рассказов Варшавского веером расходятся линии, по
которым начинает бурно развиваться юмористическая фантастика:
беззлобная насмешка над самонадеянностью науки,
осовремененные сказки (большей частью на манер С. Лема),
шутливые парадоксы, не имеющие никакой цели, кроме
смеха, литературные пародии, продолжающие старую традицию
антирелигиозные и антикапиталистические памфлеты.
После Варшавского не было фантаста, раньше или позже
не обратившегося к юмористическому рассказу. Многие
литературные карьеры в НФ начинались именно с пародии
и юморески. В каждом сборнике, в каждой антологии есть
место для юмора. Среди очень разных по качеству вещей
встречаются и любопытные, и просто хорошие, смешные и
216
умные произведения. Отдельного упоминания заслуживают
миниатюры Р. Подольного и более поздние — А. Горбовско-
го, очень остроумная историко-фантастическая хроника
”Пра-пра...” Н. Эйдельмана, ’’Четыре четырки” Н. Разговоро-
ва — голос в споре ’’физиков” и ’’лириков” , ’’Контакта не
будет” И. Варшавского — ядовитая пародия на ефремовские
картины встреч с обитателями других миров, философская
юмореска ’’Разговор с лунным человеком” Л. Обуховой,
многие рассказы К. Булычева; оставаясь в пределах антизападного
памфлета, удерживаются (изредка) на хорошем
литературном уровне рассказы В. Фирсова или Б. Зубкова
и Е. Муслина, некоторые из которых могли бы быть написаны
Робертом Шекли.
Пересказывать, отдельно анализировать юмористическую
фантастику не стоит: в ней трудно найти какие-то специфически
новые качества. Но значение ее велико. Дело в том,
что комическое по сути своей — двусмысленное и небезопасное
оружие. Там, где его много, где много и надо многим
смеются, того и жди неприятностей. Смех трудно контролировать,
он разъедает незыблемые нормы, подтачивает устои,
на которых держится идеологическая реальность.
В раннем космическом цикле И. Варшавского есть рассказ
’’Неедяки” . Речь в нем идет о том, как на отдаленной
планете земная экспедиция открьюает странные, дотоле
невиданные существа. Совершенно прозрачные, мешковидные,
одаренные лишь зачатками разума, они не нуждаются
ни в пище, ни в питье, ни во сне. ’’Неедяки” , как их называют
космонавты, живут в уникальном симбиозе с бактериями,
перерабатывающими энергию лучей света. Получая
от бактерий все необходимое для жизни, ’’неедяки” ведут
полностью растительное существование. Земляне покидают
планету, и снова навещают ее спустя несколько лет. Каково
же их изумление, когда они обнаруживают, что за это короткое
время у ’’неедяк” не только развились общественные
отношения, но и появилось нечто вроде примитивной промышленности.
Разгадка стремительности прогресса более,
чем прозаична: первая экспедиция, в составе которой была
217
собака, завезла на планету блох, которые немедленно расселились
на ’’неедяках” . Несчастные существа, сжираемые блохами,
объединяются для того, чтобы чесать друг другу спины.
Физические мучения пробуждают разум, и когда кому-
то приходит в ’’голову” посыпать себя толченой перекисью
марганца, возникает первая фабрика для производства
средства против блох.
Рассказ этот, построенный на смехотворном несоответствии
между ничтожной причиной и ее колоссальными
последствиями, при желании можно прочесть всего лишь
как забавную шутку. Но можно в нем увидеть другое —
издевательство над святая святых, теорией общественного
развития.
’’Неедяки” — пример двусмысленности самого, казалось
бы, невинного юмора, если он затрагивает невралгические
точки установленного миропорядка.
Крупный авторитет в этой области, один из организаторов
советской журналистики 20—30-х гг., М. Кольцов заметил,
что юмор ” ... всегда содержит в себе элементы сатиры:
если не осуждения, то хотя бы критики того, над чем человек
смеется” 12. Тут-то и коренится главная опасность освобождения
искреннего смеха: захватывая не то, что следует,
литературный юмор преображается в самую страшную для
идеологии и ее художественной системы ’’манеру письма”
— в сатиру.
Есть сходство в исторических судьбах сатиры и утопии
в Советском Союзе. Революционные утопии 20-х гг. литературоведы
называют даже ’’социально-сатирическими утопиями”
, подчеркивая их антикапиталистическую заостренность.
Так же, как утопия, сатира — направленная и вовне,
и вовнутрь — пользуется правами чуть ли не обязательной
приправы в литературной кухне того времени, а часто становится
ее главной специальностью. Слишком долог был
бы список писателей, у которых так или иначе проявлялся
сатирический уклон. Сатира — как и утопия — поначалу
очень поощрялась планификаторами новой литературы.
218
’’Хулио Хуренито” И. Эренбурга, жестокая насмешка над
молодой диктатурой, очень понравилась Луначарскому и
удостоилась благосклонности Ленина. Маститый критик
П. Коган назвал ’’Хулио Хуренито” умнейшей книгой послереволюционного
пятилетия, согласился со всеми обвинениями
Великого Скептика в адрес новой власти (истолковывая
их, правда, в ее пользу), и заметил, что, убивая дряхлое,
смех помогает утвердиться сильному: диктатура пролетариата
не только не боится, но черпает жизненные соки из
самого разрушительного смеха13. Призывы развивать сатиру
раздавались довольно долго. Еще в 1927 г. С. Гусев
сетовал: ”К сожалению, у нас нет еще наших советских Гоголей
и Салтыковых, которые могли бы с такой же силой
бичевать наши недостатки”14.
Однако, далеко не все разделяли эту безмятежную уверенность
в своей силе. ’’Невиннейшая” , по замечанию Замятина,
сатирическая пьеса Горького ’’Работяга Словотеков”
снимается со сцены в 1919 году. А в 1920-м послышались
первые голоса, сомневающиеся в необходимости сатиры для
советского государства. Несколько позже один из критиков,
говоря о сатирическом фельетоне и требуя больше
смеха в борьбе с общественным злом, предостерегал: ’’Поскольку
фельетон имеет преимущественно характер разоблачительный,
постольку необходимо сугубо следить за
тем, чтобы разоблачительная работа вместо того, чтобы помочь
советской власти бороться с злоупотреблениями,
не превратилась в средство подрыва советских устоев” 15.
Сугубого надзора было недостаточно самому ярому врагу
сатиры, рапповскому радикалу В. Блюму, безошибочно
нащупавшему сокровенную суть проблемы. Выступая в
дискуссии о сатире 1929 г., он говорил: ” ... стоит этой традиции
(т. е. традиции сатиры. — Л. Г.) получить то или другое
воплощение, как вступает в силу обобщающий момент
сатиры и сатирик (хочет этого или не хочет) гневно произносит:
’’Вот какой он милый — ”их” строй!..” 16. Поэтому ’’советская
сатира — поповская проповедь. За ней очень удобно
спрятаться классовому врагу. Сатира нам не нужна. Она
219
вредна рабоче-крестьянской государственности Понятие
’’советский сатирик” заключает непримиримое противоречие.
Оно так же нелепо, как понятие ’’советский банкир”
или ’’советский помещик” . Блюм призывал бороться с недостатками
’’организованно — в прессе, в профсоюзе, в партии,
в добровольном обществе” и советовал изгнать смех
как ’’ненужный физиологический придаток” 17.
Блюм, объект многолетних издевок, отнюдь не был одинок
в своих суждениях: в самых левых кругах РАППа юмор
считался ’’литературной категорией, социально чуждой пролетариату”
.
В дискуссии 1929-30 гг. и на 1-м съезде ССП ликвидатором
сатиры был ”дан отпор” , но, как водится, только на
словах. Советские писатели решили, что сатира нужна - но
сатира особого рода. Законченный вид получила стройная
концепция (И. Нусинов, Е. Журбина и др.) своеобразия
советской сатиры — не обличительной, а ’’лирико-патетической”
, ’’положительной” . Как прямое следствие этой теории
к концу 30-х гг. уже не стало сатирических произведений
на современном материале (не считая фельетона, который
занимался не борьбой смехом, а сигнализированием
скрытых врагов). Смех постепенно испарялся из советской
литературы. Талантливые сатирики И. Ильф и Е. Петров возымели
чудовищный замысел высылки своего героя — веселого
и умного жулика — на новостройку типа Беломорканала
с целью перековки: в их творчестве явственно торжествует
положительное начало, зато из него ’’уже с 1933 г. решительно,
последовательно уходит гротеск” 18. Таким же был
удел всех сатириков, всей сатирической прозы, которая к
эпохе ’’теории бесконфликтности” превращается в нечто
совершенно себе самой противоположное. Чем она стала,
лучше всего видно из чтения сатирических журналов. В
’’Крокодиле” за 1951 г. был напечатан знаменательный
фельетон С. Шатрова, где говорится о сатирике, задавшемся
целью обнаружить неполадки в работе рыбной промышленности.
Несмотря на все его усилия, таковых не находится, и
опозоренному сатирику остается лишь ’’смущенно улыбать-
220
ся” 19. Произошло замечательнейшее в своем роде событие:
единственной мишенью для сатиры оказался сатирик, Фома
Неверный, вечно недовольный окружающим его земным
раем.
Так же, как сбылись мечты Гастева, так воплотились в
жизнь и неправдоподобные пожелания В. Блюма.
Подрезанной под самый корень сатирической литературе
не дано было возродиться открыто. ’’Нам нужны Гоголи и
Щедрины” — слова критика С. Гусева четверть века спустя
повторил на XIX съезде КПСС ведущий деятель партии и
правительства Г. Маленков. И снова почему-то никто не
внял призыву. ’’Нам нужны подобрее Щедрины, и такие Гоголи,
чтобы нас не трогали” — эта эпиграмма на воззвание
Маленкова очень точно передает смысл всех таких воззваний.
Даже оттепель не смогла разморозить толщи льда, захоронившего
под собой советскую сатиру. За исключением
романов Ильфа и Петрова, все другие сатирические произведения
20—30-х гг. с великим трудом получают визу в печать,
а большая часть их до сих пор не переиздается. Новых же
произведений нет. Вернее, они есть, конечно, — замечательные
сатирические книги А. Солженицына, ’’Верный Руслан”
Владимова, ’’Иван Чонкин” Войновича, ’’Москва-Петушки”
Ерофеева и т. д. — но все это подпольная, самиздатовская
литература, та, в которой живут великие традиции. О печатающейся
сатире даже советские критики вынуждены писать:
’’качество сатирической литературы далеко не настраивает
на мажорный лад”20.
Упрощая, можно разделить сатиру на тотальную и локальную.
Первая — сатира Свифта, Вольтера, Щедрина — бьет
по всем основным принципам общественной жизни; вторая
— сатира Мольера, Фильдинга, Дидро — высмеивает отдельные
пороки людей или общества, но при этом (уже вне произведения)
атака переносится с одного объекта на множество
однородных объектов. Все ростовщики - бессердечные
хапуги, все политики — мошенники, все буржуа — лицемеры.
Таково действие комического: это ’’обобщающий
момент сатиры” , о котором говорил В. Блюм. В официаль-
221
ной литературе сегодня нет ни тотальной, ни локальной сатиры.
Советские сатирики прилагают все силы, чтобы избежать
обобщений; их главная задача — доказать, что в советской
жизни пороки и недостатки — явления не просто локальные,
но единичные и случайные. Поэтому смягчается —
до полного исчезновения — комизм ситуаций и персонажей,
сила осуждения ослабляется введением противовеса:
положительных героев или явлений, язык старательно приглаживается
под гребенку всеобщего стереотипа. В худшем
случае такая установка дает обличительный газетный фельетон
или же пьесы и басни С. Михалкова, в лучшем — редкие
удачи, вроде ’’Созвездия Козлотура” Ф. Искандера, где сатирические
элементы полностью растворены в лирическом
замесе автобиографического повествования.
Несколько иной вопрос — памфлеты, фельетоны, репортажи,
книги, направленные против капиталистического мира:
тут, казалось бы, имеет место подлинная сатира. На деле —
это как бы сатира на марсианское общество. Советский
читатель не имеет никакого понятия о жизни Запада. Единственный
источник его знаний - тенденциозная, ложная,
насыщенная ненавистью информация, поставляемая массовыми
средствами сообщения. И следовательно, при создании
и восприятии сатирического текста отсутствует основной
принцип раскрытия и распознания под комической маской
отрицательных сторон хорошо известных, признанных нормой
явлений. Отсутствует столкновение между сущностью
и видимостью, ибо разницы между ними нет: такая сатира —
это газетная пропаганда с добавлением карикатуры.
Мы сделали различие между классической утопией и
’’утопией советской” . Таким же образом можно противопоставить
классическую сатиру советской сатире, лишенной
своих важнейших структурообразующих черт и сохранившей
название лишь для того, чтобы вводить в заблуждение
читателей.
У нас уже был случай говорить о В. Немцове, о его научно-
фантастических произведениях и, в частности, о романе
222
’’Последний полустанок” . На книге этой стоит немного задержаться.
Действие ее происходит в НИИ Аэрологических Приборов,
где ведутся испытания дирижабля с реактивным двигателем
для исследований ионосферы. Испытаниям мешают
отрицательные персонажи. Их четверо, двое молодых и двое
пожилых: бездельница Римма (она не любит работать, но
обожает танцевать), мелкий завистник, ябеда и жулик Аскольд
(он делает снимки дирижабля, которые попадают на
Запад), дутый ученый, любитель славы и рекламы Литовцев
(он создает шумиху вокруг своего давно устаревшего
изобретения, препятствуя выйти в центр общественного внимания
хорошему конструктору Пояркову), наконец, директор
НИИ, бюрократ и дурак (он не контролирует работ, не
внимает сигналам о неполадках, зато по глупости всячески
помогает Литовцеву и вставляет палки в колеса испытателям
нового дирижабля).
По замыслу автора эти персонажи являются сатирическими
типами. В действительности они вообще не существуют
как самостоятельные действующие лица: их назначение
— делать мелкие пакости главным героям. Римма и
Аскольд распускают сплетни об отношениях хорошего инженера
и положительной героини, чем очень мешают развитию
их чистой и глубокой любви. Через преодоление козней
строится сентиментальная линия романа. Затем Римма, спеша
на бал, устанавливает испорченные аккумуляторы в
дирижабле. Следствие этого негодного поступка — главные
герои, исправляя неполадку, нечаянно улетают в ионосферу,
где их ждут удивительные приключения. Что касается Ли-
товцева и директора, то им обязана своим вялым движением
производственная фабульная линия. Никакие происки,
конечно, не могут помешать торжествующей поступи прогресса.
Все заминки в пути затмеваются окончательной
победой: разработкой чудесных аккумуляторов, заряжающихся
от космической энергии, и пуском в ход новой
электростанции. Обилие положительных героев, их целеустремленность
и активность целиком сводят на нет значе-
223
ние нескольких подлых людишек. Они почти недостойны
внимания автора — и соответственно, почти им не обрисовываются.
Никакой речи нет о психологическом анализе, о
попытке углубленной характеризации образов, об индивидуализации
речи, мыслей, поступков: одним словом, нет
ничего, что могло бы сделать третьестепенные отрицательные
персонажи сатирическими типами. Они остаются стереотипными
’’врагами” классического соцреалистического романа,
но в микроскопическом масштабе.
Любопытна подборка отрицательных персонажей: это
установленные соцреалистической традицией клише: лжеученый
(заимствован прямиком из ’’Русского леса” Л. Леонова),
плохой организатор-бюрократ (в периоды расцвета
бюрократии всегда очень поощряется критика отдельных
бюрократических перегибов), лентяйка-модница, пустоголовый
жулик, играющий на руку международным шпионам.
Стоит отметить, что отвратительная Римма происходит из
рабочей семьи, в то время, как у главного положительного
героя мать — член-корреспондент Академии Наук, ’’почти
академик” , еще более подлого Аскольда любили в школе,
ценили в комсомоле (за доносы), и лишь под конец разобрались,
что у него ’’злое сердечко” . Так упраздняется устаревшая
идея избранности Пролетария (’’номенклатура”
тоже имеет право быть избранной), и проводится капитальная
мысль о том, что шествию к коммунизму мешают немногочисленные,
проявляющиеся в разных социальных
слоях люди со ’’злым сердечком” . В высших слоях таких
людей меньше, и отношение к ним насыщено гуманностью.
Беседуя с ’’честным” американцем, главный герой рассказывает
о директоре-дураке, что того принимают в разные научные
комиссии: ’’зачем обижать человека?” Американец
проявляет недоумение: в его стране человека, зарабатывающего
деньги втуне, да еще на высоком посту давно бы
выгнали. Герой отвечает: ”На то у вас и волчий закон капитализма.
А мы выгонять не будем. — Тогда переводить его в
цех, на станок. — Не умеет”21. Таков гуманный социалистический
подход. Получается, что самый опасный враг для
224
народного хозяйства — не бездарный, некомпетентный и
халатный руководитель, а ленивые и лишенные бдительности
хулиганы-младшие лаборанты или — зачем скрывать?
— рабочие. С первыми справиться легко. Как говорит самый
положительный начальник в романе, руководитель испытаниями,
если в технике есть ’’защита от дурака” , то и в жизни
’’надо добиться так организовать аппарат научного учреждения
или предприятия, чтобы дураки его не портили”22.
Говоря между прочим, западным специалистам, так усердно
пытающимся постичь ’’советский феномен”, это замечание
могло бы помочь в понимании некоторых механизмов советской
экономики, где организация направлена гораздо
больше на защиту от неизбежного ’’дурака” , чем на получение
наибольшей эффективности работы. По идее Немцова
снабженные безотказными предохранительными устройствами
советские предприятия будут работать все лучше и лучше,
а их директора смогут беспрепятственно переводиться
в порядке наказания из одного сектора в другой. Относительно
лодырей и предателей лаборантов автор ’’Последнего
полустанка” советует больше строгости и, в целом, порицает
благодушие советских граждан по отношению к людям
со ’’злым сердечком” . Поменьше благодушия — такова
конструктивная программа писателя.
Повторим еще раз: все выведенные в ’’Последнем полустанке”
отрицательные действующие лица — мелкая сошка,
они причиняют небольшие и кратковременные неприятности,
не более того. В тоне, которым о них говорится, гораздо
сильнее слышно пренебрежение, чем негодование.
Зато неисчерпаемые запасы негодования уготованы писателем
для людей, которые ни на миг не появляются в романе.
На их счет главный герой произносит пространную филиппику:
’’Представьте себе огромное высокое сооружение,
но построить его скоростными методами нельзя — каждый
тащит наверх кирпичи. Один взял побольше, другой поменьше.
Многие несли непосильную ношу, чтобы приблизить
счастливые дни, надрывались и гибли — сердце отказывало.
И вот когда здание уже почти готово, на самую его
225
вершину взбегают некие молодцы и, подбадриваемые чужими
голосами тунеядцев и врагов, пробуют сбрасывать вниз
кирпич за кирпичом” , оправдывая это нелепое разрушение
’’ошибками строителей. Ошибки были, и мы их не скрываем.
Но в том-то и дело, что по молодости лет и общей
ограниченности эти мальчики могли видеть совсем немногое:
чуть перекосившийся кирпич, выщерблинку, застывшую
струйку раствора. И вместо того, чтобы устранить это
руками мастера, они готовы орудовать ломом. Нашлись и
другие молодцы, эстеты, им, видите ли, не нравится оттенок
облицовки. Долой ее! А иные демагоги знали лишь одно
— что среди строителей предпоследних этажей оказались
люди, которые хоть и много сделали для стройки, но, как
потом выяснилось, пользовались не очень гуманными методами.
Значит надо повытаскивать все кирпичи, что заложены
в прошлые годы? Нашлись и доморощенные теоретики,
они уже подбирались к фундаменту, поковырять его ломиком,
вытащить один кирпичик, другой, чтобы посмотреть:
а все ли там, внизу, благополучно? Зря стараются! Наш дом
стоит на прочнейшем фундаменте коммунистических идей
и будет стоять вечно”23.
Эта тирада выражает идейную платформу не только
В. Немцова, но всей ’’ближней фантастики” , всей истинно
соцреалистической литературы, всей нынешней официальной
идеологии. ’’Недовольных молодцов” — сегодня мы назвали
бы их диссидентами — писатель ненавидит лютой ненавистью,
и именно они могли бы стать самой естественной
мишенью для немцовской и всей официальной советской
сатиры. Но ’’молодцов” лучше не показывать — из боязни
преувеличить их значение, из боязни ’’обобщить” . Немцов
— и вся официальная сатира — довольствуется облегченным
изложением директивных статей ’’Правды” и ’’Коммуниста”
, а также мастерским устранением застывших капель
раствора на безупречных стенах ’’нашего дома” . Заметим,
что обличение вандалов дается в контексте романа, где
единственные отрицательные персонажи, ”по молодости
лет и общей ограниченности” способные попасть в траекто-
226
рию удара, — не кто иные, как Римма и Аскольдик. Тем
самым ’’молодцы” — т. е. все, кто пытался и пытается добиться
’’десталинизации” советской системы — приравниваются
к жалким нарушителям правопорядка уездного калибра:
эта ловкая подтасовка — своеобразный эзопов язык
навыворот — единственный сатирический прием, удавшийся
в романе.
’’Последний полустанок” писался после XX съезда КПСС
(в 1956—1959 гг.), вышел в свет в 1959 г. — ход пешкой в
баталии против ’’оттепели” , — затем, вопреки принятой издательской
политике, долго не переиздавался, пока, наконец,
не нашел благоприятной атмосферы для своих идей в
1970 г.
Сатира в советской печатающейся литературе по своему
количеству и качеству равна величине, близкой к нулю. Но
подобно тому, как утопия и антиутопия воскресли из небытия,
не выделившись в отдельные полноправные жанры, а
воспользовавшись защитным цветом жанра НФ, так и сатира,
подлинная сатира проросла в советскую литературу из
новой юмористической НФ.
Возьмем в качестве примера для анализа рассказ В. Ко-
лупаева ’’Волевое усилие” , напечатанный под рубрикой
’’Новые имена” в ’’Фантастике 1969—1970” .
В рассказе две остро разграниченные плоскости повествования.
Мотивировка и обрамление главной ситуации дается
в классическом ключе НФ. Вылетевший в недалеком будущем
космический корабль терпит крушение; благодаря
парадоксу Эйнштейна на Земле проходит сто лет; автоматический
разведчик принимает сигнал об аварии, но не успевает
засечь координаты корабля; вторичного сигнала не будет,
ибо для главного передатчика нет энергии, а портативного,
которым оснащаются все звездолеты, на этом не оказалось:
конструкторское бюро, изготовляющее эти передатчики,
в свое (т. е. наше) время не выполнило план, и корабль
отправился в путь, не укомплектовав оборудования.
Люди будущего принимают единственно возможный план
227
для спасения затерянных в космосе: высылают в прошлое
(т. е. в наше время) агента, который должен обеспечить
выполнение плана. Агент, постоянно соединенный обратной
мысленно-эмоциональной связью со своим контактом в
будущем, поступает на работу в рядовое конструкторское
бюро. Операция заканчивается успехом. План выполнен,
корабль передает сигналы бедствия на вовремя установленном
передатчике, к нему на помощь устремляется спасательная
экспедиция.
Из двух десятков страниц рассказа научно-фантастическое
действие занимает около полутора страниц. Остальные
заполнены картинами из жизни рядового конструкторского
бюро.
Агент коммунистического будущего Сантис под именем
Самойлова попадает на место действия в момент начала срыва
работ. Инженеры, конструкторы, научные сотрудники
сидят, говорят о футбольном турнире, о рыбной ловле, решают
шахматный этюд. Вскоре все гурьбой идут на обед, а
после возвращения не забывают включить никому не нужные
паяльники и приборы. Начальник отдела жалуется Самойлову:
нет опытных образцов. ’’Сидим, баклуши бьем!
А потом ночевать здесь будем. Планировали, планировали —
и все зря”24. Итак, с самого начала проясняется ритм деятельности
обычного — т. е. типичного — советского учреждения.
Большую часть времени в работе имеются простои,
срывы, прорывы, и лишь в последнюю минуту положение
спасает — или не спасает — всеобщий штурм. В рассказе изложена
целая ’’философия штурма” . Во-первых, штурм всегда
ведется под конец года. Во-вторых, пытаться выполнить
план раньше — бессмысленно. Это как при осаде города —
что будет, если какая-нибудь часть осаждающей армии
отдельно начнет штурм?
Откуда эта глубокая философия? Она разработана на
основе простой констатации факта: работать регулярным,
упорядоченным ритмом по центральному плану нет возможности
— он не учитывает множества местных факторов. Планируется
все хорошо. Но потом заедает в одном месте —
228
конструкторам не выдали вовремя схемы из лаборатории;
во втором — в лаборатории не смогли вовремя составить
схемы, потому что макетная задержала макеты и т. д. и т. п.
План трещит по швам. Герой вопрошает: А для чего система
сетевого планирования? Для чего научная организация труда?
На риторический вопрос отвечает седовласый ученый из
лучшего будущего: планировать было трудно, не хватало
опыта, техники, — но в общей массе работа шла ’’близко к
среднему нормальному уровню /.../. Нам сейчас попало то,
что отклонилось вниз” . Ответ мудреца вряд ли может удовлетворить
читателя, для которого срывы, штурмы и их
последствия слишком хорошо знакомая повседневность,
— но это неважно. Подлинный ответ содержится в самом
рассказе.
Вскоре оказывается, что Самойлов умеет делать чудеса:
усилием мысли он возбуждает схемы, запускает неисправные
генераторы и т. д. За фокусами проходит день, а на следующий
день, понаблюдав, как Самойлов ’’волевым усилием”
забивает в стену гвозди, начальник отдела просит его
подогнать запущенную продукцию хотя бы на 25%. Самойлов
ставит условие: или все, или ничего, и принимается за
работу. Он читает чертеж, представляет себе форму деталей,
класс точности, характеристики, — и в воздухе возникает
готовая модель: следящие за операцией ученые будущего
изготовляют все, что нужно, и известными НФ способами
пересылают в прошлое.
За два дня Самойлов выполняет план отдела на 3-й квартал.
Но тут в сюжете намечается неожиданный поворот:
начальство СКВ считает, что было бы лучше план не выполнять
вообще. Готово письмо в министерство, готово объяснение,
доказана невозможность выполнить план по всему
учреждению из-за объективных трудностей — и вдруг один
отдел опрокидывает всю аргументацию. Остается выполнять
план всем учреждением. Но как это сделать? Самойлову
не под силу ознакомиться со всеми чертежами, деталями и
пр. Решение находит штатный изобретатель: представлять
надо не то, как сделать прибор самому, а то, что нужно было
229
бы сделать, чтобы прибор был изготовлен вовремя: ”Не было
комплектующих? Значит, тов. Волков своевременно не
объявил выговор Балуеву, начальнику отдела комплектации.
Волевым усилием, мысленно объяви ему выговор. Не
хватало людей? Отдел кадров... Схема не настраивается?
Разработчик...”
До конца 3-го квартала остается 8 часов. Посланник будущего
входит в звуконепроницаемую герметичную камеру,
сбрасывает туда толстую кипу ’’тематических планов, оперативно-
календарных графиков, квартальных отчетов, докладных,
заявок, приказов” , и закрывается изнутри. Томительное
ожидание прерывается поочередным исчезновением
разных начальников, главный инженер внезапно вырывает
из рук дворника метлу и начинает с азартом подметать: идет
реорганизация кадров. Объятый паникой персонал бюро
пытается вскрыть дверь камеры. В рядах атакующих остается
всего несколько человек. Наконец, дверь открывают:
’’Самойлов /.../ уже не дышал /.../. Стол был завален подписанными
и утвержденными квартальными отчетами, папками
готовых технических отчетов, протоколами испытаний.
На полу стояли макетные и опытные образцы по всем темам.
План 3-го квартала был выполнен. Поверх всех бумаг
лежал приказ министерства о выплате работникам СКБ
квартальной премии...”
Все хорошо, что хорошо кончается: у рассказа Колупае-
ва сказочный конец. Это конец иронический.
Ирония заключена в способе использования научно-
фантастического приема.
Рассказ начинается вполне серьезно: научно-фантастический
зачин создает условия для неожиданной ситуации: выполнения
плана посредством волевого усилия, иначе говоря,
сотворения качественной материальной продукции нематериальными
средствами. Все получает строго рациональное,
в духе НФ, объяснение. Но здесь уже кроется намек. Начальник
СКБ произносит на заседании речь: ”Я всегда интуитивно
придерживался волевых методов руководства. Я пр-р-
реклоняюсь перед величием и могуществом человека! И
230
вот, то к чему я всегда стремился в своей деятельности,
нашло блестяще подтверждение в отделе электроники.
Выполнение плана с помощью волевого усилия! Я всегда
”за” !”25 Смешение разных понятий, лозунга о ’’волевых
методах руководства” и ’’волевого усилия” — характеризует
самого начальника, но кроме того, точно определяет
его отношение к проблеме выполнения плана: он постоянно
надеется на чудо. Как, впрочем, и все остальные. Сверхъестественные
способности Самойлова вызывают не удивление,
а радостное возбуждение. Толпы любопытных ходят за
Самойловым и просят его забить гвоздь в стену. Несколько
раз повторенная сцена забивания гвоздей смешна, она снижает
значительность события, лишает его удивительности,
сводит чудо к уровню повседневного — несложные фокусы
предваряют главное, то, чего все ждут. И тогда происходит
настоящее чудо. Если все проделки Самойлова с гвоздями,
генераторами и моделями объясняются рационально, то так
же объяснить административный фокус гораздо труднее.
Каким образом ученые будущего делают выговоры? Как
они оформляют переписку с министерством? Как изымают
из трудовой реальности некомпетентных работников? Не
проще ли было попросту изготовить передатчик и поставить
его на корабле? Читая рассказ, мы настолько свыкаемся
с рациональной подоплекой самойловских чудес, что почти
не замечаем необъяснимости главного: последний подвиг
есть истинное чудо, чудо из сказки, в которой роль магии
играют бюрократические маневры письмами, заявками и
отчетами.
Научно-фантастическая рационализация опускается в концовке
рассказа, и этот пропуск несет в себе мощный заряд
иронии, дает сатирический эффект. Явление, о котором
идет речь, — может быть, и против воли автора, но по законам
сатиры, — обобщается. Ни сетевое планирование, ни
научная организация труда, — только самое настоящее чудо,
вызванное заклинаниями бюрократа-колдуна, может спасти
план рядового — т. е. типичного — советского учреждения.
Это удар в самое больное место советского режима: в
231
систему централизованного планирования. Опасная тема, и
автор ’’Волевого усилия” не побоялся ее затронуть. (Впрочем,
рассказ этот не вошел в сборники Колупаева.)
’’Волевое усилие” — пример локальной сатиры в НФ, характерный
для нее как по методу применения НФ в качестве
мотивировки ситуации, так и по стилю повествования.
Анализ рассказа позволяет выделить характерные черты
стиля Колупаева: псевдоглубокомысленные авторские отступления
(’’философия штурма”) , повторы (сцена с гвоздями)
, пародийное использование лозунгов (в речи начальника)
, буквализация метафоры (неуловимый начальник макетной
мастерской исчезает в воздухе, не оставляя ’’никакого
материального следа”) . Все это, и многое другое, в
частности, сама лексика, дают полное основание утверждать,
что манера письма рассказа является прямой реминисценцией
стиля романов И. Ильфа и Е. Петрова. Эта констатация
важна: она относится к почти всей без исключения юмористической
и сатирической НФ, так же, как к большинству
произведений ’’исповедальной” прозы.
В советском искусстве и, прежде всего, в литературе, в
послесталинское время постоянно действует принцип, без
понимания которого трудно разобраться в том, что в ней
происходит, и о котором я уже начал говорить: его можно
назвать ’’принципом рекуперации” . Заключается он в том,
что каждое заметное новое явление, выходящее из установленных
рамок, уже не уничтожается без суда и следствия:
оно истолковывается, комментируется, препарируется в
пользу генеральной линии. В каком-то смысле, это возобновление
в более осторожном виде политики Троцкого и
А. Воронского по отношению к произведениям попутчиков.
По этому принципу публикуются многие произведения
оттепели, например, книги Ф. Абрамова, Залыгина, Можаева,
Тендрякова. Критические публикации, рецензии, комментарии,
в которых неизбежно говорится о ’’вере в человека”, о
’’гуманности” , ’’оптимизме” писателя, о ’’бесстрашном ана-
232
лизе действительности” и пр., отвлекают внимание от главного
в произведениях, замалчивают или ложно толкуют все
’’опасное” , и в конечном итоге позволяют включить писателей
в орбиту соцреализма, обескровив их формальные и тематические
находки, воспользоваться ими для безболезненного
подживления несколько засохших канонов. Чтобы
понять, как это делается, достаточно сравнить, например,
одну из лучших повестей В. Тендрякова ’’Тройка, семерка,
туз” с повестью В. Чивилихина ”Елки-моталки” , внешне
основанной на том же сюжете, но вполне достойную признанной
ей премии Ленинского комсомола. Когда вышел в
свет ’’Один день Ивана Денисовича”, главный тюремщик и
доносчик советской литературы В. Ермилов приветствовал
повесть как ’’мужественное и смелое разоблачение темных
сторон недавнего прошлого”26 — неудачная, как тут же
оказалось, попытка рекуперации. С той же целью в одно
время с повестью Солженицына вышли лагерные воспоминания
Шелеста, повесть Алдан-Семенова, которые должны
были ослабить впечатление от ’’Ивана Денисовича” , доказав
полную свободу слова в литературе, и дать свою версию
событий, более близкую официальной. Таких примеров
множество. В последнее время очень удачно прошла рекуперация
Распутина, Трифонова, Шукшина.
Процесс рекуперации по большей части контролируется,
отчасти идет своим ходом в центрифуге советского общества,
но никогда не останавливается.
Идет он, разумеется, и в НФ. Мы говорили о постепенном
поглощении новорожденной утопии соцреалистической
фантастикой. Набор идей из ’’Туманности Андромеды” ,
после устранения наиболее смелых, поступил в пользование
всех других советских утопистов. Теория Г. Альтова о
научно-фантастической идее как доминанте персонажа и
сюжета нацелена на рекуперацию ’’чистой” НФ. В проблемной
НФ роль рекуперационного насоса играют штампы молодой
прозы. Ту же роль в сатирической НФ выполняет почти
всеобщее увлечение стилем Ильфа и Петрова.
233
У Ильфа и Петрова был редчайший дар: они умели писать
очень смешно. В их романах ” 12 стульев” (1927) и ’’Золотой
теленок” (1931) техника комического достигает подлинного
мастерства. Наследники русской традиции литературного
юмора, начиная от Гоголя и кончая Козьмой Прутковым,
выросшие на плодоносной почве одесского фольклора,
Ильф и Петров очень чутко воспринимали современные
литературные моды, использовали опыт орнаментали-
стов с их повышенным интересом к метафорам, многому
учились у англо-американских классиков юмора — комической
характеризации у Диккенса, остроумию нонсенса у
Твена, сюжетным трюкам и диалогу у О. Генри. Этот эклектизм
под талантливым пером превратился в своеобразный,
очень характерный стиль, в котором сочетались чуть ли не
все известные комические приемы. По разносторонности
юмора с Ильфом и Петровым сравнить можно разве лишь
Булгакова (они, впрочем, довольно сильно повлияли друг
на друга). Но Ильф и Петров отличались от других знаменитых
сатириков 20-х гг. Булгаков, Платонов, Зощенко, Заболоцкий
были писателями с трагическим мироощущением,
из-под комической маски у них проглядывало отчаяние и
ужас, они прикрывали смехом анализ механизмов новой
системы, постановку нравственных, социальных, философских
вопросов. Блестящее мастерство Ильфа и Петрова —
гладкая поверхность, под которой почти сразу же нащупывается
дно. Недавние попытки раскрыть якобы сложную
символику их текстов, показать их антиконформистскую
сущность, — эти попытки очень мало убедительны26а. Наоборот,
Ильф и Петров как бы дали зарок писать только то,
что позволено. Им удалось сделать невозможное: создать
единственную в советской литературе талантливую и веселую
’’советскую сатиру”, едко высмеивающую ’’отрыжки
прошлого” и подшучивающую над недостатками настоящего,
с положительными героями и оптимистической моралью.
Ильф и Петров видели и понимали многое — так во всяком
случае можно судить по грустным отрывкам из ’’Записных
книжек” Ильфа, — но держали свое понимание при себе,
234
добросовестно выполняя социальный заказ. Только в одном
их отличала непримиримость, свойство истинных сатириков:
они ненавидели безостановочно развивающуюся унифор-
мизацию и стереотипизацию языка. Их лучшие страницы —
сатира на людей, живущих и мыслящих готовыми фразами.
Несмотря на идеологическую безобидность сатиры Ильфа
и Петрова, в 30-е гг. они вынуждены изменить стиль работы,
заняться почти исключительно журналистикой, и от чистки
их спасла, по-видимому, лишь преждевременная смерть
Ильфа. После войны их настигло-таки обвинение в том, что
они дали ’’искаженную картину жизни советского общества” ,
совсем не отразили ’’творческой, созидательной атмосферы
страны” , ’’принизили, оглупили рядовых советских людей”
27. Их несколько лет не печатали, но в самом начале
оттепели состоялось их триумфальное возвращение.
Популярность их книг не имела себе равных. Во-первых,
они вернули смех в советскую литературу. Во-вторых, читателям
казались смелыми нападки Ильфа и Петрова на бюрократов,
на потерявшие смысл лозунги, и за взрывами хохота
проходила незаметной их поверхностность. В-третьих, стиль
их, лишенный лексико-синтаксических усложнений (как у
Зощенко или Платонова) и семантической многоплановости
(как у Платонова или Булгакова), стиль достаточно классический,
и в то же время очень образный и выразительный,
был благодарным объектом для воспроизведения и имитации.
В итоге интеллигентская молодежь, расторможенная
оттепелью и, как всегда, ищущая ’’властителей мысли” ,
приняла книги Ильфа и Петрова чуть ли не как Священное
писание. Нет, пожалуй, ни одного произведения молодой
прозы, где не нашлось бы прямой цитаты из Ильфа и Петрова,
или острот в их духе. Их типы стали нарицательными,
словечки — крылатыми, сравнения и эпитеты — обиходными,
целые фразы - устойчивыми словосочетаниями и поговорками.
Они выдавили печать на образе мыслей нескольких
поколений, вошедших в жизнь после 1956 г. В конце концов,
по иронии судьбы, книги врагов стереотипного мышления
и языка стали общедоступным словарем готовых фраз.
235
Стиль Ильфа и Петрова, поднятых на щит как лучшие советские
сатирики, вписался в несколько расширенный канон
соцреализма, сам стал штампом, — а значит, и орудием
рекуперации.
Увлечение молодой прозой и Ильфом и Петровым сослужило,
на мой взгляд, неважную службу НФ. Оно, правда,
помогло писателям новой волны освободиться от пут
’’ближней НФ” , быстро найти адекватную форму для выражения
своих мыслей, но в то же время, чересчур облегчив
выбор, оно приостановило формальные поиски, исказило
их направление и довело до часто случающегося в советской
литературе расслоения повторяемой, ставшей традиционной
формы и нового содержания. Перед НФ обозначилась
растущая опасность рекуперации. Рассказы К. Булычева,
например, тематически приближаются к произведениям
’’малого реализма” , но преобладание комического в его
самом добродушном ильфо-петровском издании снимает
основную подспудную коллизию повестей В. Семина, В. Войновича,
Н. Баранской, Ю. Трифонова — несоответствие между
надеждами, стремлениями и действительностью. В очень
важных и интересных книгах братьев Стругацких слишком
назойливое остроумие героев снижает напряжение проводимого
эксперимента. Как правило, во всей локальной научно-
фантастической сатире2 ° юмористические штампы ослабляют
силу атаки: подражательность мешает проявиться
эффекту неожиданности, жизненно важному для настоящей
сатиры. Для тех, кто не желает оставаться в рекуперацион-
ном тупике, есть два выхода: либо сохранение основных
формальных черт при изменении или углублении тематики,
либо решительная ломка формы. В. Савченко избрал первый
путь, в его последних повестях анализ философских вопросов
оформлен знакомым стилем молодой прозы. По второму
пути пошел И. Варшавский, написавший цикл антиуто-
пических, совсем не смешных новелл, в том числе самый
мрачный рассказ в советской НФ — ’’Побег” (1968). Начиная
с середины 60-х гг. интенсивные формальные экспери-
236
менты ставят братья Стругацкие. Параллельно с усвоением
неизменно модного ’’стиля Ильфа и Петрова” сатира в НФ
открывает перед собой новые перспективы.
Почти одновременно появились в сборниках ’’Фантастика”
и ”НФ” рассказы дебютировавших в НФ писателей —
опытного автора детских и научно-популярных книг А. Шарова
и начинающего литератора В. Бахнова. В их произведениях,
обозначенных грифом ”НФ” , много общего. Независимо
друг от друга, они пробили в стене тупика брешь, которую
уже нельзя заделать.
’’Остров Пирроу” (1965) А. Шарова — это удивительная
история кратковременной диктатуры на острове, богатом
минеральными водами, излечивающими всякого рода камни:
камни в почках, камни за пазухой и пр. Одна из ’’Фантастических
пародий” (1966) В. Бахнова - ’’Единственный
в своем роде” — это хроника династии Титанов, которой
окончилась история на планете Зевс. Одним из первых мероприятий
президента острова Пирроу явился декрет, повелевающий
всем носить на одежде пуговицы и строго запрещающий
молнии. По ошибке в запретительном документе были
указаны не застежки-”молнии” , которые имел в виду Реформатор,
а молнии вообще. В связи с этим климат на острове
радикально изменился. Молнии были заменены особыми
фейерверками. Затем президент отменил ”и все другие
электрические явления” , а вскоре декретом объявил Землю
плоской. В результате аферы с препаратом, превращающим
все камни в драгоценные, на острове воцаряется беспорядок,
и в финале потерявший власть президент арестовывает
собственный памятник, обнаружив на нем отсутствие пуговиц.
Не менее красочными фигурами были члены династии
Титанов, власть которых длилась гораздо дольше. Был
среди них Титан Четвертый, который, желая подчеркнуть,
что он гениальней всех гениев, велел называть себя Гениа-
лиссимусом. Был Титан Шестой Демократичный, ’’увековечивший
себя тем, что ввел в парламент двухпартийную
систему. Одна партия горячо любила короля, а вторая,
237
наоборот, преданно обожала” . Великую реформу пришлось
оставить, так как между партиями шла слишком ожесточенная
борьба. Титан Десятый прекратил прогресс, но Титан
Одиннадцатый Прогрессивный обожал прогресс, и при нем
необычайно расцвела кибернетика. Высочайшего уровня
кибернетика достигла при Титане Девятнадцатом Нервном,
но он, однако, ’’разрешал себе уничтожать те счетные устройства,
которые объективно отражали неугодную самодуру
реальность” . Спасаясь от гибели, машины эволюционировали,
научились угождать и лгать, и цивилизация планеты закончилась,
когда разразился ’’единственный в истории
известных нам планет тишайший, верноподданнейший бунт
угодников и подхалимов” , заключавшийся в отказе говорить
правду и оказавшийся самым страшным из бунтов.
Повесть Бахнова ’’Как погасло солнце” (1968) выводит
на сцену еще одного диктатора — Величайшего из великих
Дино Динами, который очень любил, когда его называли
’’равным среди равных” . Правил он в одной из самых больших
стран на планете Аномалии, в стране Огогондия. Хроникер
— повесть является правдивым и объективным изложением
истории ’’Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая
существовала 13 лет, 5 месяцев и 7 дней” — с любовью
описывает облик диктатора и его вкусы. Попечитель любит
монументальные формы в искусстве; он не занимается философией,
но считает ее необходимой для процветания
страны и создает Комитет по углублению и толкованию
своих высказываний, члены которого ’’даже в таких кратких
высказываниях Дино как ”М-да” или ”Ну, ну” легко
находили стройную философскую концепцию” . Диктатор
подменен своей кибернетической копией, которая признается,
что она — не человек. ’’Дежурный философ” объясняя
высочайшее высказывание, проявляет диалектический подход
к проблеме: ’’человечество развивается, и не-человек —
это следующая, более высокая ступень в развитии человека.
Таким образом, прогрессируя и превращаясь из человека
в не-человека, человечество тем самым доказывает
ту истину, что все течет и изменяется” . ’’Дежурный” же
238
оптимист подхватывает: ’’Человек человеку — враг? Хорошо.
А не-человек не-человеку кто? Не-враг! Вот! Разве это
не говорит о замечательных изменениях в человеческих
отношениях?”29 Внутренняя политика Дино так же мудра
и проста, как его высказывания: ’’Для каждого запрета Динами
находил объективные причины, а любую отмену запретов
объяснял исключительно личным стремлением сделать
приятное своему народу. И чем хуже огогондцы жили, тем
больше они любили Дино”30. В стране Огогондии ученых, не
сумевших выполнить приказ диктатора, отправляют на
’’перевоспитание”, а ученых, сумевших выполнить приказ,
тоже направляют на перевоспитание (чтобы не болтали),
в стране Огогондии иностранные туристы могут спокойно
передвигаться по улицам столицы, но ”из соображений государственной
безопасности” делают это в специальных
автобусах без окон.
Собранные А. Шаровым ’’Редкие рукописи” (1966) описывают
совсем уже фантастические страны, но и в них тоже
немало знакомого. Герой ’’Иллюзонии, или королевства
кочек”, потерпевший крушение моряк, попадает в болотистый
край, обведенный колючей проволокой. ’’Тут есть
мои собратья!” — сразу же соображает старый моряк. -
’’Плотину может возвести и бобр, тоннель пророет и крот,
многие птицы и звери сооружают строения из веток и глины,
шелковую ткань ткет не хуже ткача насекомое, но только
одни разумные существа создали с божьего благословения
колючую проволоку, вместе со всем к ней причитающимся”
31. И действительно, в стране живут разумные существа
— кочки, которые занимаются восхвалением их королевы
и королевства, устраивают конкурсы славословия (не-
дохвалившие немедленно казнятся), пьют лужную жидкость,
глотают лягушек и пребывают в вечном блаженстве.
Несколько менее благодатна страна, которую навещает
путешествующий по времени аудитор 10-го класса Карл
Фридрих Питониус из ’’Музея восковых фигур” , новеллы,
во многом напоминающей ранние ’’серапионовские” фантасмагории
В. Каверина. Питониус подвергается ’’прокру-
239
стации” в Департаменте Соразмерностей: аудиторам ’’надлежит
иметь рост согласно присвоенному классу” , поэтому
их укорачивают или удлиняют хирургическим путем во избежание
нарушения социального порядка. С Департаментом
Соразмерностей тесно сотрудничает Управление Изящества и
Прогресса — департамент следственно-аналитический, проще
говоря, пыточная камера, где задается единственный вопрос:
’’Признавайся, кто с кем связан?” Побьюав в разных
департаментах, пережив всякие приключения, Питониус
много размышляет, и некоторые его раздумья не лишены
интереса. Вот, например, сравнительный анализ достоинств
личного дела и прочих видов искусства: в живописи нет глубины,
скульптура не показывает, что кроется в глубине —
бюсты ’’великого аудитора 1-го класса и какого-нибудь
жалкого книжного червя” состоят из однообразного мрамора,
— музыка эфемерна, к ней невозможно ’’приложить
печать” , лирика при некоторых условиях ’’удовлетворительно
передает признание ошибок, но охватывает лишь краткий
миг”*2. Личное дело - единственное подлинное искусство, и
ради торжества его Питониус погибает, включая себя в
собственное досье с помощью скоросшивателя.
В рассказах Шарова и Бахнова нет, разумеется, никакой
НФ, никакой рационализации. Их сказки, хроники, феерии
можно определить одним словом: гротеск. Но это не юмористический,
в лучшем случае, афористический гротеск
советских подражателей С. Лема33. В небылицах Бахнова и
Шарова слишком много реалий, реалии слишком характерны,
и отношение к ним слишком однозначно для того,
чтобы вызывать только лишь веселый смех.
В лучшем ’’научно-фантастическом” произведении А. Шарова,
в повести ’’После перезаписи” (1966) молодой ученый
изобретает аппарат для записи мыслей и чувств человека.
Пока идут поиски, первые эксперименты, испытания — в
первой части повести — рассказ ничем не отличается от уже
известной нам юмористики. Но вот организуется и начинает
свою деятельность Лаборатория перезаписи, — и тон повествования
меняется. Руководство лаборатории стремится
240
поставить перезапись на широкую ногу. Поначалу назначение
ее узко утилитарно: создаются электронные дубли видных
ученых — называемые для простоты их фамилиями с
прибавлением частицы ”бис” : Клягин-бис, Мышеедов-бис
и т. д., — которые облегчают труд ученых, выполняя их
нетворческие обязанности, как чтение лекций или ведение
занятий со студентами. Но руководству лаборатории этого
мало. Однажды умирает профессор, свободно оперировавший
в своих выводах 75442 цитатами (’’прекрасный
механизм из 75442 колесиков, винтиков и пружин, который
мог бы и дальше двигать дело просвещения”). Руководство
твердо решает не допустить в будущем подобных потерь.
Директор бросает лозунг: ’’Перезапись должна стать и
станет если не обязательной, то добровольно обязательной”
. Совершенно ясно, что могучий административный
аппарат может справиться и не с такими задачами: вскоре
все сотрудники имеют своих ’’бисов” . Мало-помалу растет
значение ’’бисов” . Вот уже готова директива: ’’Надо отбирать
кадры, не обращая внимания на то, бис ли это или так
называемый ’’настоящий научный работник” . Становится
очевидно, что у бисов есть ряд преимуществ по сравнению с
’’настоящими” людьми. Так, например, бис профессора
Дрыгайлова на собрании месткома всенародно обличает
профессора за увеличение в юношеские годы ’’пресловутыми”
Соловьевым и Бердяевым. Профессор морально опускается,
отходит от трудовой жизни, и бис занимает его
место. Бисы защищают диссертации, избираются в Ученый
совет, дают направление изысканиям. Именно тогда внимание
на себя обращает ’’молодой, стремительно растущий
научный работник” Яну аров, написавший диссертацию
на тему ’’Мне так кажется — как судебное доказательство” ,
основной тезис которой заключается в том, что ’’поскольку
сознание отражает объективный мир, постольку, если
мне кажется, что ты преступник, ты преступник и объективно”
.
В конце концов, после ряда инцидентов лаборатория закрывается.
Но у людей было время поглядеть на самих себя
241
со стороны. Людям не нравится то, что они видят. Герой
повести, преуспевающий и самодовольный профессор эстетики
после перезаписи открывает себя в своем бисе, и
ужасается. Он начинает думать о себе, пытается вспомнить
хоть какое-нибудь доброе дело, совершенное им за всю его
хорошо наполненную жизнь. Но нет, он совершал только низости
и предательства. Он отрекся от своей жены, когда
”по чрезвычайным обстоятельствам” освободилась кафедра
эстетики, и в том же году и по тем же ’’чрезвычайным
обстоятельствам” жена лишилась одновременно отца и
матери. Взвесив свои дела, профессор эстетики — знаменательную
профессию подобрал для него автор — разрушает
своего биса и кончает с собой. Это концовка повести. Но
грешен не только профессор эстетики. В гротескном ключе
написанная история бисов то и дело переплетается с историей
человеческих подлостей ”в чрезвычайных обстоятельствах”
.
”Бис” в просторечии” значит то же, что ”бес” , и автор
напоминает о двойном смысле этого слова. В гротескном
обществе, описанном в повести, бесы оттеснили людей и
заняли их места. И людям осталось либо покориться, либо
восстать против бесов — против самих себя.
Нечто подобное столетием раньше говорил в своих ’’Бесах”
великий писатель. А. Шаров, конечно, не только не
великий, но и не особо значительный писатель. Но он отважился
сказать то, о чем подчас боятся и думать гораздо более
крупные писатели.
Любопытно, что для этого он избрал форму гротеска.
Гротеск в литературе выступает двояко. В первом случае
гротескный персонаж или гротескная ситуация появляются
на реалистическом — или претендующем быть таковым —
фоне (как в рассказе Колупаева); они читаются тогда как
явление исключительное, воздействие которого ограничивается
большим или меньшим смещением пропорций внутри
произведения. Во втором случае (случае Шарова или
Бахнова) писатель создает гротескный, абсурдный мир, и
242
открьюает в нем ряд свойств, присущих окружающей его
действительности. Эти реальные черты воспринимаются уже
не как исключение из абсурда — ибо абсурд основан на разрушении
правил, и правило в нем составляют исключения,
— а как интегральная его часть, и в то же время — как точки
соприкосновения двух миров: реальный мир уподобляется
литературному миру гротеска, если же черты реальности
достаточно характерны, и отождествляется с ним. Действительность
сама становится гротескной. И когда отдельные
реальные свойства, попав в окружение гротеска, подвергаются
осуждению, тогда — согласно закону обобщения и
отождествления — осуждается целиком реальность, которая
служит системой отсчета.
Таков сатирический гротеск. Непосредственный источник
произведений Шарова и Бахнова — гротескные сказки и
история города Глупова величайшего и злейшего русского
сатирика, Салтыкова-Щедрина. Такой гротеск направлен не
против частностей, а против целого. Это одна из самых
действенных форм тотальной сатиры.
Философские потуги диктатора, туристские автобусы без
окон, колючая проволока, ’’чрезвычайные обстоятельства” ,
молодой сотрудник Януаров (за которым угадывается зловещая
тень Андрея Януарьевича Вышинского, сделавшего
законом свою теорию о показаниях подследственного как
решающем судебном доказательстве), многие другие подробности
не оставляют никакого сомнения в том, куда
именно, в какое общество направлено острие сатиры Шарова
и Бахнова.
Такой сатиры не знала советская печатающаяся литература
со времени фантастических повестей Булгакова и рассказов
Платонова.
И как бы для доказательства, что сатирический гротеск
не случайно прикрывается грифом ”НФ” , путь к нему проходят
в трех своих книгах самые плодовитые и самые
влиятельные советские фантасты, братья Стругацкие.
’’Понедельник начинается в субботу” (1964—65) определяется
авторами как ’’сказка для младших научных сотруд-
243
ников” . Это и есть сказка, рассказывающая о похождениях
персонала Научно-Исследовательского Института Чародейства
и Волшебства (НИИЧАВО), расположенного в древнем
городке на древнем, сказочном Севере России. Работают в
нем всесильные ученые-маги, и чудесами и чудесными существами
из всех сказок мира полна эта веселая книга.
Среди симпатичных магов, простодушных леших, глуповатых
джиннов маячит, однако, эпизодический персонаж
профессора Выбегаллы, единственного в Институте шарлатана
от науки. Говорит он не иначе, как общими местами,
страдает косноязычием и манией засорять речь бессмысленной
болтовней якобы по-французски. Профессор Выбегалло
любит повторять: ’’Все мы знаем, что материальное идет
впереди, а духовное идет позади” , а также: ’’Только разнообразие
матпотребностей может обеспечить разнообразие
духпотребностей”34. Знакомая нам фигура, и знакомы ее
рассуждения. Ново в профессоре Выбегалле, пожалуй, одно:
насмешка над ним относится не только к стереотипам
языка и мысли, опошляющим положительное содержание
(как у Ильфа и Петрова), но и к тому, что стоит за самими
лозунгами. Речи и действия Выбегаллы, работающего над
созданием модели идеального Потребителя, долженствующего
быть идеальным Человеком будущего, - абсурдны и
гиперболизованы, а абсурд и гиперболизация — верные
признаки гротеска.
Несколько лет спустя, в 1968 г., Стругацкие печатают
продолжение ’’Понедельника”, вторую историю о приключениях
в НИИЧАВО, ’’Сказку о Тройке” .
На 76-ом этаже Института, отрезанном от нижних, цивилизованных
этажей здания, расположен древний город Тьму-
скорпионь, где со времен Петра Великого имеется собрание
чудес, сначала ’’Кунштов камера” , затем ’’Императорский
Музеум” , ’’Заповедник Магических, Спиритических и Оккультных
Феноменов”, наконец, ’’Государственная Колония
Необъясненных Явлений при НИИЧАВО Академии Наук” .
Случайно — по прихоти заколдованного лифта— заброшенная
на 76-й этаж инспекционная комиссия местного гор-
244
комхоза захватывает власть в Тьмускорпиони, и формирует
Тройку по Рационализации и Утилизации Необъясненных
Явлений. О ней и идет речь в ’’Сказке о Тройке” .
Чародейская коза, встретившая по ходу действия членов
Тройки, дает им краткие, но исчерпывающие характеристики.
Хлебовводов Рудольф Архипович. ’’Профессии как таковой
не имеет. В настоящее время — руководитель-общественник”
. За границей был в 42 странах, и ’’везде хвастался
и хапал” . ’’Отличительная черта характера — высокая социальная
живучесть и приспособляемость, основанные на
принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть
ортодоксальнее ортодоксов” .
Фарфуркис, по имени и отчеству не называем. ”По профессии
— лектор” . ’’Отличительная черта характера — осторожность
и предупредительность, иногда сопряженные с
риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда
рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии” .
К сожалению, ученая коза не успевает охарактеризовать
председателя Тройки, Лавра Федотовича Вунюкова, таинственного
и могучего мужчину, курящего ’’Герцеговину
Флор” , любимые сигареты Сталина. Но и без помощи козы
читателю видно, что Лавр Федотович — идеальное олицетворение
начальства. Он изъясняется междометиями и нечленораздельными
звуками и оставляет своим подчиненным
трудиться над разработкой всех практических вопросов.
Но последнее слово принадлежит ему. Он властен одним
движением бровей возвысить или низвергнуть в бездну
опалы. Он никогда не рассуждает, ему достаточно высказывать
свои пожелания. О себе он говорит ’’народ” или ’’общественность”
: ’’народ любит бифштексы” , ’’народу душно
без открытого воздуха” (замечание вызвано похмельем),
’’общественности неясно” (когда встречаются административные
затруднения). Строгая критика, письменные и
устные замечания, выговоры и предупреждения — главное
оружие Лавра Федотовича, с высоты видящего все, и следящего
за тем, чтобы ’’никто не был забыт, и ничто не было
забыто”35.
245
И пока общественник Хлебовводов и теоретик Фар-
фуркис отчаянно борются за благосклонность начальства,
интригуя друг против друга и периодически смешивая с
грязью администратора — коменданта Колонии, Лавр Федотович
вершит судьбы мира — решение, к которому приложена
захваченная им Большая Круглая Печать, не может
изменить никакая сила.
Перед читателем развертывается панорама действий Тройки.
В повести, в сущности, нет сюжета, вернее, он равен про-
токолярному перечню очередных, заслушанных Тройкой
дел по ’’рационализации и утилизации необъясненных явлений”
. Перечислим самые важные из этих дел и явлений.
Птеродактиль Кузьма — Тройка упорно принимает его за
простого крокодила с крыльями, необъясненности не обнаруживает
и отправляет в городской зоопарк. Населенное
призраками болото - возле него на Тройку нападают комары,
и мстительная Тройка с помощью Большой Круглой
Печати попросту стирает его с лица земли. Заколдованный
холм, до которого ”не доехать, не дойти” — там живет
мужик Феофил с козой, избежавший всеобщего обложения
налогом и даже, по-видимому, коллективизации; дело о
нем передается в прокуратуру Тьмускорпионского района.
Говорящий Клоп, парламентер от имени достигшей высшего
уровня развития расы клопов, решивших завязать дружественные
сношения с людьми; от уничтожения на месте
парламентера спасает отсрочка заседания по причине плохого
самочувствия ’’народа” . Наконец, пришелец Константин
с планеты Константины звезды Антарес, потерпевший аварию
и обратившийся к властям за материальной помощью.
У него, однако, нет достоверных документов. Ему не помогает
ни внешний вид — четыре руки, четыре глаза и рот
крючком, — ни вид звездолета, ’’достаточно необычный для
земной техники” , ни телепатические способности. Общественности
не нужны ’’необъясненные явления, которые
могли бы представить, но по тем или иным причинам не
представляют документацию, удостоверяющую их право
на необъясненность” . Поэтому рассмотрение дела перено-
246
сится, ”с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову
К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть
вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами”
36. В материальной помощи пришельцу отказывается,
ибо на таковую имеют право лишь идентифицированные
Тройкой явления. Так заканчивается встреча двух развитых
планетных цивилизаций.
Все решения, принятые Тройкой, бессмысленны. Абсолютно
бессмысленны все ее действия, лишены какого-
либо смысла чугунные высказывания председателя, рассуждения
Фарфуркиса — смехотворная казуистика, — крики
Хлебовводова, несущего сплошной бред. Безграмотны и
глупы до невозможности речи профессора Выбегаллы,
примазавшегося к Тройке в качестве научного консультанта.
Высмеивая своих героев, Стругацкие вводят в действие
целую гамму языковых средств: алогические бюрократизмы
Вунюкова, пародийно переосмысленные лозунги в устах
Фарфуркиса, неграмматическую невнятицу Выбегаллы, который
произносит ’’махизьм” и ’’эмпириокритизьм” (до
странности напоминая акцент мужиковствующего Хрущева)
, тупые повторы Хлебовводова, хамство которого как на
ладони проступает в замечательном и постоянном смешении
грамматических лиц в глагольных обращениях (’’Нет
уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте”) . Впервые в
сатирической НФ сама языковая ткань произведения — не
только лексика, но и синтаксис, и фонетика — становится
полноправным и эффективным средством сатирического
воздействия.
Всеми способами писатели подчеркивают, что в членах
Тройки нет человеческих черт. Попытки очеловечить их
- убеждением, критикой, наконец, мощными приборами,
вроде необыкновенного ’’реморализатора” , оканчиваются
неудачей. Ни наука, ни волшебство не в силах пробудить
в них разум или совесть.
’’Сказка о Тройке” пропитана ненавистью. В ней много
смешного, но нет и следа снисхождения. Она рисует власть
247
в обществе бюрократическом и идеократическом (Фарфур-
кис и Выбегалло часто ссылаются на ’’диалектику”) и называет
ее отличительные свойства: глупость, тупость, невежество,
грубость, безмерный консерватизм. Эта власть узурпирует
право говорить и действовать от имени народа, и
злоупотребляет им для удовлетворения собственных, неограниченных
нужд. Она отравляет людей — молодые ученые,
направленные на 76-й этаж для разведки, едва не погибают
под смертоносным влиянием Тройки, погрязши в
’’трясине духовной энтропии” , — разлагает общество, уничтожает
науку. Профессор Выбегалло, шарлатан и демагог,
одинокая фигура среди положительных магов в ’’Понедельник
начинается в субботу” , здесь заручается мощной поддержкой
начальства и от него черпает действительную силу.
Власти не нужна наука, ее потребности вполне удовлетворяет
услужливая псевдонаука: власть везде ищет слуг. И
слуги эти не менее отвратительны, чем господа.
’’Сказка о Тройке” была напечатана в периферийном
журнале ’’Ангара” в 1968 г. Немедленно номера журнала с
повестью были изъяты, а редакция наказана. Та же участь
постигла и редакцию журнала ’’Байкал” , в том же 1968 г.,
в №№ 1-2, напечатавшем еще одну повесть Стругацких -
’’Улитку на склоне” .
Переиздавая журнальную версию повести, эмигрантское
издательство ’’Посев” допустило оплошность — приняло
ее за целое. В действительности ’’Улитка на склоне” состоит
из двух частей, первая из которых появилась в свет еще в
1966 г. в сборнике ’’Эллинский секрет” .
В предисловии к 1-й части сами Стругацкие пишут, что
’’Улитка на склоне” — это две повести в одной, что в ней
сочетаются два самостоятельных сюжета.
Сюжеты объединены фоном и местом действия — странным
и страшным Лесом. Лес занимает огромные пространства,
это целый мир, где законы природы непохожи на наши:
деревья в нем прыгают, болота высыхают за одну ночь, бесформенные
куски протоплазмы ведут себя как звери. Как
248
говорят Стругацкие в своем предисловии, лес — это ’’символ
непознанного и чуждого, того, что скрыто пока от человечества
из-за неполноты естественнонаучных, философских
и социологических знаний”37. Итак, лес чужд и таинствен.
Его изучением занимается Управление по делам леса.
Лес и Управление — полюсы магнитного поля, силами
которого развивается действие обеих частей повести. Об
аллегорическом характере этой исходной ситуации мы предупреждены
заранее.
В 1-й части один из работников Управления, Кандид, разбивается
во время разведывательного полета над лесом, и
оказьюается в глухой деревушке, где живут ’’лесовики” ,
забитые, темные крестьяне, до смерти напуганные лесом и
тем, что в нем происходит.
Герой 2-й части, лингвист Перец, мечтающий увидеть лес,
нанимается внештатным сотрудником в Управление.
Сюжеты двух частей самостоятельны и завершены каждый
в отдельности, но их схема одинакова: это один и тот
же сюжет, дважды повторенный в разной обстановке. Схема
навеяна романами Кафки или же подсознательно из них
заимствована. Кандид пытается вернуться из лесной деревни
в Город, а оттуда — к себе на работу, в Управление. Перец,
после долгих стараний так и не попавший в лес, хочет вырваться
из Управления в цивилизованную часть страны — на
Материк. Оба сюжета составлены из бесплодных попыток
обоих героев добиться цели (впрочем, и герой один и тот
же: он появляется под разными именами и участвует в разных
происшествиях, но сохраняет свой характер и образ
мыслей — многие мысли Кандида повторены затем Передом)
. В финале оба героя остаются там, где были вначале,
Кандид в деревне, Перец в Управлении.
Разнятся части своей тональностью: они взаимно дополняются.
Кандид и другие персонажи 1-й части живут, как в
страшном сне. Перед ними медленно проходят кошмарные
видения — Лес, населяющие его существа, непонятные катаклизмы.
’’Лесовики” говорят на странном языке, примитивном
жаргоне, нашпигованном обрывками давно забытых
249
лозунгов и цитат. Реальность леса напоминает мозаику, где
недостает множества кусков. Так же непонятны, как и сам
лес, ’’амазонки” , раса бесполых женщин, которые играют
роль бога, властвуя над всей лесной жизнью и планомерно
уничтожая людей-лесовиков. Мир 1-й части — это мир сюрреалистических,
иногда почти патологических фантазмов.
Вторая часть ’’Улитки на склоне” — не что иное, как сатирический
гротеск.
Управление изучает лес, но на всей огромной территории
учреждения нет места, с которого лес был бы виден — его
всегда что-нибудь заслоняет. А на единственном таком месте,
несколько в стороне от главных зданий, на обрыве установлена
латрина для сотрудников.
Не видя леса, работают в Управлении сотни людей. В
учреждении имеются: группа Искоренения леса, группа
Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа
Помощи местному населению, группа Инженерного проникновения
в лес, группа Научной охраны леса. Все группы
активно работают, несмотря на то, что цели их явно противоречивы.
Работа в Управлении особого рода. Когда Переца
просят сделать доклад о лесе, а он отвечает, что никогда там
не был, ему говорят: ’’Дело ведь не в том, был ты в лесу или
не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики
и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние,
напяленное обывателями и утилитаристами”38. Знание не
нужно Управлению, оно и не стремится к нему. По словам
Переца, понимание всегда подменялось суррогатами — верой,
неверием, равнодушием, пренебрежением. Работать
легче и лучше безо всякого понимания. И наоборот, как
объясняют Перецу, ’’вникание порождает сомнение, сомнение
порождает топтание на месте, а топтание на месте — это
гибель всей административной деятельности, а следовательно,
твоя, моя и вообще...”39
Основа всей жизни Управления, его главное назначение
— административная деятельность. Директор лично согласовывает
работу отдельных сотрудников и целых групп. У
каждого сотрудника есть свой телефон, и директор регу-
250
лярно произносит по телефону речи, адресованные всем
вместе и каждому в отдельности. Речи полны четких указаний
и радужных прогнозов для тех, кто находится на своем
месте, но совершенно непонятны посторонним лицам (Перецу,
подслушивающему по чужому телефону). Снова, как в
’’Сказке о Тройке” действия начальства сводятся к абсурду.
Директивами о привнесении порядка, .Директивами о
неубывании, Приказами о небеременности, Предписаниями
о чрезмерной возмутимости Управление надеется изучить и
подчинить себе лес, — надежда, быть может, не лишенная
оснований. Единственная группа, точно знающая, что ей делать,
— это группа Искоренения. Ее программу кратко излагает
шпион, доносчик и правая рука директора Домарощи-
нер: за два месяца превратить весь лес в бетонированную
площадку, сухую и ровную.
Пока, однако, исторического приказа нет. Огромное
количество техники, машины настолько совершенные, что
на них строго запрещено смотреть, посылаются в лес, вязнут
в болотах, ржавеют на обочинах дорог. Управление продолжает
работу, которая не приносит никаких результатов,
кроме неисчерпаемых возможностей продолжения
работы.
Короче говоря, Управление занято очень важным делом:
оно осуществляет прогресс.
Дело не только важное, но и страшное.
Перец, остающийся ’’все время в стороне” , пытающийся
понять и лес и Управление, мечтающий вернуться к нормальной
жизни, мечется по залам, коридорам, машинным паркам
и приемным, напоминающим не то сумрачные лабиринты
присутственных мест в книгах Кафки, не то сумасшедший
мир учреждения из ’’Дьяволиады” Булгакова, не то модернистские
декорации к пьесам Сухово-Кобылина. Все
встречи, все происшествия в Управлении гротескны и неожиданны.
Но неожиданнее всего концовка повести. Перец,
все время искавший директора, чтобы испросить у него
разрешение на выезд (никто никогда директора не видел,
и существует он в легендах, телефонных речах и директи-
251
вах), внезапно, в один прекрасный день, сам оказывается
директором.
В первую минуту он удивлен, а затем начинает входить в
новое положение. Он размышляет, что ему нужно делать —
ведь надо спасать лес от латрин, от искоренения, от превращения
в парк. Надо изменить структуру, иерархию, людей:
’’Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу
всех и скажу: ругайте!” Но тут же приходит сомнение:
”Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением,
поскольку так приказано, будут ругать за плохое
снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника
будут ругать с особенной страстью: улицы-де который год не
метены, шофера Тузика ругать будут за систематическое
непосещение бани, и в перерывах будут бегать в латрину
над обрывом...” Менять структуру поздно — для того следовало
бы изменить людей. И мысли Переца постепенно
переходят на новое направление. ”В общем, власть имеет
свои преимущества, — подумал он. — Управление я, конечно,
распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо
сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть,
направить на настоящее дело”40. Однако, деятельность
Управления имеет свой закон: ни дня без Директивы. Перецу
необходимо дать директиву, и, отказываясь подписать
бессмысленный приказ предыдущего директора, он, в конце
концов, придумывает директиву еще более бессмысленную.
Ловушка захлопывается. Перец становится настоящим директором.
Выхода из прогресса нет.
В отличие от ’’Сказки о Тройке” , в ’’Улитке” нет так уж
много комического, несмотря на все остроумие второй
части, на бурлескные сцены, на комические типы. Первая
часть, с ее обилием кошмаров и ужасов, производящих
очень тяжкое впечатление, заканчивается как будто светлым
акцентом: Кандид бросает попытки вернуться в Город
и остается в деревне с тем, чтобы бороться против ’’амазонок”
. Но вторая часть, внешне менее мрачная, показывает
беспочвенность надежд. Понимающий, пожалуй, больше, чем
252
Кандид, скептический, свободолюбивый Перец превращается
в начальство, прямое назначение которого — душить свободу,
искоренять лес, символизирующий уже не столько
неизвестное и чуждое, сколько саму жизнь.
Мир ’’Улитки” многомерен и многозначен, в нем сопряжены
разные точки зрения, разные стили, гротеск сочетается
с антиутопией, пародия с проецированием фантазмов подсознания,
языковые изыскания с философскими рассуждениями.
Контуры этого мира расплываются в химерическом
видении, где стерты барьеры между описанием объекта и
ощущениями субъекта, где всесущая фантастика почти не
пользуется рационализацией (совсем исчезающей в гротескной
второй части), где реалистические подробности
вырастают до размера символов. Бесполые властительницы
леса, деревни, в которых расстаются навсегда мужчины и
женщины, концентрационные лагеря, окружающие Управление
(дороги в лес строятся заключенными), истребители,
проносящиеся над головой, визы, анкеты и доносы, каф-
кианская паутина бюрократии — реальность представлена в
книге собранием предметов, масок, бумаг, не имеющих
смысла и жизни. Живет в повести лес. Живут странные говорящие
машины для преображения леса, машины-меланхолички,
устраивающие побеги из машинного парка. Живут
не очень цивилизованной, но все же настоящей жизнью лесовики.
Но мертвые био-роботы амазонок (’’мертвяки”)
убивают лесовиков. Люди дистанционно взрывают машины-
беглянки (чтобы не попали в посторонние руки), создают
новые, заточают их в такое же рабство и, с их помощью,
надеются превратить лес в бетонную площадку.
Самый страшный кошмар ’’Улитки” — наступление
мертвечины, атака мертвых предметов и мертвых кукол
на все живое.
Только подсознание, самая глубокая глубина в человеке,
его инстинкты и ощущения еще противятся, все остальное
сдалось. ’’Никакой свободы нет, заперты перед тобой двери
или открыты /.../ все глупость и хаос, и есть только одно
одиночество...”41
253
’’Улитка на склоне” — книга сатирическая, критикующая
многие основные положения господствующей идеологии.
И вместе с тем, это книга пессимистическая, полная разочарования,
чувства одиночества и страха.
Советские исследователи избегают говорить об ’’Улитке
на склоне” и ’’Сказке о Тройке” . Упоминают же о них лишь
в качестве примера ошибочной, порочной литературы. Признавая
’’стилистическое и психологическое совершенство”
’’Улитки” , — казалось бы, чего больше можно ждать от произведения
литературы? — А. Бритиков бросает Стругацким
тяжкое обвинение: в нарисованных ими картинах ’’можно
усмотреть и фашизм, и маоистскую ’’культурную революцию”
, и пожирающий деревню город, и что угодно — и в
то же время ничего /.../. Фантастика превратилась в самоценный
прием абстрактнейшего морализаторства”42. Как всегда,
ортодоксальная критика безошибочно улавливает скрытую
суть книги, и как всегда, ее терминология имеет обратный
смысл. Критика такая восторгается банальнейшими,
известными тысячи лет общими местами о радужном будущем
— и при этом всегда подчеркивает ’’конкретность
научного предвидения” ; говоря о стереотипных, не изменившихся
со времен революционной утопии, основанных
на газетной пропаганде ’’сатирических” нападках на капиталистические
страны, эта критика всегда похвалит ’’хорошее
знание Запада” и ’’достоверность деталей” ; но когда речь
в книгах заходит о насущной, всем известной и всеми ощущаемой
действительности, ортодоксальная критика немедленно
пускает в ход ярлыки ’’абстрактности” и ’’субъективности”
. Если же читать между строк, все становится на
место. Бритиков очень боится, как бы читатель не усмотрел
в ’’Улитке на склоне” кроме намеков на фашизм, маоизм
и пр., прямых указаний на ’’что угодно” , т. е. на окружающую
действительность, точнее, на действительность советскую.
И страх этот вполне обоснован. Стругацкие на самом
деле выступают в роли морализаторов, и на самом деле
строят мир литературной абстракции, но говорят они ”о чем
254
угодно” , только не о том, о чем следовало бы говорить с
точки зрения Бритикова и руководителей советской литературы.
’’Улитка на склоне” — недопустимая книга, и ее ’’стилистическое
и психологическое совершенство” ухудшает положение.
С плохими книгами легче бороться, повесть же
Стругацких — ее две части, — вне сомнения, лучшее произведение
новой советской НФ.
И в то же время, это — одно из интереснейших произведений
советской литературы последнего десятилетия.
’’Улитка на склоне” мне кажется точкой, к которой сходятся
линии силового поля новой фантастики — точкой,
расположенной, конечно, где-то далеко за пределами научно-
фантастического жанра, — своего рода суммой тех поисков,
которые велись в 60-е гг. писателями-фантастами.
В предыдущих главах я пытался выделить признаки новой
НФ, точнее — определить происшедшие в ней структурные
сдвиги по отношению к канонической структуре социалистического
реализма. Так, мы говорили о замене производственного
континуума психологическим и рефлексий-
ным временем/пространством; об оживлении времени и
предметов, получивших самостоятельное бытие, подчас
вытесняющих на задний план людей, которые теряют свой
некогда абсолютный контроль над окружающим их миром;
об устранении традиционной божественной власти автора
и его точки зрения в произведении; об отказе от единственности
и неизбежности альтернативы оптимизм-пессимизм
при построении рассказа; о заострении динамики сюжета,
связанного с умножением точек зрения в повествовании;
о появлении драматических и даже трагических коллизий;
о постановке реальной (философской, социальной, политической,
этической) проблемы в качестве доминанты сюжета.
Мы говорили о поисках нового литературного героя —
процессе, неизмеримо важном в контексте советской литературы.
Я упоминал о постепенном преобладании в НФ ”ли-
255
тературы предостережения” , т. е. антиутопической формулы
создания новых моделей реальности.
Наконец, было сказано об обращении к юмору, как важному
средству литературного воздействия, о переходе юмора
в сатиру, пользующуюся приемами остранения, абсурда,
гротеска.
Даже в отдельности значение каждого из этих ’’нововведений”
велико — они направлены против омертвевшего канона,
сами по себе являются проявлениями жизни в литературе,
намечают выход из догмы соцреалистического искусства.
Я приводил многие примеры произведений с обновленной
структурой, произведений, сопротивляющихся догме.
В ’’Улитке на склоне” мы находим уже не обновленную
структуру, а структуру новую, не просто непохожую, а прямо
противопоставленную структуре соцреализма, прямо
отбрасывающую реалистическую конвенцию письма как
таковую (отсюда и пренебрежение рационализацией научно-
фантастических событий), резко отрицательную по своей
интенциональности (сатира и антиутопия вместо жизнеутверждающих
картин мира), абсолютно раскованную в
соединении разнородных элементов (по этому смешению
стилей, языка, приемов с преобладанием гротеска и фантасмагории
можно определить жанр ’’Улитки” как менип-
пею).
Движение к новой структуре в советской НФ никак нельзя
назвать прямолинейным, поступательным, хронологическим.
Так, впрочем, никогда и не бывает. Многие эксперименты
останавливаются на полпути, большинство попадает
в рекуперационный мешок, часть уходит куда-то в сторону.
Тем не менее, на мой взгляд неоспорим и сам факт движения,
и общее его направление: к новой манере письма,
наиболее полно осуществленной А. и Б. Стругацкими в
’’Улитке на склоне” .
256
Глава 8
ВАРИАНТЫ МИРА: БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ
Одна из лучших повестей братьев Стругацких называется
’’Второе нашествие марсиан” (1967). Ее подзаголовок
гласит: ’’Записки здравомыслящего” . Это дневник отставного
провинциального учителя астрономии. Писатели дали
себе жесткие формальные условия - конвенция дневниковых
записей, образ рассказчика, точка зрения, - которые
сильно умерили обычные несдержанности их стиля. В результате
перед нами сжатый и впечатляющий протокол событий,
имевших место в маленьком городке в первые две недели
после завоевания Земли марсианами и увиденных глазами
мещанина.
Марсиане Стругацких совершают ’’второе” нашествие,
ибо первое закончилось для них катастрофой в романе
Уэллса ’’Война миров”. Советская НФ знает еще одно дополнение
к этой знаменитой книге — памфлет Л. Лагина ’’Майор
257
Велл Эндъю” (1962). Опытный памфлетист Лагин сохранил
всю обстановку ’’Войны миров” и ввел в нее своего героя.
Английский майор, эпатирующий либерализмом фабианец,
истерически ненавидящий всех истинных ’’социалистов”
(особенно из рабочих), увидев в марсианах надежную защиту
от социальных потрясений, делается коллаборантом
и прислужником отвратительных головоногих, питающихся
человеческой кровью, предателем рода человеческого. Повесть
Лагина — обычная, в общем, инвектива по адресу
западных социалистов, продавшихся эксплуататорским
капиталистическим правительствам.
’’Второе нашествие марсиан” тоже рассказывает историю
предательства, но предательства совсем другого рода.
Марсиане приземляются не в окрестностях викторианского
Лондона, а в неопределенную эпоху и в неизвестной
стране, где города и люди носят древнегреческие названия
и имена, но нравы вполне современны. Благоразумный
герой повести и жители его городка не видят ни вторжения,
ни самих марсиан. Долгое время они даже думают, что никаких
марсиан нет, а просто совершился политический переворот.
Дело в том, что марсиане ведут себя несравненно
более разумно и хитро, чем при первом нашествии. Каким-
то способом нейтрализовав армию (если и были бои, ничего
достоверного об этом не знают ни герои, ни читатель) и
овладев властью, они действуют исключительно административно-
политическими средствами. Первым делом они по
хорошей цене скупают у крестьян все заготовленное посевное
зерно, распределяют бесплатно мешки неизвестных
доселе семян и разворачивают газетную кампанию против
традиционных зерновых культур. На седьмой день после
вторжения в городке появляется передвижной пункт сбора
желудочного сока, причем за каждый стакан этой имеющейся
у каждого в избытке жидкости донор получает
оплату живыми деньгами. Некоторое время спустя — после
того, как жители убеждаются, что никакого подвоха нет,
— городок получает прекрасно оборудованную, современную
лабораторию, занимающуюся тем же сбором желудоч-
258
ного сока. Кроме того, молодые люди вполне земного вида,
прибывшие из центра в странных автомобилях, очищают
городок от нежелательных лиц — от хулигана-водопроводчи-
ка, от наводящего на всех ужас гангстера и контрабандиста,
от городского архитектора и казначея, регулярно растрачивающих
деньги, предназначенные на постройку стадиона.
Вот и все. Марсиане не сжигают городов, не убивают, не
принуждают людей к отречению от родной культуры, не
мешают распространению слухов, не препятствуют появлению
добровольческих анти-марсианских бригад, которым,
конечно, нечем заниматься, кроме регулярных встреч в пивной
и патриотических разговоров. Марсиане не облагают
налогами, не взимают дани и не вводят трудовой повинности.
Им просто нужен желудочный сок, и, оставляя все,
как было, они превращают страну (а, может быть, и весь
мир) в фабрику по производству желудочного сока. Люди
же безропотно подчиняются, ибо никто их не мучает, деньги
падают с неба, синий хлеб из марсианских семян родится
молниеносно и дает невиданные урожаи, вкус его приятен,
а синяя водка из него прекрасно действует на пищеварение,
благоприятствуя выделению желудочных соков.
Люди с радостью идут в рабство.
Советские критики, да и сами авторы, истолковывали
повесть как сатиру на ’’здравомыслящее” мещанство,
косное и заботящееся лишь о своем материальном благополучии.
В какой-то мере это неоспоримо так. Беспокойство
вызывает, однако, факт, что все жители городка — такие же
мещане, как и рассказчик, все они так же охотно принимают
марсианские реформы и с удовольствием поставляют свои
желудочные соки.
В одной из центральных сцен повести говорится о покушении
на эмиссаров марсиан и дается краткая история ан-
тимарсианского движения сопротивления. Несколько дней
после нашествия образуются партизанские отряды, состоящие
в большинстве из интеллигентов, которым дороги
ценности человеческой культуры. Поначалу партизаны
скрываются у крестьян, которые хорошо к ним относятся
259
до тех пор, пока не замечают их попыток бороться с новой
властью. Тогда крестьяне берут на себя труд по ликвидации
сопротивления, устраивают на партизан облавы, убивают и
ловят, а захваченных в плен передают марсианам.
В разговоре со своим деверем, участником сопротивления,
рассказчик бросает ему в лицо тяжкий упрек: ’’Что вы
предлагаете фермеру? Сомнительные социальные идейки?
Книги и памфлеты? Вашу эстетическую философию? Фермеру
на все это наплевать. Ему нужна одежда, машины и вера
в завтрашний день. Можете ли вы ему это дать? Этого никто
ему не мог дать десять тысяч лет, а марсиане дали. Почему
удивляться, что фермеры охотятся на вас, как на диких
зверей? Никому не нужны вы, ваши разговоры о цивилизации,
ваш снобизм, ваши абстрактные проповеди, которые
так легко превращаются в пистолетные выстрелы” 1.
Сопротивляющиеся власти интеллигенты никому не
нужны. Марсиане это понимают. Вместо того, чтобы убивать
пленных, они отпускают их на волю, советуя организовать
легальную оппозицию, бороться легальным оружием, пользуясь
всей свободой прессы и собраний. Марсиане знают, что
делают.
Интеллигенты еще сохраняют независимый вид, уплетают
синий хлеб, еще заверяя, что ’’одно другому не мешает” ,
но бороться они уже не будут, разве что в рамках фиктивной,
позволенной марсианами оппозиции: ругать мелочи
— дворника, поставки кефира, — соглашаться на главное.
В повести есть замечательная деталь. Фургон, присланный
для первого сбора желудочного сока обслуживается огромным
волосатым детиной с татуировкой на руках и физиономией
бандита. В лаборатории же, неделю спустя, соки принимают
элегантные, интеллигентные доктора в безупречных
белых халатах. Безо всяких описаний и разъяснений показана
метаморфоза в отношении к победителям — сначала к
ним на службу идут общественные низы, а затем — элита
общества.
Во ’’Втором нашествии марсиан” с клинической точностью
проведен социологический эксперимент: регистрирова-
260
лась реакция общества на радикальное изменение политической
и идеологической власти, причем ситуация дана в пределе:
новая власть абсолютно чужда людям, чужда не просто
в моральном, политическом, культурном смысле, но и генетически.
Результат опыта мало утешителен: все слои общества —
горожане, крестьяне, интеллигенция (о рабочем классе не
говорится в повести; не потому ли, что большие города покорились
марсианам еще раньше, чем провинция и деревня?)
— без особого сопротивления смирились с чужой
властью.
’’Второе нашествие марсиан” — это социально-политическая
парабола, притча с отрицательной моралью. В ней сказано,
что людям — если и не всем, то подавляющему их
большинству — все равно, кто над ними властвует, какова
господствующая идеология, лишь бы их оставили в покое и
обеспечили сносное материальное существование.
Для Стругацких ни сам эксперимент, ни выводы из него
не случайны. Уже в ’’Стажерах” они утверждают, что мещанство
— страшнейшая опасность для человечества, и показывают
мещан даже в коммунистическом обществе. Но
’’Стажеры” еще принадлежат к первому, не слишком затуманенному
вопросами периоду творчества Стругацких.
’’Хищные вещи века” (1965) ставят проблему открыто.
В некой Стране Дураков ученые открывают и отдают в
публичное пользование ’’слег” — препарат, действующий
наподобие галлюциногенных наркотиков, изготовление
которого доступно всем и каждому. И жители страны поголовно
забрасывают свои дела, забывают о всех своих
стремлениях, погружаются в мир снов наяву и отказываются
из него выходить. Культура, наука, промышленность в
стране замирают, власть переходит в руки тиранической
элиты, но никому до этого нет дела. Материал в этой повести
иной, форма другая, чем во ’’Втором нашествии марсиан” ,
но опыт движется в том же направлении. Не насильственно,
не извне реальность подменяется ирреальностью — люди
сами делают выбор, и неспособны осознать его последствия.
261
Только ли о мещанах идет тут речь?
Лауреат нобелевской премии в области физики, герой
’’Пикника на обочине” (1972), говоря о визите на Землю
космических пришельцев, о Посещении, которое разнесло
вдребезги земную науку, непосредственно отозвалось на
жизни всей планеты, замечает, что в конечном итоге, для
человечества в целом, это небывалое событие прошло без
следа, и добавляет: ’’Для человечества, впрочем, все проходит
без следа” . Другой герой ’’Пикника” мечтает о том,
чтобы Посещение и его удивительные, непонятные, иногда
ужасные последствия расшевелили бы, наконец, людей, но
понимает, что ’’миллиарды людей ни о чем не знают и ни о
чем знать не хотят, а если даже узнают, то на десять минут
будут потрясены, а потом вернутся к своим делам, ибо
’ветер возвращается на круги своя’ ”2. Эта мысль не взята в
кавычки, как принадлежащая только герою, она дана в авторской
речи.
Миллиарды мещан населяют, если верить Стругацким,
нашу планету, и не изменить их ничем, даже если дать им
все, чего только можно желать.
В ’’Улитке на склоне” полный энтузиазма бюрократ рисует
перед товарищами картины будущего развития Управления:
’’Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных
и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны,
воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные!
Лестницы в небо! /.../ Свободное расписание! /.../. Сотрудники
после служебных часов будут сидеть в библиотеках,
размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других
музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать
друг другу стихи!..” Но эту утопию, (вполне традиционную
и вполне в советском духе) без труда разбивает скептический
слушатель: ”Не будешь ты меня слушать. И стихи
ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом
к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех
я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной
до алмазной закусочной. Особенно, если будет свободное
расписание”3.
262
Совсем не о мещанстве говорят и повторяют Стругацкие.
’’Мещанство” — понятие ограниченное. В повестях Стругацких
— тех, о которых идет речь — все человечество живет
как бы в состоянии ступора, и вывести из него не в силах
ни политические, ни идеологические, ни космические потрясения.
Объяснить это состояние мелочной заботой о материальных
благах, жадностью и косностью недостаточно.
Стругацкие бросают людям обвинение в том, что имея все
возможности, располагая большими знаниями, усовершенствованной
технологией, огромными богатствами, они тратят
силы на пустяки и не занимаются самым важным делом
— достижением ’’счастья для всех и даром” (этими словами
кончается ’’Пикник на обочине”) .
Почему так?
Писателей постоянно преследует этот мучительный вопрос,
и, пытаясь решить его, они проводят серию экспериментов.
Их тема — судьбы человеческого общества, смысл общественного
развития.
Эта тема - главная у Стругацких, она появляется уже в
первый период их творчества и в более или менее открытом
виде проходит до самых последних их произведений.
Примерно XXII веке, в коммунистическом мире, детально
описанном в ’’Возвращении” , очень популярны туристские
полеты на далекие неизвестные планеты. Двое молодых
туристов, Вадим и Антон, отправляются в такой полет,
забрав с собой пассажира — странного незнакомца Саула,
большого специалиста по истории XX века. Путешественники
выбирают планету и пускаются ее исследовать. Вопреки
их ожиданиям, планета населена. Первая же встреча с
местной цивилизацией смущает и ужасает туристов: они
наталкиваются на рвы, заполненные трупами. На планете
живут люди и царит тирания средневекового типа. Героям
не удается увидеть ни столицы страны, ни мест, где течет
нормальная жизнь, они знакомятся с цивилизацией от сто-
263
роны концентрационных лагерей (многозначительный анахронизм).
Тысячи голых, изможденных людей с утра до
ночи работают под неусыпным оком надсмотрщиков. Вернее,
они не столько работают, сколько подвергаются массовому
избиению.
На этой планете когда-то побывали Странники, древние
жители галактики (о них упоминается чуть ли не в каждом
произведении Стругацких), загадочные и всемогущие, цели
и смысл деятельности которых ускользают от понимания
людей. Странники оставили памятник своему пребыванию:
из огромной воронки в земле, из ниоткуда, выползают неизвестного
предназначения машины и непрерывным потоком
пересекают всю планету для того, чтобы скрыться в
другой такой же воронке. Это шествие бесконечно. Жители
планеты обожествляли машины, а затем, в незапамятные
времена, какому-то владыке пришла в голову мысль понять
устройство машин и приручить их. Мысль сама по себе дерзкая
— вызов, брошенный вечности, — выродилась и легла в
основу концентрационной идеологии. Овладеть машинами
поручено преступникам. На пути машин строятся лагеря, и
там заключенные наугад испытывают машины, нажимают
кнопки, двигают рычаги, вертят колесики. Тот, кому удастся
пустить автомат в ход, получает свободу. Но реакции
машин невозможно предвидеть, преступники погибают,
поток машин неисчерпаем, и в лагеря прибывают все новые
преступники — бравшие чужие вещи, убивавшие людей, желавшие
сменить ’’утес” (главу государства), ’’желавшие
странного” .
Выросшие при коммунизме, подсознательно уже отрицающие
всякое зло, Вадим и Антон возмущены до глубины
души всем, что происходит. Невзирая на странные, с их
точки зрения, предупреждения Саула, они хотят исправить
положение вещей. Они освобождают пленников, но тут их
ждет сюрприз: рабы бросаются защищать своих мучителей.
Выясняется, что освобожденным некуда деваться в этой
стране, их ждет смерть, а в лучшем случае — возвращение
в тот же лагерь. Контакт с властями — надсмотрщиками
264
— не выходит. Ни к чему не приводит попытка разрушить
машины. Все добрые намерения представителей коммунистического
общества либо не дают результатов, либо оборачиваются
злом для тех, кому предназначена помощь.
В финале повести странный пассажир, знаток истории
Саул исчезает. Из оставленной им записки явствует, что он
— советский офицер, попавший в плен к гитлеровцам и
каким-то образом бежавший из концлагеря в будущее. Он
возвращается в свое время, осознав, что в будущее нельзя
проскочить зайцем, что каждый должен закончить свою
борьбу.
Символика — может быть, слишком явная: — ’’попытка к
бегству” Саула иллюстрирует главную мысль повести.
Разочарованные неудачами своих благодеяний, Вадим и
Антон полагают, что виной тому — малочисленность благодетелей
и хотят призвать на помощь колонию землян. Им все
кажется простым: приедут врачи, учителя, аборигены с
радостью переймут все хорошее и разумное, и поспешат
вслед за землянами строить справедливое общество. ’’Конечно,
это случится не сразу, лет пять потребуется” . Но
Саул смеется над наивностью ’’просветителей” . Не пять, а
пятьсот пятьдесят пять лет нужно, чтобы вырвать планету
из грязи и невежества; а что будут делать врачи и учителя,
когда их начнут распинать монахи, пытать и убивать стражи
порядка, — не озвереют ли они, и не превратятся ли из колонистов
в колонизаторов?
И еще более важное говорит Саул: ”Вы хотите нарушить
законы общественного развития! Хотите изменить естественный
ход истории! А знаете вы, что такое история? Это само
человечество! И нельзя переломить хребет истории и не
переломить хребет человечеству”4.
Туристы не совсем убеждены. Вадим продолжает лелеять
колонистские проекты. Антон же говорит о том, что на планету
нужно будет прислать небольшую группу профессионалов.
О таких профессионалах и их работе рассказывают Стругацкие
в их самой известной книге, одной из важнейших
265
книг в истории советской НФ, — ’Трудно быть богом”
(1964).
Есть планета в средневековой стадии развития. Есть королевство
Арканар. В нем выплывает на поверхность и рвется
к власти авантюрист, бывший чиновник дон Рэба, втершийся
в доверие к королю. Он упраздняет министерства, ведающие
образованием и благосостоянием, учреждает министерство
охраны короны, своими указами разваливает экономику
страны, пишет трактат ”0 скотской сущности земледельца”
, наконец, организует ’’охранную гвардию” , так называемые
’’Серые роты” .
На средневековое государство падает тень фашизма. Начинается
дикая травля ученых и художников, а затем — всех
грамотных людей, пытки и казни инакомыслящих, погромы
и убийства. Везде подсматривают и подслушивают шпионы.
’’Серые роты” наводят ужас на всех.
В этом кровавом мире живет посланник Земли — Антон
(может быть, тот же, что в ’’Попытке к бегству” , а может,
его двойник), настоящий профессионал. Играя роль блуждающего
рыцаря Руматы, вместе с 250 других землян, рассеянных
по всей планете, он проводит ’’Опыт Бескровного
Воздействия” .
За плечами Антона-Руматы и его товарищей стоит все
могущество науки и техники Земли. Для жителей планеты
они — боги. Но боги эти не имеют права раскрывать свое
божественное происхождение и силу. Они наблюдают, играют
свои роли рыцарей, торговцев, трактирщиков, добиваются
положений, с которых можно незаметно и осторожно
влиять на происходящее, спасают от преследований наиболее
выдающихся ученых, писателей и т. д.
Опыт направляется крупнейшими умами Земли. У них
наготове теории, разработанные для каждых условий. Есть
’’Базисная теория феодализма”, которая позволяет предвидеть
исторический процесс в мельчайших подробностях. Но
практика не помещается в теории. Дон Рэба и его ’’серые
роты” не предвидены учеными социологами и историками,
не предвидены — и значит, для них не существуют. Опыт
266
Должно вести, как будто в Арканаре ничего не произошло.
Но трудно смотреть, как убивают людей, и не реагировать;
трудно быть богом, обреченным на бездействие. После
того, как убивают его подругу, Румата совершает недопустимый
поступок: поднимает оружие против дона Рэбы.
Бескровное Воздействие не получается.
Как-то Румата встречает благородного разбойника, вечного
бунтаря и вождя безнадежных восстаний — Арату, и в
разговоре отдает себе отчет, что ’’Арата явно превосходил
его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел
на эту планету и, полный бессильной жалости, наблюдал
страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных
гипотез и чужой здесь морали”5.
Присутствие богов ничему, в конце концов, не служит.
Но вмешательство в жизнь планеты еще хуже — оно опасно.
Еще одну беседу ведет Румата со спасенным от костра уче-
ным-гуманистом. Ученый представляет богу свои просьбы
об улучшении мира — и бог дает на них мудрые ответы. Первая
просьба — вразумить или покарать жестоких, — но, потеряв
жестокость, они потеряют и силу, на их место придут
другие, и придется карать всех. Дать людям все, чего они
хотят — но тогда они забудут труд и превратятся в животных.
Дать им все это постепенно — но постепенно они и сами
все возьмут. И, наконец, последняя и коронная просьба:
переделать людей так, чтобы они любили труд и знание, чтобы
они стали хорошими. И тогда выясняется, что земляне
думали об этом — технически проблема легко разрешима,
достаточно установить на экваториальных спутниках излучатели,
применить гипноиндукцию и — массовая реморализация
населения планеты достигнута. Но бог вынужден отказать
и в этой просьбе: ”Я мог бы сделать и это, — сказал
он. — Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит
ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то
же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать
на его месте новое?”6
Румата дает свои ответы с историософской и нравствен-
267
но-философской точки зрения. На те же вопросы ищет сугубо
практические решения Максим, герой ’’Обитаемого
острова” (1968), попавший на планету, разрушенную ядер-
ными войнами, задавленную тиранией. Не профессионал-теоретик,
подготовленный к своей роли и вооруженный всей
помощью Земли, а затерянный в космосе одинокий космолетчик,
Максим сначала не понимает сложной ситуации
страны, в которой он очутился не по своей воле. Разобравшись
же, он начинает с того, чем кончает Румата — выступает
против тиранов с оружием в руках. Ему абсолютно
ясно, что правота на его стороне. Но это не так уж очевидно.
Максим постоянно делает ошибки, постоянно оказывается,
что он чего-то не понял, о чем-то забыл, чему-то слишком
поспешно поверил. Смысл его действий с бесстрастной логикой
резюмирует великий мудрец, мутант, единственный ум
на планете, перед которым пасует пришелец с коммунистической
Земли. Он говорит Максиму: ’’Ваша совесть подвигает
вас на изменение порядка вещей, то есть на нарушение
законов этого порядка, определяемых стремлениями масс,
то есть на изменение стремлений миллионных человеческих
масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно
и антиисторично. Ваш затуманенный и оглушенный совестью
разум утратил способность отличать реальное благо масс от
воображаемого, продиктованного вашей совестью”7. Лишь
под конец книги Максим открывает, что все его подвиги,
все потрясения, вызванные им, лишь мешали работе того,
кого он считал главным злодеем планеты, — полномочного
представителя Земли, специалиста по бескровному воздействию.
Проблема вмешательства, впервые в советской НФ поставленная
Стругацкими, сложна. Она включает по меньшей
мере два аспекта. Первый — это вопрос: можно ли вмешиваться
в жизнь общества извне, даже с наилучшими намерениями.
Целиком этому вопросу посвящены ’’Попытка к
бегству”, ’’Трудно быть богом”, в большой мере ’’Обитаемый
остров” . Ответ Стругацких однозначен: менять историю
извне значит, ломать хребет человечеству; бескровное
268
ли, вооруженное ли вмешательство всегда насильственно,
всегда может привести к катастрофе или закончиться обманом.
Второй вопрос ставится изнутри. Его символ - ’’попытка
к бегству” , сформулировать его можно так: может ли общество
в своем развитии миновать этапы, перескакивать в
будущее, не закончив своих дел в прошлом? И тут ответ
Стругацких отрицателен. В своих книгах они утверждают
для общества необходимость органического развития.
Характерная черта творчества Стругацких - объединение
произведений в циклы. В разных их повестях встречаются
те же герои, повторяются отдельные детали, упоминаются
события, описанные в других книгах. Это позволяет создать
иллюзию однородности и внутренней связности, логичности
и полноты фантастического мира, иными словами, его
гипотетической правдоподобности. В советской критике
Стругацких нередко так и истолковывают — как размышление
о реальных чертах будущего. В действительности, несмотря
на частые указания времени и места действия, на
очень тщательную подборку подробностей, экстраполированных
согласно самым добротным рецептам футурологии,
мир Стругацких — мир их книг, начиная с 1962 г., — находится
вне времени. Это именно та фантастика, в которой,
по словам теоретика новой волны в НФ, ’’проблема может
выступить очищенной от ’’лишней” конкретности во всей
ее логической чистоте”8. Для Стругацких, впрочем, литературная
конкретность описываемого отнюдь не излишня
— как никто другой в советской НФ, они умеют сочетать
ее с логической чистотой эксперимента. Но в центре каждой
их повести, действительно, стоит проблема, проблема сугубо
злободневная. И циклы появляются тогда, когда писатели
— как истинные экспериментаторы — рассматривают проблему
с разных сторон.
’’Улитка на склоне” , новая по форме, внешне совершенно
непохожая на динамические, полуприключенческие, использующие
ходы исторической прозы повести о вмешатель-
269
стве, продолжает цикл размышлений о смысле общественного
развития.
Общество должно развиваться органически, говорят
Стругацкие. Но как понимать органическое развитие? Что
вообще значит понятие ’’общественного развития”?
В наше время, когда говорят ’’развитые общества” , подразумевают
одно — прогресс.
В ’’Улитке на склоне” Стругацкие определяют свое отношение
к прогрессу.
Вспомним: есть страшный, бескрайний Лес. В лесу - наполовину
опустелые, вымирающие деревни. В деревнях —
мужики, запуганные, несчастные создания, не понимающие
ничего из того, что происходит вокруг них, забывшие, в
какое время они существуют, бездумно повторяющие обрывки
некогда понятных слов. Лес наступает на людей,
заливает болотами деревни, из лесу выходят ’’мертвяки”
— живые мертвецы, убивающие людей.
Как подчеркивают Стругацкие, лес символичен, он олицетворяет
’’чуждое и непознанное” , еще скрытое от человечества,
иначе говоря, — будущее. Можно подумать, что будущее
враждебно людям; но лес сам по себе, по природе своей
неопределяем, его нельзя оценивать человеческими критериями
добра и зла. Лес, пожалуй, ничего и не знает о людях,
он просто живет. Но в лесу, кроме мужиков, есть ’’подруги”
, некая биологическая цивилизация, овладевшая чудодейственной
энергией ’’лилового тумана” , умеющая превращать
живое в мертвое и мертвое в живое. Это ’’подруги”
заставляют деревья прыгать, а болота — за одну ночь выступать
из земли. Когда-то ’’подругам” были нужны мужики,
они воспитывали мужиков и водили их вершить великие
дела. А потом выяснилось, ’’что можно прекрасно обойтись
без многих и многих, что все эти деревни - ошибка, а мужики
— не больше, чем козлы” . ’’Подруги” размножаются
через партеногенез, они всесильны, и даже пасти козлов-
мужиков у них нет времени. Они крадут из деревней женщин
(крадут жизнь, скажем мы, перелагая язык аллегории
на общепонятную речь), перевоспитывают их, а мужиков
270
просто убивают, насылая на них своих биороботов-”мертвя-
ков” и другие страшилища.
Не лес, а ’’подруги” , использующие лес для своих непонятных
и зловещих целей, враждебны людям, живущим в
лесу, и самой жизни.
Однако, мы знаем, что реальность диалектична. ’’Может
быть, надо говорить не ’’жестокое и бессмысленное натравливание
леса на людей” , а ’’планомерное, прекрасно организованное,
четко продуманное наступление нового на старое” ,
’’своевременно созревшего, налившегося силой нового на
загнившее, бесперспективное старое” ... Не извращения, а
революция. Закономерность”9. Так думает Кандид, наивный
гуманист, склонный к чрезмерной рефлексии.
Должно быть, так оно и есть. У ’’подруг” свой язык. Для
них то, что они делают — историческая закономерность. Лес
в ’’Улитке на склоне” - это будущее; безжалостные, полные
презрения к людям ’’подруги” — носители прогресса.
Кандид понимает, что мужики обречены, что ’’историческая
правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты,
осужденные на гибель объективными законами, и помогать
им — значит, идти против прогресса” . Кандид понимает, что
’’закономерности не бывают плохими или хорошими, они
вне морали” . Но Кандид наивен, у него осталась вера, он не
вне морали. ’’Идеалы... Великие цели... Естественные законы
природы... И ради этого уничтожается половина населения!
/.../ Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах
их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке
жернова затормозили!” 10
Наивный Кандид берет скальпель и отправляется резать
’’мертвяков” . Писатели Стругацкие несколько менее наивны.
Во второй части ’’Улитки на склоне” прогресс меняет
лицо. Не выползшие из бездн подсознания бесполые женщины,
а очень реальные начальники и бюрократы пытаются
использовать лес, готовятся превратить его в ’’бетонированную
площадку” . И можно полагать, что чиновники, озаренные
светом будущей утопии, больше преуспеют в своих
начинаниях, чем даже дьявольские ’’подруги” . Во всяком
271
случае, двойник Кандида уже лучше отдает себе отчет в том,
что нельзя бороться с теми, на чьей стороне историческая
правда и объективные законы.
’’Антиутопия /.../ чаще всего порождается духовной слабостью,
смятением, неуверенностью в грядущем, в способностях
и возможностях человека и его разума, земной цивилизации”
1 1. Это слова твердокаменного оптимиста, защитника
самой ортодоксальной формы и самого ортодоксального
содержания в научно-фантастической литературе. В них,
конечно, есть зерно правды, и они, конечно, относятся к
Стругацким.
В ’’Улитке на склоне” и в написанной в то же время повести
’’Гадкие лебеди” Стругацкие признаются в своей великой
слабости: они не уверены в будущем и боятся прогресса.
Оговоримся. Стругацких пугает не будущее, а Грядущее,
не лес, а ’’подруги” и Управление, и мрачные мутанты из
’’Гадких лебедей” , которые, наподобие Гаммельнского крысолова,
уводят детей и превращают их в совершенных людей
нового времени. Для Стругацких страшно то, что делает из
будущего Грядущее — безжизненный, полный презрения и
равнодушия к людям, руководствующийся объективными
закономерностями прогресс.
Оговоримся еще раз. Читая повести Стругацких нельзя не
заметить, что писатели изо всех сил борются с собственным
пессимизмом. Навязчивыми образами проходят сквозь их
книги концентрационные лагеря, воспитуемые заключенные
и воспитатели-надсмотрщики, политики-тираны и диктаторы-
бюрократы, соглядатаи и тайная полиция, убийцы и демагоги,
жонглирующие лозунгами о великих свершениях. Мир
этот страшен, но далеко на заднем плане брезжит в нем отблеск
другого, лучшего мира. Антон и Вадим в ’’Попытке к
бегству”, Антон-Румата в ’’Трудно быть богом” , Иван Жилин
в ’’Хищных вещах века” , Максим в ’’Обитаемом острове”
— все они пришельцы из коммунизма, из страны счастливых.
И вопреки собственным очень убедительным теориям о
272
вреде вмешательства, Стругацкие оставлят своим героям
маленькую лазейку: возможность хоть немножко вмешаться.
Они испытывают симпатию к импульсивному Максиму,
несмотря ни на что признают за ним право бороться с оружием
в руках. А с другой стороны, из более поздней повести
”Малыш” (1973) мы узнаем, что и бескровное воздействие
на ’’обитаемом острове” проходит удачно. И мы уже почти
не удивляемся, когда в самой откровенной антиутопии
Стругацких, в ’’Гадких лебедях” , на последней странице
главный герой преодолевает свой ужас перед наступающим
миром будущего.
Все эти оптимистические восклицательные знаки, разбросанные
там и сям в повестях, пропитанных пессимизмом,
можно счесть писательскими уловками, обманным маневром,
отвлекающим внимание цензора. Но будем осторожны.
Мне кажется (это может быть и ложным впечатлением), что
Стругацкие искренни. Они хотят надеяться и противопоставляют
миру реальности свой гипотетический мир мечты.
Стругацкие не верят в обещанное в лозунгах Грядущее
и боятся прогресса вне морали.
Но при всем том, они пытаются не впасть в беспросветное
отчаяние — они хотят думать, что может существовать какой-
то другой прогресс, что бывает другое понимание прогресса.
Как говорит Перец, еще не превратившийся в директора,
умный Перец, ’’можно понимать прогресс как превращение
всех в людей добрых и честных” 1 .
Здесь смыкаются три темы творчества Стругацких: тема
мещанства, тема вмешательства в развитие общества, тема
прогресса.
Все умозаключения писателей, все их лабораторные построения
пользуются материалом окружающей действительности.
В действительности, увы, общество не развивается
с целью превращать людей в добрых и честных. Стругацким
очень не нравится направление и характер современного
социального развития, способного порождать самые дикие
извращения, все больше и больше зависящего от научно-
273
технической базы, направленного вширь, а не вглубь, основанного
на прагматической и материалистской, количественной,
а не качественной мере вещей. Такой прогресс Стругацкие
отрицают, считают безнравственным и антигуманным.
Общество развивается согласно стремлениям человеческих
масс, но современное человечество в какой-то момент допустило
ошибку (или ряд ошибок), свернуло с верного
пути и потеряло контроль над процессом. И теперь катится
каток прогресса, независимо от человеческой воли, подчиняясь
каким-то своим объективным законам, превращая
человечество в хорошо утрамбованную ровную площадку.
Отсюда ’’мещанство” — отчужденные от хода истории люди
теряют способность к активному воздействию на историю,
теряют желание сопротивляться, впадают в оцепенение. Их
мещанская борьба за материальные блага, их безразличие и
жажда покоя любой ценой — симптом, а не причина болезни,
следствие разрыва гармонических связей между личностями
и массами, между стремлениями и способами их
осуществления, результат нарушения органичности истории.
Стругацкие не выискивают первопричин дегуманизации
исторического процесса. Они констатируют наблюдаемое
положение вещей. И им ясно, что главное проявление этой
дегуманизации — а может, и сама первопричина — состоит в
попытках изменить ’’стремления миллионных масс по образу
и подобию” стремлений людей, жертвующих моралью
и разумом во имя высоких идеалов. Гипертрофированная,
не туда направленная совесть оглушает чувства и разум.
Прогресс в современном его смысле не связан с пониманием
окружающего мира. Точнее, он стоит на жажде понимания
определенного рода, жажде легко удовлетворимой:
”дай человеку максимально упрощенную модель мира и
толкуй каждое событие, опираясь на эту упрощенную модель.
Такой подход к проблеме не требует никакого знания”
13. Объяснение мира без истинного знания, понимание
без понимания, схема, заслоняющая жизнь — вот основа
Прогресса. Упрощенная модель мира — по примеру, данному
тут же Стругацкими, — религия. Совершенно очевидно, что
274
та же аргументация полностью приложима и к современной
науке, и, в еще большей мере, к современному варианту религии
— к идеологии, располагающей такими средствами
воздействия, о каких и не снилось религии. В идеократиче-
ском тоталитарном обществе именно идеология раскалывает
историю, рвет все связи человека с миром.
Вмешаться в развитие общества с платформы идеологии,
значит, играть судьбой миллионов для достижения целей,
выведенных из схематических, то есть упрощенных до искажения
данных. Поэтому всякое вмешательство — будь то
попытка подхлестнуть историю изнутри, будь то навязывание
идеалов и целей извне — не оправдывается никогда и
ничем.
И все-таки Стругацкие сохраняют тень надежды на возможность
восстановления органичности мира и истории.
Первое и главное условие для того — истинное, глубокое
понимание человека и мира, в котором он живет.
И лишь обретя понимание, освободившись от гипнотического
действия идеологии, отказавшись от современного
понятия прогресса, можно стараться изменить ход истории,
вернее — вернуться в историю, стать снова ее органической
частью.
Без этой надежды жить было бы слишком страшно.
Главный предмет размышлений Стругацких находится
целиком в ведении теории общественного развития, иными
словами, той части марксистской системы, которая в официальной
советской доктрине носит название исторического
материализма. Марксизм вообще — по преимуществу историософское
построение, толкование человеческой истории
в нем предваряет и задает все остальное, всю экономическую,
политическую, естественно-научную часть. Толкование
это у самого Маркса неоднозначно, зачастую противоречиво,
дает почву для развития очень разных концепций.
Тем не менее, в основе его лежат положения, многократно
повторенные в более или менее сильной форме и резюмированные
в классическом тексте предисловия работы ”К кри-
275
тике политической экономии” . Прокомментированные Плехановым,
творчески дополненные Лениным и Сталиным,
очищенные советскими идеологами от всех признаков сослагательного
наклонения (подверглась цензуре, например,
интерпретация азиатского способа производства), тезисы
Маркса составили железный кодекс советского исторического
материализма. Его формулы в СССР заучиваются наизусть.
Его научная, объективная истинность и универсальность
не может подлежать сомнению. Это столп, несущий на
себе все строение идеологической реальности.
Эксперименты и вытекающие из них выводы в книгах
Стругацких противоречат основным положениям исторического
материализма.
Во главе угла исторического материализма стоит абсолютная
вера в поступательное движение человеческой истории,
в неостановимый Прогресс, определенный объективными,
не зависящими от воли людей закономерностями. Кроме
своей неумолимости и направленности в одну сторону
— вперед, по прямой ли, по асимптотической ли кривой,
как считал Энгельс, или же по спирали, как думал Ленин,
но всегда и только вперед, — Прогресс отличается еще двумя
свойствами. Его закономерности проявляются не в темпе
развития (советская послесталинская доктрина допускает
застои и даже временный регресс, ничтожного, однако, порядка
в историческом масштабе), а в последовательности
исторических формаций, последовательности, обусловленной
уровнем развития производительных сил общества.
Таким образом, имеется жесткая схема, охватьюающая все
возможные формации, устанавливающая их порядок, эмпирически
проверенная и позволяющая предвидеть каждый
последующий этап исторического — точнее, предыстори-
ческого, т. е. докоммунистического — развития. В этом
состоит научный характер теории. Сверх того, Прогресс,
движимый объективными законами, нагружен аксиологическим
содержанием. Иными словами, необходимая посылка
для марксистского толкования истории гласит, что каждый
очередной ее этап не просто необходим, он лучше
276
предыдущего и хуже следующего за ним этапа. И следовательно,
все, что служит прогрессу, объективно хорошо, все,
что ему мешает, объективно плохо. Официальная доктрина
целиком базируется на отождествлении понятий ’’прогресс”
и ’’благо” , причем переносит это отождествление в область
элементарной этики.
Как мы видели, Стругацкие в ’’Улитке на склоне” и в
’’Гадких лебедях” совершенно открыто противостоят объективному,
необходимому Прогрессу. Они отказываются
считать благом уничтожение половины населения в угоду
исторической правоте. Они ставят мораль высшим критерием
истории.
В комментарии к первой части ’’Улитки на склоне” советские
критики делают достойное восхищения усилие рекуперации:
”И еще одна мысль, на которую наталкивают
последние книги Стругацких: ’’любые действия, любые начинания,
хотя бы даже вытекающие из каких-то объективных
закономерностей, не могут быть оправданы и признаны
прогрессивными, если в основе своей они антигуманны и
аморальны” 14. Довольно смелое рассуждение, на первый
взгляд. На деле это игра слов. Достаточно обратить внимание
на все то же использование многоликого термина ’’прогрессивный”
в качестве этического эпитета. Всем известно,
что нравственность и гуманность любых действий определяется
партией в зависимости от требований классовой
борьбы, согласно научным разъяснениям теории исторического
материализма и во имя прихода к высшей стадии
исторического развития, т. е. во имя прогресса. Тавтология
и подтасовка терминов прочно запирают мысль внутри порочного
круга.
Стругацкие отвергают не какие-то закономерности, а
действующие вне человеческой воли и морали закономерности
истории вообще. Они отвергают схему, видят историю
живой, непоследовательной, несводимой к простейшей форме.
В их книгах высочайшее развитие производительных
сил еще не дает гарантии перехода в царство свободы и справедливости.
В их книгах фашизм - общественный строй,
277
возможный лишь в средней фазе развития империализма — с
настойчивостью духа Банко появляется в обстановке средневековья.
Доведенные до отчаяния писатели посылают
бороться с воплощением исторических закономерностей
своего героя, вооружив его скальпелем и силой духа.
Хуже того, Стругацкие говорят о нашем непонимании
истории. Но спрашивается, какое может быть непонимание,
коль скоро существует единственно верная, единственно
научная теория исторического материализма?
Увы, смятение и внутренняя слабость привели писателей
к сомнению в правоте теории.
Насильственное вмешательство в их литературном мире
запрещено потому, что в мире реальном эмпирические результаты
реальных вмешательств не совпали с теоретическими
прогнозами. Попытки изменить стремления масс по
образу и подобию стремлений отцов исторического материализма
привели к миллионам жертв (примечательно, что
’’подруги” в ’’Улитке на склоне” занимаются уничтожением
мужиков ’’как класса” , и пресловутое ’’Одержание” означает
не что иное, как гибель деревни, — нужно ли искать лучший
пример ’’абстрактности” морализаторской фантастики
Стругацких?), но пока еще не приблизили желанного идеала.
Может казаться, что протест писателей относится только
к советскому варианту марксистской теории, официальной,
бездушной и детерминистской доктрине. Действительно,
несмотря на катастрофичность своего мировоззрения, Маркс
мыслил смену формаций как естественный процесс: ”Ни
одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются
все производительные силы, для которых она дает
достаточно простора, и новые более высокие производственные
отношения никогда не появляются раньше, чем созреют
материальные условия их существования в недрах самого
старого общества” 15. Естественный и неотвратимый процесс
не значит гуманный. В XIX веке немного было критиков-мо-
ралистов, по беспощадности разоблачения нечеловеческого
Прогресса равных Марксу. В одной из своих известных речей
Маркс характеризует современность таким образом:
278
”С одной стороны, пробуждены к жизни такие промышленные
и научные силы, о каких и не подозревали ни в одну из
предшествовавших эпох истории человечества. С другой стороны,
видны признаки упадка, далеко превосходящего все
известные в истории ужасы последних времен Римской Империи
/.../ Новые, до сих пор неизвестные источники богатства
благодаря каким-то странным, непонятным чарам
превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы
куплены ценой моральной деградации. Кажется, что по мере
того, как человечество подчиняет себе природу, человек
становится рабом других людей, либо же рабом собственной
подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому,
сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все
наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому,
что материальные силы наделяются интеллектуальной
жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной
стороны, низводится до степени простой материальной
силы”*6. Итак, все есть у Маркса, и мысль об органичности
истории, и мысль об отчуждении человека от прогресса,
ничуть не утратившая своей злободневности за истекшие
120 лет.
Но Маркса отнюдь не удивляют ’’странные, непонятные
чары”, он может со всей страстью бичевать пороки и злодеяния
общества и сохранять при этом спокойствие духа
— он с научной достоверностью знает причину всех противоречий
эпохи: это антагонизм между новыми производительными
силами и старыми производственными отношениями.
Все кровавые преступления капитализма вызваны тем, что
он есть капитализм — сгнивший, но еще владеющий людьми
труп. Но, знает Маркс, иначе не может и не должно быть.
Некогда капитализм был прогрессивным строем, он пробудил
к жизни невиданные дотоле силы, он и мертвый порождает
могущественную технику и придет время, когда
отчуждение и преступления кончатся: ”Мы знаем, что новые
силы общества, для того чтобы действовать надлежащим
образом, нуждаются лишь в одном: ими должны овладеть
новые люди, и эти новые люди — рабочие” 17.
279
Лишенные всего, мучимые и содержащиеся в нищете и
невежестве, доведенные до животного состояния люди
должны, по Марксу, внезапно проснуться от кошмара, проявить
неукротимый революционный дух и универсальное,
всечеловеческое сознание, преобразиться из животных в
богов. И чем сильнее гнет, чем страшнее страдания, с тем
большей уверенностью мы глядим в будущее, ибо тем ближе
час освобождения. Закон биполяризации общества и пауперизации
пролетариата — один из основных законов развития
капиталистического строя — возводит в ранг двигателя
истории простой принцип ’’чем хуже, тем лучше” , который
бесконечно варьируется многими поколениями марксистов.
Уже в 1847 г. Энгельс писал, что насильственно подавляя
развитие пролетариата, ’’тем самым противники коммунизма
изо всех сил работают на революцию”18. И Ленин радовался,
что укрепляющийся империализм вьет себе веревку
на шею. И сегодня доказывают, что положение рабочих на
Западе ужасно — не в абсолютном, конечно, смысле, ибо
абсолютных истин не бывает, а в относительном, научно
правильном. Вера в рабочий класс, в возможность скачка из
состояния величайшей угнетенности в состояние величайшей
свободы наименее обоснована ’’научными” выводами во
всей марксистской теории, но она-то и менее всего нуждается
в обоснованиях. Это евангельская вера — ’’последние
будут первыми” , ’’кто был никем, тот станет всем” , — ее
огромная сила в том, что она не призывает Мессию из далеких
потусторонних миров, она называет Мессию по имени и
указывает на него здесь же, в реальном настоящем; без
этой веры марксизм перестает быть марксизмом.
Может быть, именно этой веры не понимают Стругацкие,
говоря о непонимании истории. Во всяком случае, они сами
не верят. Они знают, что лозунг ’’чем хуже, тем лучше” ,
брошенный Коминтерном в 20—30-е гг. привел в Германии
к одной из самых страшных катастроф в истории европейской
цивилизации. Они не надеются, что омещаненные и
отчужденные участники ’’общества потребления” способны
на революционный порыв, наоборот, от них нечего ожидать
280
вообще каких-либо порывов. В ’’Трудно быть богом” еще
упоминаются бунтовщики и революционеры, но к чему будут
бунтовать обитатели Страны Дураков, одурманенные
наркотическим слегом и счастливые в своем призрачном
мире? Каким образом жители Колонии Необъясненных Явлений
могут противостоять волшебной Большой Круглой
Печати? Каким образом отупевшие и перепуганные мужики
могут бороться с могучей энергией ’’лилового тумана” , для
которой нет невозможного? Зачем бороться против марсиан,
которых и не видно даже, а которые проводят объективно
положительные реформы, да еще и доплачивают за это? И
как могут жители ’’Обитаемого острова” , непрерывно, днем
и ночью подверженные действию излучения, лишающего
мозг ’’способности к критическому анализу действительности”
, как могут эти люди когда-либо понять, что они рабы?
’’Лиловый туман” , слег, облучение — все это, конечно,
иносказательные обозначения воздействия идеократии, ее
идеологии, но в то же время они показывают и другую сторону
— способность человека реагировать на это воздействие.
И вот, стрелка индикатора в литературной опытной
установке Стругацких не движется: реакции нет. Стругацкие
не верят в преодоление отчуждения. Они говорят: ’’чем
хуже, тем хуже”, и кроме того, добавляют: ’’чем лучше в
категориях современного прогресса, тем хуже с человеческой
точки зрения” . Для Маркса, Энгельса, для марксизма
вообще современный прогресс естествен, ибо необходим,
и необходим, ибо ведет из предыстории в историю. Стругацкие
заявляют, что необходимо менять весь внутренний
характер развития общества, иначе никакой истории не
будет. Органичность истории — это не закономерная последовательность
исторических событий, это нравственная и
эмоциональная связь человека со временем.
В какой-то период своего творчества, в книгах 1964—
1968 гг., Стругацкие с пером, похожим на ланцет, в руках
подняли мятеж против официальной доктрины исторического
материализма и отказались верить в святая святых
марксистского вероисповедания.
281
Глава 9
ВАРИАНТЫ МИРА: ВЛАДИМИР САВЧЕНКО И ДРУГИЕ
Нападая на грешного в ’’космополитизме” философа, любимый
сталинский теоретик академик Митин писал: ’’Марксизм-
ленинизм учит, что нет и не может быть единой мировой
науки, единого мирового естествознания. В науке происходит
борьба между материализмом и идеализмом, борьба
прогрессивных и реакционных тенденций, отражающих
классовую борьбу в обществе” 1.
Академик ясно выразил государственную точку зрения
на запутанный вопрос о соотношении идеологии и науки.
Его принципиальная правота очевидна.
Суждения и мысли философа, экономиста и революционера
XIX века Карла Маркса, упорядоченные, дополненные
и истолкованные его соратниками и последователями,
составили глобальную и связную систему, названную диалектическим
материализмом. Система эта сильна тем, что
дает своим приверженцам полную уверенность в наличии
282
внутри нее самой совокупности посылок, необходимых
для развития любой, как гуманитарной, так и естествоведческой
научной дисциплины. К пониманию того, что наряду
с марксистской экономикой, социологией и историософией
может и должна существовать марксистская психология,
марксистская физика, биология или космология, идеологи
— а с их помощью и ученые — пришли уже давно. Действительно,
по Марксу рабочий класс отличается от всех других
классов в истории своей способностью — якобы логически
вытекающей из состояния пауперизации — воплощать общечеловеческий,
т. е. объективный идеал, общечеловеческое
сознание; значит это, между прочим, что искажающие влияния
экономических императивов не затрагивают пролетарского
видения мира — только пролетарии воспринимают
вещи, явления и связи между ними в правильной, объективной
перспективе. Следовательно, естественно предположить,
что в пролетарском государстве новая пролетарская наука
будет качественно отличаться от всей прошлой, сознательно
или бессознательно служившей эксплуататорским классам.
Пролетариям дано открыть все скрытые дотоле тайны мироздания.
В написанной в 1924 году утопии говорилось:
”В 1935 году было сделано великое открытие, и не какими-
нибудь профессиональными учеными, а группой молодых
рабочих, лишь с 30-го года посвятивших свои досуги науке” ,
и описывались ’’простые крестьяне” , занятые ’’вопросами
конденсации солнечного света”2. Революционный энтузиазм
почти тотчас же стал вредным анахронизмом, в эпоху
коллективизации и индустриализации у крестьян и рабочих
не хватило досуга для занятий наукой и ею продолжали заниматься
профессиональные ученые, но сокровенная идея
осталась жить. Историю науки в СССР можно представить
как летопись борьбы марксистской (’’советской”) науки
с отсталой наукой буржуазной, как рассказ о постепенном
вытеснении последней, о победе новых методов, о великих
открытиях Т. Лысенко в биологии, О. Лепешинской в цитологии,
Г. Челинцева в химии, А. Максимова в физике, о том,
как ввиду печальных результатов этих достижений, нехотя,
283
сперва скрыто, затем открыто выдавалось право на жительство
бывшим реакционным теориям.
’’Советская прогрессивная наука” не получилась оттого,
что ее создатели страдали излишней последовательностью,
выводя свои теории из теории диалектического материализма
прямым путем и не заботясь о практической стороне
дела. В наши дни положение изменилось. Но весьма своеобразно.
Вопреки отказу советских философов науки от разделения
естественных и гуманитарных наук, нигде пропасть между
ними не видна столь ясно, как в СССР. Первая причина
тому — милитаризация советской экономики и всей жизни,
требующая реальной эффективности — иначе говоря, истинной
научности — только от дисциплин, имеющих касательство
к сфере военного и космонавтического производства,
т. е. от ’’точных наук” . Они и пользуются далеко идущей
свободой от идеологического диктата, тогда как науки
менее существенные для обороноспособности государства
продолжают испытывать сильнейшее давление. Функции
разделились: точные науки служат обеспечению материальными
средствами, гуманитарные — в первую очередь, разумеется,
общественно-политические — удерживают население
в состоянии постоянной боевой готовности. Первые все
больше теряют специфически ’’советские” черты, вторые
— продолжают их сохранять. В этой ситуации кажется трудным
восстановить стройность и цельность всеохватывающей
марксистской картины мира. Но оказывается, что ни поражение
’’советской” науки, ни многосторонность современных
научных поисков, ни угасание традиции проверки эталонами
марксизма-ленинизма каждой научной гипотезы,
— ничто и ни в чем не подрьюает истинности системы диалектического
материализма. Как выяснилось, ее самая
замечательная особенность — это беспредельная упругость,
многозначительная и неопровержимая неопределенность,
ничего не предрешающая для науки, но позволяющая безошибочно
объяснять все ее результаты ex post. И пока ученые
выписывают свои формулы, все реже ссылаясь на
284
Ленина, комментаторы не перестают истолковывать их по-
своему. Вот пример: О. Ю. Шмидт, один из отцов советской
науки о строении космоса, в разгар сталинизма восклицал:
’’Характерной чертой советской космогонии является ее
оптимизм”3. Соответственно, уничтожающей критике поддавались
западные, пессимистические космогонические теории,
между прочим, излюбленная Энгельсом теория ’’тепловой
смерти вселенной” . Одним из коронных аргументов в
этой критике был факт, что римский папа любит эту теорию4.
Но в самое либеральное время, в 1962 году, эта критика
сохранила свою силу, хотя и без вовлечения в дело
римского папы: говорится, что эта теория ’’буржуазна” ,
что она ’’пессимистична”, и в ответ ей выдвигается тезис о
вечности вселенной, что доказывается разработанной советскими
учеными теорией множеств, ’’опирающейся на идеи
Энгельса”5 . И до сих пор в популярных изложениях эта
позиция остается в силе.
Здесь неважно, насколько обоснованно научно убеждение
о вечности вселенной; важно, что по-прежнему наука делится
на ’’реакционную” и ’’прогрессивную” , ’’оптимистическую”
и ’’пессимистическую” . Идеологическая дисциплина
может не обязывать самих ученых в их научных трудах,
но она не может не обязывать массы. Идеологи все так же
толкуют, а в гуманитарных областях — полемизируют,
борются и уничтожают приемами, мало чем отличающимися
от ждановских. Перед нами налицо редкий пример того,
что часть бывает гораздо больше целого: теория общественного
развития, в принципе являющаяся частным случаем
всеобщей мировоззренческой системы, обуславливает и
определяет всю ее структуру.
И по сути дела, несмотря на всевозможные научные перевороты,
диалектический материализм в глазах своих стражей
так же далек от каких-либо потрясений и перемен, как
и в героический свой период.
В мои намерения отнюдь не входит критика диалектического
материализма. Я отыскиваю в советской НФ следы
нового подхода к действительности и, буде таковые обна-
285
ружатся, стараюсь определить их идеологическое содержание,
т. е. отношение к доктрине. Поэтому для наших целей
важно выделить лишь ее главные и постоянные черты.
В самом названии доктрины заключен и полемический ее
генезис и приблизительное определение постулатов. Диалектика
в ней противопоставлена метафизике, материализм —
идеализму. В противоположность идеализму, марксизм
утверждает, что мир по природе своей материален и являет
собой связное целое. Все известные и еще непознанные явления
в нем суть различные виды движущейся материи,
причем свойства материи и формы ее движения практически
бесконечны. Материальный мир существует объективно,
т. е. вне и помимо нашего восприятия; человеческое же
сознание отражает объективный мир, подчиняясь его законам.
Материя всегда первична, сознание всегда вторично;
мир материи бесконечен, но он принципиально познаваем,
наше знание о нем (его отражение в нашем сознании) относительно
точно, оно, правда, никогда не достигнет конечной
точки — ибо мир бесконечен, — но слагаемое из относительных
истин имеет значение истины объективной.
Материальный мир не находится в состоянии неподвижности,
но постоянно движется и развивается. Его движением
управляют законы диалектики. Каждое явление диалектично,
в нем скрыто противоречие, и борьба взаимосвязанных
противоположностей дает залог развития. Диалектическое
развитие — не простой процесс роста, а скачки на более высокие
уровни, внезапные переходы от накапливающихся
скрытых изменений к открытым, от количественных к качественным.
В принципе развитие проходит три стадии:
начальное состояние, отрицание его, и отрицание отрицания
— синтез на неком высшем уровне.
Последний закон, закон отрицания отрицания был отменен
в сталинское время (он говорит о том, что отрицающий
капитализм социалистический строй в свою очередь будет
предметом отрицания) и заменен теорией антагонистических
и неантагонистических противоречий: в социалистическом
государстве имеют место последние и разрешаться они
286
будут не катастрофическим скачком, не отрицанием, а путем
постепенного ’’перерастания” . Это дополнение к диалектике
прочно укоренилось в официальной доктрине6.
С философской точки зрения марксизм отличает прежде
всего его предельный сциентизм и связанное с ним сознательное
смешение онтологии и эпистемологии. Маркс вообще
отметал эпистемологические проблемы как схоластические7,
Энгельс же из двух вопросов, онтологического — о
сущности бытия, и эпистемологического — о предметной
истинности познания, сделал один — об отношении мышления
к бытию и назвал его ’’основным” или ’’высшим вопросом
всей философии”8. И Маркс, и Энгельс, и Ленин, а за
ними и все марксисты считают этот вопрос легко разрешимым
и уже разрешенным: материальный мир предшествует
сознанию и мышлению, порождает их и взаимодействует с
ними, а общественный человек, в своей коллективной практической
деятельности воспроизводя и изменяя мир, тем
самым доказывает истинность своего знания о нем. Таким
образом устраняются все сомнения, и философии остается
только лишь уточнять самое себя в унисон с новейшими
научными данными.
НФ по самой сути своей вращается в кругу вопросов о
строении мира, о его происхождении, о способах его познания.
О том, как ставит эти вопросы новая советская НФ,
я и хочу поговорить в этой главе. Прошу читателя извинить
изобилие цитат: мне кажется, что мысли писателей лучше
всего звучат в их собственном изложении.
В 1959—60 гг., когда процветала еще ’’ближняя” фантастика,
а инерция стереотипа уже захватывала новорожденную
утопию, в свет вышли несколько рассказов и одна повесть
Владимира Савченко. Молодой инженер, специалист по
полупроводникам сразу же вышел в первый ряд советских
фантастов. С тех пор Савченко своими регулярными, хотя и
довольно редкими вторжениями в литературу неизменно
возбуждает интерес критики и читателей. Ему отведен отдельный
том в 25-томной ’’Библиотеке современной фан-
287
тастики” - честь, которой удостоились из советских писателей
еще только И. Ефремов и братья Стругацкие.
На фоне еще не вполне осознавшей себя научно-фантастической
литературы первая книга Савченко выделяется
своей сдержанностью стиля и заботой о деталях, но прежде
всего — своей тематикой. Именно Савченко вернул советской
НФ тему эйнштейновского парадокса времени. Тогда,
когда большинство писателей захлебывалось от восторга
перед беспредельностью человеческого разума, Савченко
описал во ’’Второй экспедиции на Странную планету” такую
инопланетную форму мыслящей жизни, взаимопонимание
с которой практически невозможно.
Повесть же ’’Черные звезды” предваряет целую линию в
НФ, посвященную размышлениям о нравственности науки.
В повести рассказывается о том, как советские и американские
ученые одновременно и независимо друг от друга
делают капитальное открытие: лабораторным путем получают
идеальное ядерное вещество, состоящее из нейтронов:
’’нейтрид” , устойчивый против всех химических и физических
воздействий. Но если в СССР открытие находит применение
в мирных целях — создание сверхпрочной брони для
реакторов, непробиваемой оболочки для космических ракет
и пр., — то американцы первым делом строят из нейтрида
пушку для стрельбы по отдаленным целям. Кровожадный
генерал, заведующий работами, мечтает о войне в космосе,
но, по счастью, завод, изготовляющий нейтридные снаряды,
взрьюается. Похожий взрыв происходит и в советской лаборатории
— дело в том, что при облучении мезонами нейтрид
превращается в антивещество. Новое великое открытие
стоит жизни двум исследователям (при взрьюе американского
завода погибает целый городок с 700 жителями — так
провидение наказывает милитаристов!), но их товарищи
продолжают работу и достигают цели; симпатичный же американец,
разгадавший причину взрьюа, решает утаить от
своих работодателей открытие, сохранив его для прекрасного
будущего.
Как мы видим, в повести очень сильно влияние шаблонов
288
памфлетной литературы. Вся американская сюжетная линия
карикатурна, советская наука выступает в ангельском облачении,
концовка полностью отвечает стандартам светлой научно-
технической утопии. Тем не менее, важно в книге не
это. В ее основной части подробно нарисована жизнь исследовательской
лаборатории, ’’будни открытия” , неудачи, разочарования,
ход мысли ученых, — и это сделано безыскусственно
и увлекательно; Савченко удалось даже показать
довольно убедительные портреты героев, пользуясь, — пожалуй,
впервые в НФ — рецептами ’’молодой прозы” . И главное,
в ’’Черных звездах” отчетливо проступает реальная и
значительная проблема — проблема своевременности научных
открытий: Савченко говорит о том, что люди, общество,
наука еще не готовы к обузданию случайно найденной силы.
В ’’Черных звездах” проблема повернута к нам своей
очевидной, легко разрешимой стороной: это американцы виноваты
в плохом применении новой силы, мы давно готовы
к ней, способны с ней справиться, а атомное оружие делаем
только в интересах безопасности всего мира.
И все же о случайности в науке — а с ней связаны и вопрос
о несовпадении темпов научного и общественного развития,
и вопрос об ответственности за результаты открытий —
сказано вполне однозначно. Чувствуется, что для писателя
проблема более универсальна, чем сказано в книге, что памфлетная
схема служит, если не простой уловкой, то данью
простейшему способу организации темы.
Ощущение наше как нельзя лучше подтверждается при
чтении более поздних произведений Савченко, очень скоро
отказавшегося от поисков пути наименьшего сопротивления.
П
осле рассказа ’’Алгоритм успеха” (1964), ’’локальной
сатиры” на бюрократию в науке, написанную по канону
Ильфа-Петрова (в том же духе что ’’Волевое усилие” В. Ко-
лупаева), выходит в свет пьеса ’’Новое оружие” (1966) —
не совсем обычная для НФ форма, — где Савченко развивает
мысли, лишь мельком появившиеся в ’’Черных звездах”
.
289
Событийный скелет пьесы почти идентичен положенному
в основу повести. Так же идет параллельное повествование о
работе советских и американских ученых, так же происходит
одновременное открытие, сохранена даже в общих чертах
памфлетная линия. И все же перед нами совсем другое
произведение.
Несколько необычна уже завязка сюжета. Направленный
на стаж в США советский аспирант-физик, беседуя со своим
американским коллегой, высказывает внезапное соображение
о возможности воздействовать пучком нейтрино на стабильность
атомных ядер. О разговоре узнает ЦРУ и решает,
что советские ученые уже разрабатывают практическое
решение задачи, аспирант же прислан в шпионских целях,
чтобы выведать положение вещей у американцев. Подозрения
разведки подтверждает собеседник аспиранта, пользуясь
случаем получить дотации для своей лаборатории и развернуть
опыты. Аспиранта немедленно высылают из США.
Немного спустя приходит черед насторожиться советским
ученым: после скандала с аспирантом из американских
специализированных журналов исчезают все упоминания о
нейтрино. Вмешивается министерство. Дело попадает в личное
ведение замминистра. А тот немедленно определяет обстановку:
”Да-а, опять мы отстали от Штатов... Ну, ничего.
Догоним. Не впервой” , — и тут же дает формулу метода, с
помощью которого Советский Союз всегда и всех догонял:
”Умри, но сделай”9.
Начинается гонка.
Независимо от своей воли ученые втянуты в шестерни
неумолимой политической машины. Если в ’’Черных звездах”
одновременное открытие было чистой случайностью,
каких много в науке, то в ’’Новом оружии” случайно оброненное
слово начинает действовать как Рок, вершит судьбу
всего человечества. Ему одинаково подвластны и американцы
и русские. И той и другой стороной теперь движет уже не
столько забота о прогрессе, сколько страх.
Американский ученый говорит об этом так: ”Мы сейчас
роем два туннеля через одну и ту же гору. Каждый — свой. И
290
таимся, чтобы не был услышан стук наших кирок и лопат...
Безумный мир” . Это — буквальное повторение слов одного
из советских героев ’’Черных звезд”10. Но в ”Черных звездах”
вся вина за безумие секретности ложилась на американцев.
В ’’Новом оружии” мир так же безумен, но более сложен.
Когда директор советского института говорит о необходимости
обменяться информацией с американцами, замминистра
— представитель власти — пылко возражает: ’’Кто
же станет обмениваться информацией о нем (об оружии. —
Л. Г.) со своим потенциальным противником! Да еще в
такой обстановке! Я настаиваю: надо привести все в готовность”
.
Подразумевается, конечно, готовность к бою. И что тогда?
— спрашивает ученый. Политик же отвечает: ”Ну... это
вопрос уже не нашей с вами компетенции” 11.
Обе стороны держат пальцы на спусковом крючке, и уже
неизвестно, от кого зависит решение.
А речь идет о физической судьбе мира: открытие, увенчавшее
дикую гонку, может открыть дверь в утопию или же
в небытие; нейтринные установки могут активизировать
или стабилизировать ядра, иначе говоря, вызывать или прекращать
атомный распад. Пучок нейтрино по желанию может
превращать одно вещество в другое, с его помощью
можно лечить от всех болезней, добывать тепло и свет из
воздуха, навеки обеспечить благосостояние всех людей,
но можно и взорвать земной шар.
Вторая развязка более вероятна: американские и советские
подводные лодки уже заняли боевые позиции в Тихом
и Атлантическом океанах.
И тогда решение принимают сами ученые, и американские
и советские: через головы своих правительств они стабилизируют
всю Землю, прекращая всякий радиоактивный распад,
ликвидируют угрозу войны, принося в жертву свою
науку и мечту о всеобщем счастье уже в наши дни.
Разговор, несмело начатый в первой повести, — разговор
о последствиях научных открытий в нашей действительности,
об их своевременности, о случае, способном повлечь
291
мир к катастрофе, — подчинил себе весь материал пьесы;
’’Новое оружие” — один из самых ярких примеров нового,
серьезного подхода к миру в молодой НФ.
Тема пьесы это, по существу, тема ’’ученика чародея” ,
издавна известная, ставшая уже почти общим местом в западной
литературе, неисчислимое множество раз обыгрывавшаяся
в западной НФ; в советской же литературе трактовка
ее допускалась только в виде разоблачения западных поджигателей
войны. В ней необходимо присутствовало противопоставление
Запада и социалистического лагеря, а главный
пафос состоял в призыве к бдительности: враг не спит, но
мы готовы к сражению, мы сильнее и мы победим врага его
же оружием.
Невиданное дело — отказываться от сражения, как это
сделали ученые Савченко, не спросившись к тому же у тех,
кто держит власть в государстве. Еще невиданнее, что истерическому
страху и ненависти милитаристов антитеза подобрана
не очень уверенно. Конечно, советские ученые —
глубоко положительные персонажи, но и среди американских
физиков есть хорошие люди. Конечно, неистовым
генералам, наживающимся на войне финансистам, политикам,
которые сходят с ума, узнав о невозможности войны,
— таким людям в СССР нет места. Но почему, кроме ученых,
нет в пьесе положительных советских героев? Против кого
направлены слова директора советского института: ’’Политики,
администраторы, общественные деятели, которые
вместо того, чтобы будить в людях озабоченность за дела в
мире, занимались отвлечением умов, тоже спихнули ответственность
на нас” 12* Почему ответственность за будущее
Земли несут только ученые?
Не потому ли, что к ’’политикам” и т. д. исчезло доверие?
Этот ответ напрашивается при чтении пьесы; он дан открыто
в следующей книге Савченко, в романе ’’Открытие
себя” (1967).
На этот раз совершенно исчезает памфлетно-эпический
принцип развития сюжета, нет параллельного действия,
292
нет никакой военной угрозы, как нет и соперничества двух
держав. Все происходит в Советском Союзе. Экспозиция
романа сделана в ключе детектива, но лишь для того, чтобы
увлечь читателя, которому предстоит следить за сложными
зигзагами исследовательской мысли и еще более сложным
обсуждением нравственных вопросов.
Снова ученые делают великое открытие и снова оказывается,
что оно преждевременно. Речь идет об открытии био-
кибернетического способа синтеза человека, — не роботов,
не гуманоидов, а самых настоящих людей. Цель открытия,
конечно, не серийное производство новых людей, а
усовершенствование живущих; для этого достаточно заложить
в установку подключенную к пациенту нужную информацию.
И вот, все размышления — разговоры, монологи, дневниковые
записи главных героев, — составляющие основной
массив романа, вращаются вокруг двух проблем первостепенного
значения.
Как всякое открытие, синтез и изменение людей по желанию
может служить и благородным и порочным целям. Кто
будет применять открытие? Допустимо ли его обнародовать?
Да, конечно, — идут проторенным путем мысли героя,
- ”у нас общественность не допустит” плохого применения.
Но тут же приходит сомнение: ”А разве нет у нас людей,
которые готовы употребить все: от идей коммунизма до
фальшивых радиопередач, от служебного положения до
цитат из классиков, — чтобы достичь благополучия, известного
положения, а потом еще большего благополучия
для себя, и еще, и еще, любой ценой? Людей, которые малейшее
покушение на свои привилегии норовят истолковать
как всеобщую катастрофу”13. Иначе говоря, и в стране
всеобщего равенства есть люди, ненавидящие идеи равенства,
не допускающие мысли об усовершенствовании всех,
способные применить новое открытие во вред другим.
Есть среди них, несомненно, еще только стремящиеся к ’’известному
положению” , но есть и те, кто уже обладает привилегиями
и будет за них держаться любой ценой — ’’полити-
293
ки, администраторы, общественные деятели...” К ним-то
и относится вотум недоверия, высказанный в ’’Новом оружии”
.
Теперь недоверие идет еще дальше.
Вторая проблема, над которой бьются молодые открыватели
в романе, заключается в следующем. Все доступное усовершенствование
людей необходимо — это не вызывает
сомнения. Стремление к личному благополучию, ограниченность,
мещанство свойственны очень и очень многим. Есть в
книге сцена, когда гуляющему в центре города герою кажется,
что никого, кроме обывателей, нет вокруг, а может,
никогда и не будет: ”А что изменится в результате прогресса
науки и техники? /.../ Самодвижущиеся ленты тротуаров из
люминисцентного пластика будут переносить гуляющих от
объемной синерамы ’’Днепр” до ресторана-автомата ’’Динамо”
— не придется даже ножками перебирать... Будут прогуливаться
с микроэлектронными радиотелепередатчиками,
чтобы, не поворачивая к собеседнице головы и не напрягая
гортани, вести все те же куриные разговоры”14. Заметим
в скобках, что мысли эти в точности совпадают со словами
скептика из ’’Улитки на склоне” Стругацких о ’’хрустальных
распивочных и алмазных закусочных” . Савченко,
правда, спохватывается, и старается замазать впечатление
безысходности перед лицом всесущей обывательщины,
объясняя все мрачные мысли плохим настроением героя,
но подобные рассуждения возвращаются несколько раз в
романе. Одним словом, надо спасать людей, улучшить их
путем ввода соответствующей информации.
Да, но какой информации? Кто будет ее подбирать? Ясно,
как будто, что мещанин, например, неспособен сам для себя
составить программу улучшений: ’’как хотите, придется исправлять
вам не только тело, но и вкус, а заодно и ум и
чувства” . Еще хуже, если люди начнут совершенствоваться
для достижения привилегий. С другой стороны очевидно,
что ”в природе не существует ’’Человека Вообще” , что нельзя
брать всех под одну гребенку и создавать одной всеобъемлющей
программы. Один из героев предлагает такую
294
программу: подключить человека к информации об Искусстве
и сделать обратную связь, тогда все, что сотворено
было великими художниками, взаимодействуя с личностью
’’пациента” разовьет ее, поднимет на высоты духа и ума.
Однако, и эта идея отвергается: ”вы намереваетесь с помощью
информации Искусства упростить и жестко запрограммировать
людей! Пусть запрограммировать на хорошее:
на честность, на самоотверженность, на красивые движения
души, но все равно это будет не человек, а робот!” 15
И вообще, какое может быть усовершенствование, если
ученым неясно — в главе о литературном герое я писал об
этом, — каковы объективные критерии блага.
Все эти размышления выглядят довольно странно. Герои
явно выламывают давно открытые двери. Они не хотят помнить
о том, что уже есть вполне определенная программа
создания новых людей, определенный Кодекс строителя
коммунизма, что критерий блага существует и достаточно
отдать открытие в ближайший райком партии, чтобы употребить
его единственно правильным образом.
Но открытие хранится в тайне на протяжении всего романа.
Недоверие касается того, на чем стоит все советское общество,
— официальной коммунистической морали.
Отказ принимать навязанный, заранее и для всех одинаково
определенный идеал, а также лихорадочные поиски
нового, своего идеала — концепция, вокруг которой развивается
вся книга Савченко. Это — концепция ’’исповедальной
прозы” , где молодые герои идут за голосом своей
молодости, противопоставляют себя мещанскому окружению,
впавшему в рутину поколению родителей, официальному
диктату идеологии, где молодежь ведет борьбу за право
задавать вопросы и находить на них свои собственные
ответы. ’’Открытие себя” во всем — в характерах персонажей,
в ситуациях, коллизиях, языке, наконец, в высказываемых
мыслях — следует заповедям ’’молодой прозы” ,
это ее наиболее полное и удачное воплощение в советской
НФ. И в соответствии с каноном, молодые герои романа
295
умеют ставить очень обескураживающие вопросы, но ответы
на них дают, в конце концов, вполне традиционные.
’’Открытие себя” заканчивается счастливым финалом.
Поставив себя в кричащее противоречие с собственными
выводами, на последних страницах герои решают открыться,
постепенно привлекать к своей работе ’’честных и умных” ,
постепенно собирать информацию для ’’машины-матки” —
составлять ’’Универсальную Программу Совершенствования
Человека” . Поразительно, насколько и сама идея, и
формулировка напоминают схему ’’Ускомчела” (Усовершенствованного
Коммунистического Человека), которую
выдумывал сошедший с ума большевик в раннем, написанном
почти за полвека до книги Савченко, рассказе И. Эрен-
бурга. Вспоминая ’’Ускомчел” , высмеивал болезнь ’’революционного
сочинительства” сам тов. Сталин в своем труде
’’Вопросы ленинизма” .
Несмотря на гораздо больший реализм повествования,
’’Открытие себя” подходит ближе, чем, например, ’’Новое
оружие” , к ’’чистой НФ” в нашем определении. С уважения
достойной последовательностью и большим внешним правдоподобием
персонажи книги исследуют возможности
развития гипотетической ситуации, возникшей в результате
фантастического изобретения. Герои пытаются мыслить
строго логически, обосновывать каждое свое утверждение.
И эта ’’научная” логика, отсутствующая в таком чистом — а
значит, и убедительном — виде в ’’нормальных” книгах
писателей четвертого поколения, неизбежно ставит героев
Савченко в затруднительное положение. Вращаясь в круге
понятий, очерченном идеологией, они очень логически приходят
к сомнению и даже отрицанию, то и дело переступая
дозволенные границы. А под конец, чувствуя непреодолимость
противоречия, они отступают, отказываются от своего
бунта и предпочитают, вопреки логической очевидности,
утешаться тем, что ”в сущности, для хорошей жизни уже
больше сделано — меньше осталось!” 16
Это несоответствие между глубоким вопросом и абсолютно
неоправданным, плоским и обманчивым ответом видно
296
в романе Савченко с еще большей отчетливостью, чем в первых
книгах Аксенова или Гладилина, именно благодаря его
стремлению к логической связности.
Писатель, по-видимому, очень хорошо ощутил противоречие.
Во всяком случае, он решил подойти к своим вопросам
с другой стороны.
И если, оставаясь хорошей книгой, ’’Открытие себя”
проигрывает в сравнении с некоторыми другими произведениями
второй половины 60-х гг., то следующие повести Савченко
- ’Тупик” (1972) и ’’Испытание истиной” (1973) -
составляют самое примечательное явление в НФ этих лет.
Во всех рассмотренных нами до сих пор вещах Савченко
много говорится о случайности в науке, о несоответствии
уровня науки с уровнем нравственности людей, о проблемах,
возникающих вместе с научными открытиями. Но
никогда не подвергается сомнению значение науки для людей,
значение и истинность научного познания. Совершенно
неожиданно отношение к науке в ’’Тупике” и ’’Испытании
истиной” радикально меняется. В центре обеих повестей
стоит критика науки, претендующей на объяснение мироздания.
Физик-теоретик Чекан, герой ’’Тупика” заявляет, что вся
современная физика, так назьюаемая строгая наука, вблизи
оказывается мистикой, чем-то похожим ”на Пантеон физических
верований, что ли, на полное собрание религий” , в
котором механика играет роль христианства с богом Ньютоном
и его ’’заместителем” Эйнштейном, электродинамика
— роль ислама с аллахом Максвеллом, квантовая физика
— это индуизм, где богов столько, сколько уравнений и
постулатов, а ядерная физика и физика элементарных частиц
— ’’это совсем темное дикарское язычество” , где каждый
определенный факт становится божком, духом, лешим
и т. д.1'. Наука имеет дело с рядом фактов, но не видит их
связи, она затрудняется понять самое главное. Физик-теоретик
Калужников из ’’Испытания истиной” жалуется: ’’Что
есть ’’вещественные тела”? Скопление ’’элементарных час-
297
тиц” . А что есть ’’частицы”? Мельчайшие частицы ’’вещества”
. А что есть ’’вещества”? Замкнутый круг, из которого
следует, что мы не только не знаем, что такое частицы, но
не знаем и что такое ’’тела”18.
Но наука походит на ’’собрание религий” не потому, что
ученые видят в мире много непонятного, а потому, что ’’непонятное
возводится в ранг объективной реальности, которую
понять не дано” . Считается, что точно описать математическим
уравнением какое-нибудь явление - значит, понять.
Вовсе нет. Если такие уравнения сами необъяснимы, если
они не выведены из некого общего закона, а угаданы, то
они и есть боги, то, во что мы верим, не спрашивая. Конечно,
официально советские ученые не могут быть богопоклон-
никами, они ”не мистики — материалисты и вполне на
платформе. Недаром же в первой главе учебников и монографий
ведутся пышные речи об объективной материальности
мира, о первичности материи, вторичности сознания...
и прочая, и прочая”19. А потом ”мы явно или неявно, то
есть не в первой, так во второй или третьей главе, признаем
существование бога”20, создавшего мир таким, каким он
предстает перед нами.
Герои Савченко не хотят верить в Бога, им кажется, что
религиозная вера не пристала ученым; и будучи последовательными
в своих убеждениях, они отвергают и позитивистского,
физического бога науки.
Наука не понимает мира, говорят они, а мы хотим его
понять.
Что происходит, если слепо уверовать во всесилие науки,
в ее способность раскрыть суть мировых процессов, в ее
объективную истинность — рассказывается в ’’Тупике” ;
о том, что может получиться, если человек отбросит узкую
научную полуправду и возьмется за поиски настоящей
правды, и рассказывает ’’Испытание истиной” . Обе повести
дополняют друг друга, и по стилю они настолько схожи,
что вполне могут считаться двумя частями одного целого.
’’Тупик” — это, как шутливо определяет сам автор в под-
298
заголовке, — ’’философский детектив в 4-х трупах” . Начинается
он таинственно и традиционно: в некоем институте
теоретических проблем без каких-либо видимых причин
умирает от остановки сердца директор-академик, а затем
— его заместитель и научный секретарь, изучавшие непосредственно
перед смертью предсмертные записки академика.
Эти записки, разумеется, и дают единственный ключ к решению
загадки.
Исчезает без следа ученый-физик в ’’Испытании истиной” .
Единственное возможное объяснение — он погиб, дезинтегрировался
в результате прямого попадания антиметеорита
/!/. После него остались блокноты с заметками, и следователь
восстанавливает картину событий на их основе.
И тут и там причиной смерти оказывается открытие учеными
окончательной формулы строения мира.
Академик из ’’Тупика” работал над теорией ’’геометри-
зации” времени. Проще говоря, в своих выводах он принимал,
что время — не что иное, как четвертое пространственное
измерение. Такое предположение можно сделать, если
выйти из того, что мир — это океан материи, объективно
существующий во времени так же, как существует и в пространстве.
Есть как будто бы разница: объемное пространство
обозревается во всех направлениях, временное же измерение
’’видно” только в одну сторону от наблюдателя
— в прошлое. Но ведь такое видение относительно: для
’’меня сейчас” будущего как бы нет, однако реально существующее
’’сейчас” также было несуществующим будущим
для ’’меня — год назад” . Для точки ”я — год назад”
одинаково реальны и однозначно известны и прошлое и
будущее, по крайней мере за истекший год. Весь наш эмпирический
опыт свидетельствует о том, что во все прошлые
моменты каждое тело — и, конечно, люди, и каждая их часть,
вплоть до клетки — занимало определенное место в пространстве.
Если к такому телу прикрепить фонарик, то в
4-мерном пространстве-времени оно прочертит линию —
траекторию, и для всех тел эта траектория будет единственной;
если же продолжить ее вперед по направлению време-
299
ни, то и там она будет однозначна — ’’ведь когда это будущее
станет прошлым, она будет только такой” .
Я повторяю аргументировку героя ’’Тупика” потому, что
внешне логическим и остроумным способом она подводит и
его и читателя к мысли, имеющей, на мой взгляд, капитальное
значение.
Вот эта мысль: ”Мир существует в пространстве и времени.
Существует целиком — холодный застывший мир материи,
в коем уже все есть”. Все - значит, и будущее: ’’материальное
будущее, ибо нематериального не существует”21.
Если мир материален, если он объективно существует,
если он един — а эти аксиомы и есть сердцевина диалектического
материализма, — то в нем существует все целиком,
все задано однозначно, все записано, все навсегда предопределено.
В таком мире нет свободы.
Все наши поступки, все колебания и выборы мнимо свободны,
ибо до того, как возникает перед нами возможность
выбора, и он сам, и наше решение, и его последствия уже
существуют в материальном будущем.
Ученые умирают потому, что глубинное проникновение
в эту идею — доступное, собственно, только ученым, воспринимающим
абстрактные идеи не только умом, но и чувствами,
сердцем, всей душой, — ведет к признанию абсолютной
несвободы мира, лишенного движения. А неподвижность
— это смерть. Отсутствие свободы — это смерть.
И не помогает трюизм о том, что свобода — осознанная
необходимость. Дойдя до логического конца мысли, осознав
необходимость несвободы, ученые начинают ощущать каждый
удар своего сердца как нечто заданное, не свое, уже
свершившееся, — и тогда появляется психосоматический
синдром, самопроизвольная остановка сердца.
Человек не принимает необходимости несвободы.
Едва не погибает Чекан, молодой физик, помогая своему
другу-следователю разобраться в записках академика. Он
идет за ходом мысли и, загнанный в тупик научной логикой,
уже чувствует приближение смерти.
300
Но он сопротивляется и выходит из тупика.
Неожиданно, он отдает себе отчет в том, что современная
наука не просто не понимает мир, но она в принципе неспособна
его понять. Мир бесконечен, а мы, наш разум — конечны,
все наши ощущения, впечатления, знания о мире мы неизбежно
обобщаем, формализуем, усредняем; наш разум
- продукт нашей ограниченности, таково свойство нашего
мозга, что он стремится ’’сводить сложное к простому, разнообразнейшую
реальность к упрощенной модели” , мы можем
понять только простое и нам хочется, чтобы все было
по Аристотелевой логике, где третьего не дано, ’’хотя знаем
ведь, что бывает дано и третье, и седьмое, и надцатое” .
Выхолощенный нашим аппаратом мышления, нашей
’’наукой” , упрощенный мир холоден и мертв. В действительности
же, он сложен и нельзя сказать что он ’’устроен разумно”
, нельзя сказать даже, что он ’’устроен” . В герое рождается
интуиция мира, который сложнее, чем наше понятие
’’существования” , мира существующего и не существующего
в одно и тоже время, мира, который непрерывно возникает,
исчезает, возникает снова. Это мир живой, непоследовательный,
по-настоящему диалектический. Всякая попытка замкнуть
его в логическую схему обречена на провал.
И поняв это, Чекан оживает. В нем снова пробуждается
заглушенное было ’’пропитывающее нас чувство жизни...
темное, нелогичное, скорее всего неграмотное — поскольку
оно свойственно и червю, и букашке, — но бесконечно более
умное, чем любая логика, чувство” .
И когда Чекан, отдавшись во власть ’’темному чувству” ,
поет в финале гимн Жизни и существующему-не-существую-
щему миру, когда он восклицает: ”ты непознаваем до конца,
мир, и будь таким, ибо в вечном поиске Жизнь, а в конечном
познании — смерть”22, — эти слова, сакраментальные
для каждого диалектика-марксиста, приобретают совсем
новый смысл.
Неподвижному миру, описанному в ’’Тупике”, противопоставлен
мир весь в движении, принцип строения которого
301
открьюает Калужников, герой ’’Испытания истиной” . Так же
разочаровавшись в возможностях современной физики, он
интуитивно схватывает самую суть: материя едина, в ней все
взаимосвязано, все течет и меняется. Эти умозрительные азы
материализма следует воспринимать буквально: есть вязкая
материальная среда, включающая и пространство, и время
— единая среда, в которой четырехмерное волнение образует
сгустки, струи, завихрения — движущиеся частицы, тела, нас
самих с мыслями и чувствами. В этом океане вечного движения,
где из маленьких волн слагаются большие, из тех — еще
большие, из валов — серии валов, из них — шторм, тоже
волна, имеющая начало и конец, и человек - волна, поддающаяся
влиянию всего, что ее окружает.
Человек не ощущает себя частью целого, ибо не охватывает
целого.
Ему мешают все внешние влияния, он и сам занимается
частностями, из множества гармоник вселенского волнения
выбирает отдельные, близкие явления.
Но человеку свойственно создавать в себе образ мира,
модель среды; эта модель — также материальна, также
является четырехмерным волнением, но она может быть
более или менее полной, более или менее соответствующей
’’мировому волнению” . Если модель неполна или ложна, для
поддержания ее требуется энергия; если модель приближается
к истине, то есть начинает совпадать с одной из гармоник
вселенной, возникает резонанс. А поскольку резонансные
колебания почти не нуждаются в питании энергией, то
собранная в сознании энергия высвобождается в момент
сближения волнения-модели и волнения-реальности.
Так объясняется прилив сил у человека, нащупавшего
правильное решение какой-либо жизненной задачи; объясняется
интуитивное прозрение. Понимание даже частности
увеличивает силы человека. Если же всецело проникнуться
мыслью о единстве мира, о своей причастности к нему, о
бесконечности и всесущности волнения вселенской среды,
если вдруг понять все, — тогда освободятся неисчерпаемые
запасы энергии.
302
Калужников открывает ’’истину о мире и о себе” , его
открытие — это идея, ’’которая позволит людям понять, кто
они и что, зачем живут, что должны и что не должны делать,
чтобы жилось хорошо. Идея, которая может сообщить людям
спокойную ясность и по-настоящему разумное могущество”
23.
Однако, прежде он сам должен испытывать себя истиной.
Привычно анализируя идею в научных терминах, он вдруг
замечает, что удаляется от понимания, снова размениваясь
на мелочи. Нужно действовать по-другому. ”Не поможет
здесь математическая теория, невозможны здесь опыты с
приборами, ничего не дадут и обсуждения с коллегами.
Только жизнью всей ты сможешь достичь резонанса-понима-
ния”24.
И многообещающий, занимающий видное положение ученый
с обеспеченной карьерой бросил все и стал бродягой.
’’Пусть влечет меня поток жизни куда угодно и как угодно,
я не буду отныне выгадывать в нем струю получше, а
буду только наблюдать, вникать, познавать. Ходить - и думать,
лежать — и думать, смотреть — и думать. Об одном” .
Несколько месяцев Калужников скитался без цели,
бродяжил по стране, до тех пор, пока в один прекрасный
день не почувствовал приближения разгадки. Он перестал
ощущать себя, но ощутил в себе толчки мирового ритма, и
стал растворяться в нем. ”И бесконечность пространства
открылась ему, открылась в понимании! /.../ И бесконечность
времени открылась ему. Сейчас он прозревал начала и
концы. /.../ Ясность нарастала чудесной, никогда не слышанной
музыкой, переливами тепла в теле, приступом восторга
и грозового веселья...”25.
На месте, где был ученый, блеснула вспышка — впоследствии
объясненная другими учеными как взрью антиметеорита,
— беспредельная энергия понимания освободилась. Ученый,
проникший в тайну мироздания, исчез. ’’Среда приняла
Первооткрывателя в себя” .
Почти невозможно поверить, что финал ’’Испытания исти-
303
ной” написан так, как он написан. Полушутливый, постоянно
перебиваемый наукоподобными рассуждениями тон
повести вдруг сменяется торжественной, эпической напевностью,
евангелическими интонациями. Евангелическими в
самом прямом смысле, ибо говорится в финале о Вознесении
на небо.
Религиозные нотки у писателя, начисто отрицающего всякую
религию, всякую идею Бога? У писателя, непрерывно
напоминающего о материальности мира?
До крайности противоречивы мысли, высказываемые в
повести.
Как совместить, например, жалобы на наше непонимание
самого элементарного в строении мира и объявление великим
открытием теории единой материальной среды? Не
зная, что такое ’’вещества” , ’’тела” , ’’частицы”, еще меньше
мы знаем, что такое ’’материя” , и ’’материальность” мира —
такое же пустое понятие, как и все остальные.
Совсем непонятно, как истина о всеобщей материальности
и о мировом волнении может открыть людям смысл их
существования, дать им спокойствие и мудрость. Тем более,
что — как доказывает своей судьбой главный герой — полное
понимание ведет не к ’’разумному могуществу”, а к
физическому исчезновению.
А Теория Интуитивного Резонанса? В ней недвусмысленно
сказано, что истинность нашего представления о мире
подтверждается приливом энергии, чувством восторга, все-
сильности, снисходящей ’’благодати” . В таком случае правильнее
всего понимали мир христианские подвижники и
святые, с которыми никто еще не сравнился по восторженности,
вере в свои силы, по неиссякаемости энергии. Трудно
предположить, что Савченко так-таки ничего не слышал хотя
бы о Симеоне Столпнике.
Так или иначе, теория понимания-резонанса гораздо больше
подходит к религиозному восприятию реальности, чем
к восприятию прагматическому, научному, по словам самого
Савченко, измельченному на частности.
Многое становится понятным, если взглянуть на филосо-
304
фию ’’Испытания истиной” как на продолжение идей ’’Тупика”
.
Ученые-логики в ’’Тупике” умирали потому, что слепо
уверовали в материальность всего в мире. То же самое, как
будто, гласит Калужников, и он также умирает, но правота
на его стороне, он совершает подвиг, а ученые умирают от
ужаса. Одна теория ложна, другая — истинна. В чем же разница?
Для Калужникова главное в его теории то, что она
отвергает предопределенность, что она связана с представлением
о вечном, ни к чему не сводимым движением. Не-
прекращающееся изменение материи — единственное ее
свойство, о котором мы знаем с точностью. Но ’’всякое
изменение есть крен в сторону несуществования того, что
было”26: так утверждал Чекан, нашедший выход из тупика
”геометризованной материи” в отказе от логики, от неизбежности
существования материального мира. Он говорил
о существующем-не-существующем мире. В этом контексте
с тем же правом и смыслом можно говорить о мире мате-
риальном-нематериальном. Думается, что в понимании
Калужникова ’’материальность” мира — термин, охватывающий
бытие и небытие мира, два его диалектических состояния,
а ’’мировое волнение” — это переходы от одного состояния
к другому. ’’Материальность” — понятие условное.
И так же условна смерть Калужникова. Сам он верил, что
’’отдать себя, чтобы познать, — это не смерть. Это не исчезнуть,
а превратиться в иное... потому что вечна жизнь во
вселенной!”27. Калужников не умирает, не выпадает из живого
мира, наоборот, он сам становится вселенной. Умер он
только для тех, кто не познал истины.
Если принять условность терминов ’’материя” и ’’смерть” ,
философская концепция Савченко проясняется, обретает
цельность.
В центре ее стоит идея о бесконечности мира. Мир этот
одновременно и существует объективно, и не существует,
он материален и нематериален; его ’’материя” как бы соответствует
монистической ’’субстанции” в системе Спинозы,
сочетавшей параллельные свойства тела и духа. Веществен-
305
ный бесконечный мир составляет единое целое, некое Единство;
все в мире — частные проявления Единства, одно из
таких проявлений — человек. Как разумное существо человек
конечен, и поскольку нельзя конечным измерить бесконечное,
постольку и разум — наука — не может приблизиться
к пониманию мира. Но кроме разума в человеке есть ’’темный
инстинкт жизни”, и в этом-то удивительном сочетании
проявляется частица бесконечности, замкнутая в человеческом
сознании. Человек искони стремится к высшему познанию
словно бы для того, чтобы преодолеть оторванность
от Единого Целого. Такое познание — высшее благо, оно достигается
не умом, а всей жизнью, и не общественной деятельностью,
а отшельническим подвигом самоуглубления, и
в конечном итоге означает слияние с вселенским Единством.
Савченко нигде полностью не высказывает того, что я
только что изложил. Тем не менее, очень ясно и неоднократно
он говорит, что его идеи касаются всего — человека, его
жизни, его отношений с миром, — иначе говоря, придает им
философское значение. Изложенное ни в чем не противоречит
выводам его героев, более того, мне кажется — и с помощью
многочисленных цитат я пытался это показать, — что
иное толкование ведет к элементарным противоречиям.
Но если так, то эта философия имеет очень мало общего
с диалектическим материализмом. В ней сильно диалектическое
начало: диалектика материального-нематериального,
бытия-небытия, части и целого, но это диалектика монистического
пантеизма, диалектика Плотина, а не Маркса. Именно
для Плотина высшей целью всякой жизни было воссоединение
с первичным Единством. Есть в построениях Савченко
черты метафизики Спинозы — образ единого мира в двух
ипостасях. Есть и Бог у материалиста Савченко — это жизнь,
ибо, как он говорит, ’’жизнь и есть извечное волнение материи”
28. Два названия одного и того же: жизнь и мировое
волнение, как у Спинозы — Бог и природа. В ’’отдельном”
Боге нет нужды: он повсюду и в разной мере проявляется
во всем.
Впрочем, не будем заходить слишком далеко. Незачем
306
заполнять пробелы, которых не счел нужным заполнить сам
писатель. Незачем представлять его размышления законченной
системой.
Подчеркнем же очевидное: резкое расхождение с диалектическим
материализмом, данным в официальной доктрине.
Сама по себе мысль об ограниченности человеческого разума
стоит в противоречии с доктриной. Мысль эта по-видимому
выросла из размышлений о случайности научных открытий,
из разочарования в способностях науки и ученых решить человеческие
проблемы, из того, что было сказано в первых
произведениях.
Но марксизм считает возможности человеческого разума
безграничными. Поскольку же сознание, подчиняясь всеобщим
законам, более или менее точно отражает реальность,
то мы знаем то, что можно и должно знать в данный исторический
момент. Только в следующей, коммунистической
стадии ’’одной науки о человеке”, которая охватит все, только
тогда можно будет признать метод формализации устаревшим,
пока же он необходим, неизбежен и объективно
верен, без него не будет и новой науки29. У Савченко утверждается
нечто иное: он бросает вызов всяким притязаниям
на научное познание мира и не желает ждать — до сих
пор наука лишь удалялась от понимания, откуда уверенность,
что в будущем она раскроет истину?
Больше, чем крайний научный скептицизм, несовместима
с доктриной именно эта вера в существование некой заповедной
истины, которую нужно раскрыть.
Диалектик-марксист прекрасно знаком с идеей о непознаваемости
мира. Но эта идея связана с очень простым представлением
о бесконечности вселенной: нет конца, значит,
всегда найдется, что познавать. Собственно, именно холодный
материальный мир, в котором все подчинено закономерности,
все уже дано, но не все еще познано, мир, одно
предчувствие которого может убить человека, — такой мир
и описывается доктриной диалектического материализма.
В повестях же Савченко есть какое-то подобие пари Пас-
307
каля: мы не можем знать, есть ли в мире тайная, сокровенная
Истина, но для нас лучше жить так, как будто она есть —
тогда мы, может быть, получим награду, удостоимся благодати,
приобщимся к Истине, объединимся со вселенной.
Тут речь не о непознанности мира, а о непостижимости
его: человеку нужна вера в непостижимое, весь смысл жизни
— созерцание непостижимого, а оно и есть сама жизнь.
Это чувство подлинной, метафизической, может быть,
даже мистической Бесконечности.
Замечательная книга М. Булгакова ’’Белая гвардия” кончается
такими грустными и мудрыми словами: ’’Все пройдет.
Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а
вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется
на земле. Нет ни одного человека, который бы об этом
не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд
на них? Почему?”
Диалектический материализм знает о звездах, но не смотрит
на них.
Главное в героях Савченко то, что сквозь туман догматических
заклинаний они разглядели звезды.
¦
Савченко, на мой взгляд, — один из самых интересных
представителей новой НФ. Но не он один пишет ’’философскую
НФ”. Не занимаясь подробным анализом, позволю себе
привести лишь несколько примеров.
За несколько лет до Савченко о кризисе современных
научных методов писали в повести ’’Возвратите любовь”
(1966) М. Емцев и Е. Парнов. Свой скептицизм они аргументировали
так: каждое явление диалектично, но для того,
чтобы изучить его, ученый разрьюает единство, рассматривает
лишь одну его сторону, оставляя без внимания все, что
мешает продвигаться вперед исследованию. На следующем
же этапе все повторяется. Мы отбрасываем что-то, познавая
нужное нам. Но может быть, среди отвергнутого кроется
нечто жизненно важное? ”С каждым днем мы находим все
308
больше, но еще больше мы теряем с каждым днем” . Ставится
вопрос: ’’Как избежать порочного выбора и получить
истину сразу?” Писатели сомневаются: ”не есть ли наш
путь единственно возможный для человека?”30 — но и надеются,
что ’’непостижимое единство” времени и мира уже
познано, знание о нем хранится где-то в глубине сознания,
и может случиться, что человеку вдруг и сразу откроется
истина.
Все о той же великой ИСТИНЕ, непостижимой для научного
мышления, об интуитивном наитии, поднимающемся
над миром и охватывающем весь лабиринт разорванных
фактов и явлений, говорит и М. Анчаров в своих повестях
”Сода-солнце” (1965) и ’’Голубая жилка Афродиты”
(1966), где отдаленным эхом звучат слова Достоевского о
том, что только красота спасет мир. Странный персонаж,
клоун-романтик из ”Сода-солнце” своим появлением среди
степенных ученых вызывает ошаление, непонятную тоску
и — разговоры о Сведенборге и Якове Беме! Под влиянием
этого персонажа у главного героя этой повести рождается
рассуждение, совершенно безжалостно расправляющееся с
механистической концепцией бесконечности: ’’Ищем спасения
в бесконечном поиске, но бесконечный поиск — это бесконечный
голод. Конечно, приятно представить впереди
необыкновенное блюдо с постоянной притягательностью,
но не напоминает ли это клок сена, привязанный перед носом
осла? Бесконечная дорога, бесконечный голод и клок
сена, который удаляется с той же скоростью, с которой приближается
к нему бедный, бесконечно милый осел. Почему
мы должны ожидать от будущего решения сегодняшних
проблем? Ведь у будущего будут свои проблемы, только в
нем не будет нас”31.
Много произведений, в которых встречаются подобные
мысли. Любопытно отметить, что идея о мировой несвободе
вследствие объективного существования времени мимолетно
проскальзывает в повести ’’Ошибка размером в столетие”
(1966) Н. Сухановой, но решается в ней парадоксом.
Совершенно определенно, однако, можно сказать, что совет-
309
ских писателей нового толка интересуют одни и те же, вечные
вопросы, и все они так или иначе связаны с понятиями
бесконечности и сокровенной истины о мире.
Бесконечность внутри человека открывает в нескольких
своих рассказах А. Шалимов. Один из них так и называется —
’’Окно в бесконечность” (1972). Решив способ преображения
’’биотиков” мозга в видеоимпульсы, герои рассказа
построили установку для сверхскоростной записи на кинопленку
этих импульсов. Огромные скорости записи дают
возможность раскодировать на экране информацию, скрытую
в подсознании. Это и есть ’’ключ к внутреннему миру
человека. Ключ, которым можно распахнуть окно в бесконечность”.
Трудно решиться заглянуть в это окно, страшно
подумать, что там: ’’бесконечность всезнания или бесконечность
непроницаемого мрака? Или это одно и то же?..”32.
В рассказе сказано, что все, кто просмотрел записи, — в том
числе и главный герой, — сошли с ума. Неизвестно, что они
увидели, но ясно одно — истина о внутреннем мире человека
должна быть скрытой, если не для него самого, то для всех
посторонних, для науки, для других людей. Путем самоусовершенствования
— как говорится в другом рассказе Шалимова
— можно проникнуть в себя, но и тогда останется в
человеке нечто Непостижимое.
Интересно, что прямо противоположное мнение, т. е.
взгляд на человека как на сложную кибернетическую машину,
так же не по душе официальным философам. Известный
физиолог и специалист по кибернетике Н. Амосов в романе
’’Записки из будущего” (1966) говорит о практической
возможности искусственного моделирования как человеческого
организма, так и мышления. Один из персонажей
книги рисует оригинальную (для советской НФ) картину
кибернетической утопии, в которой моделируются все общественные
процессы, кибернетически решается проблема
счастья и т. д. Надо сказать, что в своем научно-фантастическом
романе Амосов гораздо менее решителен в утверждении
машинных идеалов, чем в более научных публикациях,
310
где с полной уверенностью говорится, что ”в самом общем
виде человек — это автомат с программным управлением
/.../. Иначе: человек — это самообучающаяся и самонастраивающаяся
система”33. С этим взглядом очень сильно спорят
диалектики-марксисты. Дело в том, что если человек — автомат,
то в основе его деятельности ’’лежит программа, заложенная
в нем самом, а не где-то вне его” 3^. Такого допустить
нельзя, ибо именно извне закладывается в человека
программа, — программа, определенная для него другими
людьми.
Дискуссия здесь касается важной части доктрины — ее
эпистемологии. В марксистской ее трактовке есть одно слабое
место: она не объясняет, как возникло мышление в
самом начале, как явился в мире разум, качественно отличный
от всего бывшего. При всех объяснениях всегда в начале
истории человечества остается место необъясненное.
Писатели НФ давно заметили его и решают вопрос либо гипотезой
о внеземном происховдении людей (Казанцев),
что ничего не решает, а отодвигает вопрос, либо вмешательством
инопланетной цивилизации, искусственно подтолкнувшей
развитие антропоидов на Земле (Снегов) — что
предполагает существование вечного Разума во вселенной —
либо теорией мутации обезьяньего мозга (Анчаров). Есть
даже рассказ — ’’Закат Мигуэля Родригеса” (1968) А. Смо-
ляна — в котором люди — это органические роботы, кем-то
построенные, то есть, собственно, те самые кибернетические
машины, которые мы собираемся строить. Легко заметить,
что каждое объяснение потенциально может содержать идею
некого божественного вмешательства.
Среди многих парадоксов и идей есть такие, которые касаются
уже не только одного момента в теории познания,
а ее сути.
Для того, чтобы познавать внешний мир, человек должен
уметь отграничить свое ”я ” от окружения. Научиться этому
человек может только лишь через посредничество другого
человека, только в общении, только как общественное су-
311
щество. И в то же время, общение такое есть общение овеществленное,
оно реализуется через взаимодействие с внешним
миром. Нельзя оторвать внешний мир от познающего
его человека, нельзя представить себе индивида, познающего
вне связи с общественной средой, вне существующей культуры,
нельзя, наконец, обособить общественного, коллективно
действующего человека от природы. Таким путем
человек становится субъектом истории. Маркс отказался
отвечать на вопрос о предметной истинности нашего познания,
считая его плохо поставленным; не отвечая, Маркс
пошел другой дорогой и создал своего рода эпистемологию
практики. Энгельс несколько изменил идею, утверждая,
что, если человек воспроизводит для своих целей явления
внешнего мира, то он делает из ’’вещи в себе” — ’’вещь для
себя” , и тем самым доказывает объективную истинность
своих представлений об этой вещи. Заметим, что именно
эту истинность ставит под сомнение герой ’’Испытания истиной”
: воспроизведение без понимания для него равно идолопоклонству,
а в поисках прозрения он не мир превращает
в ’’вещь для себя” , а сам становится как бы ’’вещью для
мира” .
В диаматовской эпистемологии есть еще один аспект,
привлекающий внимание фантастов. Доктрина оставляет
недосказанным следующее: что было до того, как появился
человек? Мы можем говорить об объективности мира вне
нас сейчас, пока мы взаимодействуем с ним, можем в нашем
знании опираться на опыт прошлых поколений, но что было
раньше?
Очень мучился этим вопросом Ленин, для которого главной
целью философских занятий было уберечь девственность
марксистской доктрины. Пользуясь очень противоречивыми
доводами, Ленин ’’доказал” — и для его последователей
сомнений в этом уже нет, — что мир объективно существовал
и существует вне нашего взаимодействия с ним
(восприятия). Так марксизм спасся от бездонной пропасти
махизма и берклианства.
Итак, с одной стороны, мы имеем объективный мир, с
312
другой — наше взаимодействующее с ним практическое познание.
Не может ли случиться так, что в нашей практической
деятельности познания мы просто не замечаем — не имея
случая взаимодействовать — каких-то законов, явлений,
процессов?
Вот вопрос, поставленный некоторыми советскими фантастами.
Герой рассказа Л. Обуховой ’’Птенцы археоптерикса”
(1967) тщетно пытается убедить ученый совет Земли приостановить
наступление на космос, ’’пока не будет точно
известно, что земляне не разрушают, не топчут чьи-то чужие
миры, существующие, может быть, в другом времени и в
ином измерении”35.
А у Д. Биленкина есть рассказ, который назьюается ’’Чужие
глаза” . Земная экспедиция приближается к неизвестной
планете. Прежде, чем спуститься, исследователи должны выполнить
ряд операций, предусмотренных сводом правил для
звездоплавателей. Между прочим, необходимо произвести
подробную съемку планеты. Земляне запускают вокруг
планеты различные локаторы. Оказьюается, на планете есть
жизнь, есть и жители: редчайший случай в космосе. Земляне
радостно садятся на планету, где их ждет неожиданное открытие:
все ее обитатели слепы, причем очевидно, что ослепли
они недавно и неожиданно. Только под конец рассказа
земляне догадьюаются, что локаторы вели съемку в таком
диапазоне частот, который в условиях этой планеты с темным
радиосолнцем был равнозначен нестерпимо яркому
свету: ”мы сами ослепили здешний мир, ибо были убеждены,
что особенности человеческой физиологии — наше и
только наше личное дело”36.
Если вдуматься, рассказ Биленкина — один из самых
страшных в советской НФ. Он как бы дает ответ герою Обуховой:
да, точно известно, что земляне одним своим приближением
уродуют чужую жизнь, в погоне за ’’практическим”
познанием они разрушают чужие миры.
Не лучше ли избежать такого способа познания?
313
Другого пути, однако, нет. Стоит отбросить принцип
’’эпистемологии практики” , как безнадежно разделяются
”я ” и ’’внешний мир”, дух и тело, сознание и материя, и
если мы не хотим стать идеалистами, нам остается скатиться
в механический материализм.
Диалектический материализм не допускает ни того, ни
другого.
Приведу последний пример в этой главе. В одном из
последних рассказов А. Горбовского молодой киноактер
играет в фильме из жизни древнего Рима. Роль у него маленькая
— преступник, молящий о пощаде проезжающего
цезаря. Но в искусстве нет маленьких ролей. Наслушавшись
уроков мэтра, актер тщательно продумывает все детали,
представляет себе всю обстановку древнего города, вживается
в его атмосферу. И во время съемки он сыграл свою роль
гениально — слишком гениально, ибо ’’привычный мир действительно
перестал существовать для него. А бутафорский
мир съемок обрел реальность”37. Самую реальную реальность
— актер действительно оказывается в древнем Риме,
исчезнув из мира настоящего.
Этот рассказ называется ”По системе Станиславского” .
Смысл его в том, что герой в своем сознании полностью
перестраивает окружающий его мир, меняет объективную
материальную реальность. Он нарушает главный закон
диалектического материализма, гласящий, что материя
всегда первична, а сознание всегда порождается материей,
всегда вторично, всегда отражение реальности.
Сказать, что сознание может непосредственно менять
материальный мир — без привлечения инструментального
воздействия, основанного на практическом познании, — это
значит, допустить первичность сознания, это значит, разрешить
множество онтологических и гносеологических вопросов,
но в то же время это значит — решительным образом
противоречить доктрине диалектического материализма.
Мы далеко не исчерпали примеров. Мне кажется, однако,
что достаточно сказанного. Я старался показать, что нет, по
314
сути дела, такого аспекта доктринальной философии, с
которым не велась бы явная или неявная полемика в советской
НФ. Очень легко уловить то общее, что объединяет
все рассмотренные произведения и много других, о которых
упомянуть не пришлось. У Стругацких, у Савченко, у Анчарова,
Обуховой, Громовой, Горбовского красной нитью
проходит мысль о том, что жизнь многолика, что ни человеческая
история, ни внутренний мир человека, ни бесконечная
вселенная не сводимы к ’’простейшим моделям” ,
что схема, ’’научность” убивает самое важное в жизни —
саму жизнь.
Самый ярый приверженец логического, точного — кибернетического
— видения мира Н. Амосов написал в своем романе
’’Записки из будущего” такие слова: ’’Неумолимая
вещь материализм. Частицы, атомы, молекулы. Клетки,
органы, организм. Мозг — моделирующая система. /.../
Нет бога, нет души. Нет ничего. Я только элемент в сложной
системе — общество. Живу, страдаю и действую по строгим
законам материального мира. Могу познать их — правда,
очень ограниченно, но вырваться — нет. Вернее, да. В смерть.
Пусть она идет. Никого не люблю”38.
Материализм, даже диалектический, не удовлетворил
своими ответами тех, кого занимают ’’высшие вопросы
философии” .
И когда писатели новой НФ сами пытаются ответить,
как устроен мир и как устроен человек, они оправдываются
— перед цензурой или сами перед собой — очень просто,
так, как перефразируя Ильфа и Петрова, сделали А. Громова
и Р. Нудельман:
’’Суровый гражданин, чей силуэт возникал на фоне книжных
полок, мог бы спросить (но, видимо, не успел): ”А не
идете ли вы против диалектического материализма в этих
своих рассуждениях?” Должны заявить со всей прямотой:
нет, не идем. Диалектический материализм не навязывает
никаких конкретных свойств ни времени, ни пространству,
ни материи. ’’Единственное свойство материи, с признанием
которого связан диалектический материализм, — это быть
315
объективной реальностью” . Так говорил В. И. Ленин. Мы целиком
и полностью с этим согласны”*9.
С признанием материи как объективной реальности связано
в философии всех времен течение, называемое ’’реализмом”
. Философский реализм ни в чем не мешает быть
пантеистом, католиком, идеалистом, словом, всем тем, кем
не может быть материалист-диалектик. Приведенное определение
нисколько не определяет смысла доктрины. Но использование
его имеет свой смысл.
Даже применяя обезличенную терминологию диалектического
материализма писатели новой НФ вкладывают в нее
свое содержание.
Истинное же содержание, ортодоксальное марксистское
понимание мира мало-помалу вытесняется, как говорится
в наши дни — ’’вымывается” .
Новая НФ занимается поисками новой философии — она
строит варианты мира, не похожие на мир, определенный
законами диамата.
316
Глава 10
ВАРИАНТЫ МИРА: ИВАН АНТОНОВИЧ ЕФРЕМОВ
Писатель, совершивший переворот в советской НФ, был
ученым — одним из крупнейших в своей области. С конца
20-х гг. И. Ефремов занимался геологией и палеонтологией,
— практически, изъездив в экспедициях Сибирь, Среднюю
Азию, Монголию, и теоретически, создав на границе
между двумя науками новую, названную ’’тафономией” и
изучающую закономерности отложения в земной коре
ископаемых животных и растений. За свой главный научный
труд Ефремов получил в 1950 году Сталинскую премию.
Занятия наукой определили всю писательскую деятельность
Ефремова, длилась которая ровно тридцать лет.
В 1944—1945 гг. в ’’Новом мире” появился цикл ’’Рассказов
о необыкновенном” , сразу же получивших одобрение
критики и читателей. Рассказы заметил ’’сам” А. Толстой,
призвавший Ефремова к себе и благословивший его
на дальнейшие литературные подвиги.
317
В 1945 г. Ефремов закончил две повести, составившие
историческую дилогию ’’Великая Дуга” . Затем были написаны
космическая повесть ’’Звездные корабли” (1947), книга
путевых заметок ’’Дорога ветров” (1956), роман ’’Туманность
Андромеды” , его продолжение ’’Сердце Змеи” (1959),
несколько новых рассказов, большие романы ’’Лезвие бритвы”
(1963) и ’’Час Быка” (1968—69). Ефремов умер в о к тябре
1972 г., как раз в то время, когда печатался в журнальном
варианте его последний роман ”Таис Афинская”.
О Ефремове часто и охотно пишут советские исследователи,
после его смерти — всегда в восторженном тоне. Не так
давно появился сборник критических работ (’’Творческие
взгляды советских писателей” , 1981), где среди статей о
Шолохове, Леонове, Твардовском, с одной стороны, и Шукшине,
Бондареве, Залыгине, с другой, есть и весьма академический
анализ эстетики Ефремова. Этим недвусмысленно
объявляется, что он зачислен в корифеи советской литературы.
Ему пожалован чин самого выдающегося представителя
соцреалистической НФ.
Я хочу предложить здесь свое, несколько отличающееся
от официального, прочтение Ефремова. В одном я целиком
согласен с советскими комментаторами: Ефремов был не
только (я бы сказал: не столько) писателем, но и мыслителем.
Он считал, что НФ выполняет в наше время функцию
’’натурфилософской мысли, объединяющей разошедшиеся в
современной специализации отрасли разных наук” 1. С самых
первых своих произведений он взялся за построение
своей собственной системы видения мира.
Уже ’’Рассказы о необыкновенном” выделялись на фоне
продукции конца 3040-х годов. Во-первых, они реабилитировали
короткую форму: в 30-е годы фантасты страдали
гигантизмом и строчили романы на сотни страниц. Во-вторых,
Ефремов пользовался личным опытом моряка, путешественника
и ученого, что придавало его вещам подлинность
и искренность, не встречавшиеся тогда у его коллег
по НФ. В-третьих, тематика рассказов — не новая для совет-
318
ского читателя — в первые послевоенные годы привлекала
своей свежестью.
История во всех рассказах, по существу, одинакова: писатель
ставит своих героев — геологов, палеонтологов,
моряков — лицом к лицу с природой, заставляет преодолевать
труднейшие препятствия и, в заключение, награждает
какой-нибудь чудесной находкой — озером чистой ртути,
залежами алмазов, рисунками африканских зверей в сибирской
пещере или встречей с легендарным чудовищем. Сюжеты
рассказов ’’органичны” , они не зависят от внешних
толчков, в них нет врагов или непредвиденных катастроф.
Они написаны простым языком, сотканным вокруг основы
из профессиональных терминов, придающих повествованию
уверенность и конкретность.
Место действия, язык, построение рассказов сильно
сближают их с географической прозой, с путевыми записками
Семенова Тян-Шанского, Обручева, с книгами Арсеньева,
с ’’Дорогой ветров” самого Ефремова — описанием путешествий
по Монголии.
В ’’Рассказах” мало фантастики, но много научного. Фантастика
— это невероятное, а, как заметил один из первых
рецензентов Ефремова, особенностью рассказов ’’как раз и
является то, что они стоят на грани достоверного, возможного,
допустимого”2. В этом замечании уже дана формула,
в которой в ту эпоху заключится всякая фантастика. В
отличие от других произведений ’’ближней фантастики” ,
однако, достоверность у Ефремова — не недостаток воображения,
скорее, наоборот. Мелкие открытия из книг Охотникова
или Немцова так никогда и не осуществились, а наскальные
изображения в Сибири, ртутные озера и алмазные
залежи были найдены почти в тех же местах и при тех же
обстоятельствах, что и в ’’Рассказах о необыкновенном” .
’’Близость” ефремовской НФ основана на ином принципе,
чем у Немцова, она порождена точностью мышления, а не
страхом выйти за пределы дозволенного.
Не совсем обычным для своего времени был в ’’Рассказах”
и взгляд на природу. Ефремов по-настоящему любил
319
и знал природу и, как, впрочем, все авторы географической
прозы, видел ее как цель, а не как средство, как самостоятельную
ценность. Природа, собственно, и есть главное действующее
лицо ’’Рассказов” . И в связи с этим их персонажи
резко отличаются от героев ’’ближней НФ” . Ефремов говорит
о герое, движимом жаждой познания природы — для
самого познания, он утверждает ’’романтику познания” , не
нагруженную общехозяйственным значением, не утилитарную,
не украшенную ура-патриотическими фразами.
Рассказы Ефремова — благо фантастики в них было
немного — вошли в золотой фонд ’’фантастики предела” ,
которая начинала свой победоносный поход.
Ефремов, однако, не пожелал ставить себе пределов.
В 1945 г. он обращается к теме, которая уже хорошо видна
в рассказах, полных интереса к легендам и прошлому,
— к истории.
И трактовка ее настолько необычна, что стоит сделать
хотя бы беглый обзор исторических произведений Ефремова,
несмотря на их весьма отдаленную связь с НФ.
Сравнительно свободное истолкование истории в советской
литературе 20-х гг., возможность появления таких
произведений, как замечательные книги Ю. Тынянова - в
30-е, — все это полностью исчезло еще до начала войны.
Государство стало наивысшей ценностью также и в
истории. На исторических примерах писателям предписывалось
доказывать необходимость сильного государства
для жизни народа и сильной, единоличной власти для жизни
государства. Эта тенденция достигла апогея во время войны,
когда весь народ объединился для борьбы с захватчиками
под знаменем русского национализма, и после войны, когда
СССР, приобретя огромный авторитет во всем мире, вошел в
узкую элиту великих держав.
В своей знаменитой речи 1941 г. Сталин призывал следовать
высокому примеру предков, строивших или помогавших
строить русское государство.
Существует теория, по которой Октябрьская революция
320
была вызвана теми же силами, которые в течение веков
потрясали Россией. Максимилиан Волошин писал в 1920 г.:
’’Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы революции в царях” .
Сталин принял эту теорию как бы в обратном смысле.
Новый режим был не очередным моментом в бесконечной
цепи одинаковых по духу явлений русской истории. Напротив,
все предыдущие великие деятели, поднимая массы на
подвиг, подготовляли завершение исторической эволюции
России в новом строе, вернее, в новом государстве, получившем
окончательную и совершенную форму под предводительством
Сталина.
Исторические романы должны были иллюстрировать эту
теорию. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов,
Кутузов, Минин и Пожарский, Иван Грозный и Петр Великий
изображались как разные воплощения той же идеи
вождя. В многотомных эпопеях Сергеева-Ценского, Нови-
кова-Прибоя, Шишкова, Рыбака, А Толстого преподавался
урок об абсолютной ценности государства, олицетворенного
личностью вождя, о ничтожности отдельного человека, о
необходимости героических, как в прошлом, жертв для блага
и величия государства.
В это время Ефремов пишет две небольшие повести о
самом отдаленном прошлом, первую — из эпохи, отстоящей
от нашей на пять тысячелетий, — о древнем Египте, вторую —
об Элладе X—IX века до нашей эры.
Первая повесть, ’’Путешествие Баурджеда” рассказьюает
о том, как молодой фараон Джедефра решает прославиться
исправлением бед, принесенных недавно умершим Хеопсом,
ценой тысяч жизней и всех богатств Египта построившим гигантскую
пирамиду. По совету жреца Тота — бога знания -
фараон посылает своего казначея Баурджеда на поиски
легендарной страны Пунт. Тем временем разгорается борьба
321
между жрецами Тота и бога солнца Ра, символа безграничной
власти. Молодого фараона убивают, его брат садится на
трон и на страну снова обрушивается гнет тирании. Разумеется,
никому больше не нужны чудесные открытия Баурдже-
да, совершившего небывалое путешествие вокруг Африки,
познавшего Великую Дугу — мировой океан. В финале
опальный Баурджед бежит из Египта, освобождая из каменоломен
своих товарищей по странствиям. Те, однако, отказываются
бежать и возглавляют восстание рабов против
тирании. Баурджед исчезает, но память о его великом путешествии
остается жить в народе.
Повесть построена на одном принципе: столкновения
противоположностей. Резко противопоставлены два повествования
— о размеренной, не меняющейся веками жизни
Египта и о бурном, полном приключений путешествии в
сказочные страны.
Но и жизнь в стране фараонов определяется контрастами:
лабиринт однообразных построек в бедных кварталах
и строгая геометрия пышных дворцов и храмов; шумная
суетня простых людей и мертвенная торжественность божественного
владыки и его помощников; и прежде всего —
низенькие плоские формы, обозначающие пространство
человека, и гигантские гробницы, исполинские статуи,
сады, храмы. Монументальная архитектура — символ и
характерная черта деспотизма. Перед ней человек превращается
в жалкое насекомое. На египетских фресках люди
нарисованы не достигающими колен изображению фараона.
В статье 1923 г. О. Мандельштам писал: ’’Бывают эпохи,
которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно
использовать, как кирпич, как цемент / .../. Социальная архитектура
измеряется масштабом человека. Иногда она становится
враждебной человеку и питает свое величие его унижением
и ничтожеством”3. Примером такой ’’социальной архитектуры”
для Мандельштама был Египет. То же думает о
Египте Ефремов.
Но так же, как Мандельштам, он думает и говорит не
просто о Египте.
322
Первая же сцена повести вводит нас в атмосферу, знакомую
современникам Ефремова, — атмосферу всеобщего
страха. Мы наблюдаем бегство преступника, названного
властями ’’врагом города” . Беглец невиновен, но толпа преследует
его в эйфорическом возбуждении. После погони
толпа сразу же распадается; у себя дома, в кругу близких
все говорят осторожным шепотом. Все готовы к худшему.
’’Громкий деревянный стук оборвал сказку, люди насторожились,
воцарилось молчание, полное опасений”4.
В Египте ли это происходит? О том же страхе писал великий
поэт Мандельштам:
”Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных” .
’’Путешествие Баурджеда” , написанное в 1945 г., получило
визу в печать лишь восемь лет спустя, через четыре месяца
после смерти Сталина. У читателей Ефремова нет сомнения,
о чем идет речь в книге: ’’Писатель думал не только об
исторических судьбах Черного материка, но и о судьбах
других народов. И сейчас, когда перечитываешь ’’Путешествие
Баурджеда” , становится понятно, почему эта вещь не
могла быть своевременно напечатана”5.
Рассказывая о древнейшей истории древнейшего государства
на Земле, Ефремов ставит самые важные и самые
запрещенные вопросы о настоящем.
Он анализирует механизм действия деспотического государства.
Страх, разрывающий междучеловеческие связи, оставляющий
людей один на один с всемогущей государственной
машиной, лишающий способности протестовать, сопротивляться,
— фундамент деспотизма. Но деспотизм не ограничивается
запугиванием подданных. Он заставляет их работать.
Величие Египта зиждется на труде рабов.
Они непрерывно создают материальные ценности, но их
323
собственное материальное положение никогда не улучшается.
Свободные же земледельцы трудятся немногим меньше,
живут немногим лучше, чем рабы, и к тому же ежечасно
сами могут превратиться в рабов.
Страх, бедность и труд — условия жизни простых людей,
которым остается лишь надежда на счастье в будущем, загробном
существовании: того и хотят власть предержащие.
Древний этот механизм власти странно напоминает тот,
который скрывался под призывом Сталина во имя лучшего
будущего отдать все силы для создания тяжелой индустрии
в сельскохозяйственной стране, где в то же самое время
уничтожалось сельское хозяйство — первейший залог материального
благосостояния, — и армиями зэка создавались
высшие достижения пятилеток, великие каналы, магистрали
и новые города.
Пирамида и города строились физическим трудом, но
труд организовывался наукой. В Египте наука монополизирована
правящей кастой. Наука играет большую роль в жизни
страны, но она - необходимый атрибут власти и господствующей
религии. Как способ познания действительности
наука не интересует жрецов. Она не имеет права выходить
вне очерченных властью сфер действия. Практикуются лишь
те ее отрасли, которые непосредственно приложимы к реализации
насущных целей: определения времени посевов,
жатвы, и главное, строительства все новых символов могущества
страны.
Одним из первых в печатающейся литературе послевоенных
лет Ефремов назвал метод, с помощью которого и наука
и всякая другая форма деятельности обречены на жалкое
прозябание: ограничение свободы информации.
Рассказ Баурджеда о важнейшем открытии его времени —
о том, что мир бесконечен, — тщательно записывается
писцами, присутствующими при встрече с фараоном. Но
сразу же после разговора фараон приказывает сжечь все
записи. Уничтожаются все упоминания о путешествии, все
надписи о снаряжении экспедиции. Великое деяние исчезает
из истории.
324
С ограничением свободы информации, науки, искусства,
всей внутренней жизни человека связано ограничение чисто
внешнее — свободы передвижения. Путешествие Баурджеда
— единственное за долгое время. Характернейшая черта
деспотизма: стремление отрезать страну от остального
мира. Власти нужно создать впечатление, что вне границ
государства ничего не существует, что весь мир сосредоточен
внутри них. Страна становится колонией для эксперимента,
изолированной от окружающей среды; для нее можно создать
любые условия, и она будет жить и развиваться по
воле экспериментатора. Египет охраняется ’’посланными
жрецов” — армией надсмотрщиков, гигантским административным
аппаратом. ’’Громадное число чиновников обременяло
страну, свободный выезд и путешествия запрещались
всем, кроме жрецов и вельмож”6. Выезжать не могут и те,
кто живет под надзором, и те, кто надзор осуществляет,
все одинаково лишены свободы выбора, над всеми ведется
эксперимент. Народ должен думать, что он лучший в мире
и египтяне презирают иностранцев.
Баурджед становится опасен для фараона — он видел
другой мир и сам стал другим. У него появилось средство
сопротивления: знание. Это средство — единственное действенное
оружие человека в борьбе с природой и историей.
Снова, как в рассказах, романтика познания окрашивает
повесть. Но пафос познания в определенном социальном
контексте означает пафос свободы познания, и в конечном
итоге, пафос свободы личности.
Повидавшие ’’большой мир” товарищи Баурджеда поднимают
бунт — это пробудившийся народ восстает против
власти живого бога.
Бунтовщики гибнут. Баурджед исчезает. Но, утверждает
Ефремов, власть победила лишь временно: ’’все большее
число умов начинало задумьюаться над поисками
путей к правде и сомневаться в божественном величии
фараонов” ' .
Эти финальные слова повести относятся, конечно, гораздо
больше к настоящему, чем к далекому прошлому: кому,
325
как не специалисту по древней истории Ефремову не знать,
что еще долгие тысячелетия Египет успешно противился
всем переменам. Но современники писателя столкнулись с
большим миром — во время войны, — и это они начинают
(или могут начать) сомневаться. ’’Путешествие Баурджеда”
можно читать как политическую параболу, если вспомнить,
что, снаряжая экспедицию, Джедефра следует завещанию
давно умершего великого и мудрого фараона Джосера:
”В покорении Великой Дуги — будущее счастье земли Та-
Кемт, в познании всей необъятности мира - ее мудрость”8.
Завещание это скрывалось от народа жрецами Ра, бога солнца
и абсолютной власти.
По желанию, в образе мудреца Джосера можно угадать
Ленина, а в его помощниках, жрецах Тота, бога науки,
знания и искусства, — старых большевиков, ленинскую
гвардию, почти поголовно ликвидированную в годы великой
чистки. Заметая следы, писатель наделяет жрецов
Тота отдельными отрицательными чертами, но то и дело
в повести проскальзывают нотки симпатии к ним. И очевидна
ненависть писателя к жрецам Ра, убившим Джеде-
фру за попытку следовать заветам Джосера, презирающим
знания, злоупотребляющим безграничной властью. Это —
переодетые приспешники Сталина, извратившие ленинские
идеи.
Все политические намеки в повести старательно завуалированы.
Однако совершенно ясно и недвусмысленно Ефремов
делает немыслимое противопоставление — народа и
государства, личности и государства.
Вместо того, чтобы доказывать историческую правоту
государства и объективную неизбежность подчинения ему,
Ефремов утверждает, что между личностью и государством-
тиранией существует антагонизм, преодолеть который мирным
путем невозможно.
Тот же конфликт стоит в центре следующей части исторической
дилогии, в повести ”На краю Ойкумены” .
Через два тысячелетия после путешествия Баурджеда
в Египет попадает греческий скульптор Пандион. Он стано-
326
вится рабом фараона. Снова человек сталкивается с тиранией,
и на этот раз речь идет о человеке-художнике.
Главный вопрос повести: каково взаимоотношение тирании
и художника, деспотического государства и искусства?
В Египте, где, по мнению Ефремова, ’’впервые от сотворения
мира религия стала фактором государственного значения”
9, искусство подчиняется требованиям религии, оно
насквозь клерикально, что в этом случае значит — огосударствлено.
Пандиона поражает неподвижность, гигантизм
египетских произведений искусства. Он понимает, что искусство,
которое служит государству, угнетающему человека,
само становится орудием угнетения, а художник — одним
из угнетателей.
Распознав в Пандионе способного скульптора, египтяне
и его хотят заставить работать по заказу. Ему предлагают
лучшие условия жизни, даже дарят рабыню, — но он отказывается.
Не из этого ли эпизода развилась спустя почти двадцать
лет сцена в ’’Лезвии бритвы” , где герой находит неприемлемой
работу в государственном учреждении?
На поставленный вопрос о художнике и власти — вопрос,
мучивший многих русских и советских писателей, — Ефремов
дает тот же ответ, что и лучшие из них. Он презирает
лицемерие и трусость продавшихся власти художников,
настаивает на самостоятельности и свободе творчества и
личности, видит высший долг художника в открытом утверждении
правды об окружающем мире, в сопротивлении
тирании.
Такой ответ в такое время требовал поразительной смелости.
Уже в самом начале своей литературной работы Ефремов
показывает себя писателем, задумывающимся над такими
проблемами современности, о которых думать было запрещено,
писателем очень серьезным по складу мышления,
сопротивляющимся гипнотическому влиянию идеологии,
независимым и проницательным в своих выводах.
Ефремов был писателем оттепели задолго до оттепели.
327
В свое время печальным размышлениям Булгакова о
звездах ответил один из персонажей утопии Я. Ларри, видный
руководитель, любивший повторять: ’’Нечего на звезды
глядеть, на земле работы много...” 10.
Эта пророческая фраза к 1947 г. обернулась главным лозунгом
в разрушенной и задушенной стране, где набирала
все больший размах реформаторская деятельность Жданова.
Немного спустя интерес к будущему и космосу прямо приравнивался
к величайшему из возможных тогда грехов — к
космополитизму.
В 1947 г. вышел журнальный, а в следующем — книжный
вариант ’’Звездных кораблей” , где говорилось и о будущем
и о космосе.
Начинается повесть с удивительной находки: в отложениях
мелового периода археологи обнаруживают череп
динозавра с отверстием, похожим на пулевое. Кто же мог
пользоваться огнестрельным оружием за десятки миллионов
лет до появления на Земле человека? Логика подсказывает:
нашу планету посетили пришельцы из космоса. На
помощь в решении загадки приходят открытия и теории из
самых разных областей науки — астрономии, геологии,
атомной физики, биологии. И после нескольких лет исканий
находятся не только новые черепа с пулевыми отверстиями,
но и ’’фотография” инопланетного существа, удивительно
похожего на человека.
В повести довольно много шаблонных ситуаций (сама
завязка известна по меньшей мере со времен ’’Янки при
дворе короля Артура” М. Твена), совершенно безжизненны
персонажи, язык страдает вялостью, и все же повесть интересна.
Интересно в ней прослеживание хода исследовательской
мысли, сочетание разных научных наблюдений. В ней
явны достоинства и недостатки ’’чистой” НФ классического
типа, основанной на добротных научных идеях, но мало
заботящейся о литературных средствах. Один американский
критик назвал ’’Звездные корабли” первой русской научно-
фантастической повестью11. Мы знаем, что это не так. Зато
можно сказать, что это — первое настоящее научно-фантасти-
328
ческое произведение Ефремова и, пожалуй, единственное —
в литературе 40-х-начала 50-х гг.
Можно сказать большее. Местами повесть выходит из
рамок ’’чистой” НФ. Идея о разумной жизни на других
планетах нужна Ефремову не как сенсационная гипотеза и
даже не как предлог для увлекательного рассказа. Она
лежит в основе размышлений писателя, который вопреки
всем идеолологическим директивам рвется за китайскую
стену, окружающую пространство одной страны и время
одной пятилетки.
Ефремов пишет, что земля и космос связаны: и тут и
там рождается жизнь, источник мысли и воли, и отдельным
ручейкам суждено слиться в могучий океан мысли. ’’Великая
Дуга” в исторических повестях — это земной океан,
связывающий все народы Земли, по мысли Ефремова, символ
их братства и борьбы за свободу. ’’Великим Кольцом”
будет называться в ’’Туманности Андромеды” связывающий
в единое целое все разумные существа, все вселенское человечество
’’могучий океан мысли” . В конце ’’Звездных кораблей”
говорится об этой будущей встрече разума, возможной,
однако, лишь при одном условии: ”И прежде всего
нужно объединить народы собственной планеты в единую
братскую семью, уничтожить неравенство, угнетение и расовые
предрассудки, а потом уже уверенно идти к объединению
разных миров” 12.
Финал ’’Звездных кораблей” — это непосредственное
вступление к утопии, написать которую можно стало лишь
спустя десять лет.
’’Туманность Андромеды” появилась не случайно; Ефремов
шел к ней прямым путем, и честь открытия нового
периода в НФ могла выпасть только ему.
Сквозь все его книги, начиная с самых ранних и вплоть
до последнего романа проходят те же образы, развиваются
те же основные мысли. Эта постоянность — характернейшая
особенность ефремовского творчества. Я не буду больше
говорить ни о политических идеях Ефремова, ни о социаль-
329
ной критике, хотя и того и другого много во всех его книгах.
Разговор пойдет о мировоззрении писателя.
Главные его категории намечаются уже в ранних рассказах.
В. Шкловский рассказал однажды, как изменялись функции
пейзажа в литературе по мере ее развития. Сначала природа
снабжала сравнениями, метафорами. Затем стала фоном
действия. Еще позднее — приняла в действии участие,
образуя контрапункт психологических перипетий.
В рассказах Ефремова пейзаж не становится в подчинение
сюжету, психологии, настроению. Напротив, это он обуславливает
всю структуру повествования и, в первую очередь,
героя. Человек здесь как бы коррелят окружающих его
стихий. Неудивительно, что, по словам критиков, ’’вне природы
герой Ефремова не играет” 13. Если герои традиционного
приключенского романа проявляют свою необычайность
в сравнении с другими людьми, если герои соцреа-
листических произведений формируются и набираются сил
в коллективе, коллективно же подчиняя себе природу, то
герои Ефремова всегда встречаются один на один с природой.
Это единоборство высвобождает в них исключительные
качества. По сути дела, они сталкиваются не с природой,
а, благодаря ней, с самими собой, со своей ограниченностью,
слабостью, сомнением. Человек познает природу, чтобы
познать самого себя.
Природа не противопоставлена человеку, она существует
вокруг него и составляет необходимое условие его существования
как осознанной и осмысленной личности.
Так происходит еще потому, что человек преходящ, а
природа вечна. В ней постоянно присутствует прошлое. Все
’’Рассказы о необыкновенном” так или иначе связаны с
преданиями, с древними событиями, одним словом, с более
или менее отдаленным, но всегда живым, сохранившимся
через природу прошлым. Познавая природу, человек узнает
и собственную историю. И стоит подчеркнуть еще раз: это
не официальная, обескровленная история, а нечто живое,
история как реально ощутимая связь всех времен.
330
Природа - Мир, Вселенная, Пространство — и История,
Время: основные категории бытия. Для палеонтолога Ефремова
это не отвлеченные понятия. Он ощущает их действие
в жизни — потому и стремится понять и объяснить их реальное
содержание.
Только что я упоминал о том, что в исторических повестях
Ефремова главный прием — контрасты. Контрастными
положениями и образами, изменением стиля и ритма речи
Ефремов вводит динамику и напряжение в повествование,
достигает объемности описаний, передает свои социально-
политические обобщения. И тут же он дает почувствовать
универсальность этого принципа столкновения противоположностей.
Он рисует Египет — страну, где предметы получили
власть над людьми, а люди уподобились предметам, где
всецело царит гнетущая неподвижность. Египет — это остановившееся
время, материализация Истории. Такая история,
реально проявляющаяся в форме деспотического государства,
враждебна людям, природе, всему живому. Но где-то
вокруг Египта существует Великая Дуга, мировой океан:
отрицание неподвижности. Люди, побывавшие за пределами
государства, находят в себе силы сопротивляться ему, они
оживают. Человеческое начало начинает входить в конфликт
с началом историческим.
Масштабы конфликтующих сторон несоизмеримы: маленький
живой человек и вечная омертвевшая история. В
первой повести борьба слишком неравна. Но уже во второй
у Египта появляется достойный противник: Эллада. Как
говорит сам писатель: ’’Египет и Эллада даны в противопоставлении.
Египет — страна замкнутая, косная, стонущая
под бременем деспотической власти. Эллада — страна открытая,
жизнелюбивая, с широким кругозором” 14. Речь здесь
идет, разумеется, не только об этих двух странах, но и о
главных тенденциях воплощения истории. История может
конкретизироваться в жизни людей через идею государственности,
и тогда возникает то, что в своем последнем
романе Ефремов называет ’’круговыми цивилизациями” 15,
331
— деспотии, замыкающиеся в себе, останавливающие время,
отрывающиеся от природы, достигающие вершин могущества
ценой гибели и страданий людей. И возможен другой
уклад — свободный и индивидуалистический, основанный на
общении с внешним миром, на постоянных поисках нового.
Эти две тенденции проявляются во все эпохи и в любом
месте земного шара. Между ними идет вечная борьба.
Естественным казалось бы — по законам марксистской
диалектики — представить первую из них как некий тезис,
вторую — как антитезис, и рассматривать идеальное общество,
описанное в ’’Туманности Андромеды” , как синтез,
преодоление антагонизма. Это, конечно, не так: в этом смысле
в книгах Ефремова нет никакой диалектики, хотя говорится
о ней много и с энтузиазмом. В обществе XXX века
нет ничего от Египта и есть все от Эллады. Это не синтез.
Просто одна тенденция, светлая и добрая, торжествует над
другой, темной и злой, которая в реальной истории постоянно
одерживала верх. Ефремов надеется, что Ормузд, наконец,
окончательно победит Аримана.
Понимание истории у Ефремова не диалектическое, а
маних ейское.
И так же, по-манихейски, он толкует все, что происходит
во Вселенной.
Процитирую отрьюок из ’’Звездных кораблей” .
”Жизнь /.../ говорит крохотными огоньками где-то в черных
и мертвых глубинах пространства. Вся стойкость и сила
жизни — в ее сложнейшей организации /.../, приобретенной
миллионами лет исторического развития, борьбы внутренних
противоречий, бесконечной смены устаревших форм
новыми, более совершенными. В этом сила жизни, ее преимущество
перед неживой материей, косно участвующей
в космических процессах, не претерпевающей великого
усложнения и усовершенствования” 16.
Снова перед нами два противоположных начала — живая
и мертвая материя. Снова постоянному движению противостоит
пассивность и неподвижность.
Как известно, наличие во всем сущем борющихся проти-
332
воположностей — основной постулат диалектического материализма.
И так же хорошо известно, что диалектические
противоположности взаимосвязаны, могут переходить одна
в другую, вместе преодолеваться в синтезе. Марксистская
диалектика природы монистична. Надо сказать, что монизм
этот она сохраняет не без усилий. В частности, весьма деликатен,
с этой точки зрения, вопрос о соотношении мертвой
и живой материи, точнее говоря, вопрос о происхождении
жизни. Плеханов, например, принимал гипотезу о том, что
вся материя изначально одушевлена. Ленин робко предполагал
существование ”в фундаменте самого здания материи
/.../ способности, сходной с ощущением” , тут же, впрочем,
отказываясь от этой мысли17. С идеалистическими
теориями ранние марксисты заигрывали во имя спасения
монизма их материалистической теории. Разумеется, всякого
рода гилозоизм был скоро изгнан из доктрины. Идеологической
поддержкой долгое время пользовалась — и
после краткого перерыва продолжает пользоваться — теория
происхождения жизни, разработанная акад. Опариным,
смысл которой заключается в распространении дарвинского
закона эволюции на неживую материю. Опарин многократно
модифицировал свои взгляды, но суть их оставалась практически
неизменной в течение десятков лет. Самую общую
их формулировку можно найти в книге, опубликованной
Опариным в соавторстве с другим, не менее известным
академиком, крупнейшим советским специалистом по
космологии Фесенковым: ’’Жизнь является особой, очень
сложной и совершенной формой движения материи. Она не
отделена от остального мира непроходимой пропастью, но
возникает в процессе развития материи на определенном
уровне этого развития как новое, прежде отсутствовавшее
качество”18.
Независимо от ’’объективной” правоты Опарина, очевидно,
что утверждение об эволюции материи на каждом уровне,
об отсутствии непроходимой пропасти между разными
ее формами, гораздо больше соответствует духу диалектического
материализма, чем гилозоистические теории, чем
333
теория ’’спонтанного зарождения” , не говоря уже об открыто
’’идеалистических” гипотезах. Потому-то теория Опарина
признается официально, а в идеологической обработке дело
выглядит так, будто вопрос о происхождении жизни в основном
уже решен и единство мироздания доказано, блестяще
подтвердив верность монистического мировоззрения.
Та же процедура толкования имеет место во всех областях,
где возможно двоякое понимание фактов — в квантовой
физике, молекулярной биологии, физиологии мозга
и т. д. Философы, популяризаторы, комментаторы, в назидание
массам рассуждая о великой сложности мира, о
диалектических противоречиях, о синтезе, о скачкообразном
и спиралевидном восхождении на все высшие ступени
развития, в конечном итоге и независимо от реальных результатов
научных исследований стремятся в каждом случае
к редукции всех явлений к сакраментальной формуле о
движении материи, всего сложного к простому, всего нового
к уже закрепленному в идеологической практике.
Ход мышления Ефремова обратен официально установленному.
Решительно и многократно он подчеркивает,
что мертвая материя никогда не усложняется, не меняется,
ее основное качество — именно отсутствие всякого движения;
и тем самым жизнь отнюдь не возникает вследствие
развития мертвой материи. Она рождается случайно: в космической
симфонии из ’’Туманности Андромеды” есть
место, иллюстрирующее тот момент первобытной истории,
когда разряд молнии ’’впервые связал простые углеродные
соединения в более сложные молекулы, ставшие основой
органической материи и жизни” 19. В этой теории нет ничего
нового (аналогичные взгляды высказывал на Западе Р. Бьют-
нер), но у Ефремова она прекрасно соответствует его общим
представлениям о строении мира.
Опустим туманные подробности и перескажем самое существенное
в картине мироздания, написанной Ефремовым
с размахом, достойным бешеной фантазии Ван Вогта или
Хайнлайна.
Вселенная, сказано в ’’Часе Быка” , имеет спирально-гели-
334
коидальную структуру. Она не замкнута на себя, а разматывается
в вечность. Но материя в ней анизотропна: наш мир
переслаивается с миром, полярно противоположным и
ассиметрично сдвинутым по сравнению с нашим. Это мир
антиматерии. Между мирами существует граница — нуль-
пространство, — где их полярные свойства уравновешиваются
(в нуль-пространстве, кстати, и движутся звездолеты по
принципу, изобретенному учеными из ’’Туманности Андромеды”).
Антимир не воспринимается нашими приборами.
Его существование познано лишь теоретически. Должны как
будто создаваться специальные приборы для его исследования,
но их предназначение читателю неясно: ни выхода из
антимира, ни входа в него нет. Самое интересное здесь то,
что антимир — это черный мир, и называется Тамасом, по
имени океана энтропии в древнеиндийской философии. Наш
же мир светлый, он также несет древнеиндийское имя —
Шакти. Это мир жизни и разума. Так, вся вселенная окрашивается
для Ефремова в черный и белый тона.
Вообще говоря, доктрина марксизма есть современная
форма манихейства, в ее основе лежат понятия борьбы черного
с белым — идеализма с материализмом, класса эксплуататоров
с классом эксплуатируемых, сил реакции с силами
прогресса. Но всякий порядочный марксист считает, что во-
первых, эти понятия суть практические результаты строго
научного анализа; во-вторых, они имеют смысл в области
человеческих и общественных отношений, но в приложении,
например, к миру физических явлений они теряют аксиологическое
значение, т. е. диалектика остается (как пытался
показать Энгельс), но не в форме столкновения зла с добром;
в-третьих, понятия, о которых идет речь, применяются
в так называемом конкретно-историческом контексте, никак
не являясь абсолютными категориями (по Марксу, реакционные
британские колонизаторы в Индии выполняют
прогрессивную роль); в-четвертых, наконец, эти понятия
относительны еще и в силу предполагаемой взаимосвязи
противоположностей и их взаимопереходов одной в другую.
От официальных вариантов диалектики природы концеп-
335
ция Ефремова отличается прежде всего своим тяготением к
универсальным и абсолютным категориям. Это дуалистическая
метафизика в самом традиционном смысле этого слова.
Сам Ефремов подчеркивает ее связь с древними учениями,
много и с симпатией говоря об орфизме, маздеизме, о
китайских и индийских философиях. Дуализм Ефремова
полный - никакого перехода между Тамасом и Шакти нет,
никакого эволюционного перехода от мертвой к живой материи
тоже нет. Материя рождает жизнь чудесным образом,
случайно (конечно, в мастштабах вселенной и в повторяющихся
условиях такая случайность становится закономерностью,
нисколько при этом не утрачивая характера чуда).
(Во всех религиях откровения возможность чуда и есть высший
закон.) Затем из живой материи развивается мысль,
которая познает весь мир — это заколдованный круг, и
Ефремов находит для него адекватный символ, древний
образ змеи, вцепившейся в собственный хвост. Змея символизирует
вечность, в которой постоянно присутствуют враждебные
себе силы Жизни и Смерти, Энергии и Энтропии,
Добра и Зла.
Силы эти действуют повсюду, куда обращает свой взгляд
Ефремов.
После ’’Туманности Андромеды” Ефремов опубликовал
’’Сердце Змеи” , повесть о радостной встрече в космосе
представителей высоко развитых цивилизаций, построивших
у себя коммунистические общества, и стало казаться, что он
и дальше будет пририсовывать новые подробности к своей
и без того подробной утопии и вести беспощадную полемику
с пессимистами-американцами. Но в 1963 г. вышел в свет
огромный роман ’’Лезвие бритвы” и удивил всех — и читателей
и критиков. Роман был задуман как экспериментальный.
Очень много места в нем занимает научная информация
и комментарии к ней. В нем сталкиваются три сюжета — история
советского врача и философа Гирина, история индийского
художника, проходящего путь высшего познания в
Индии гуру, монастырей и божественной архитектуры, на-
336
конец, похождения группы молодых итальянцев, отправившихся
собирать алмазы на берегу Африки. Критика встретила
роман очень прохладно. И правда, приключения ”в хаг-
гардовском вкусе” невыразимо скучны, а научные рассуждения
в книге зачастую имеют мало общего с ’’серьезной”
наукой. Но не это вызвало недовольство. Назвав ’’Лезвие
бритвы” ’’романом приключений” , Ефремов определил свою
цель иначе: он показывает ’’особенное значение познания
психологической сущности человека в настоящее время для
подготовки научной базы воспитания людей коммунистического
общества”20. О сущности современного человека
идет речь в романе, а это тема, требующая тонкого подхода
в советской литературе. Мы же уже знаем, что Гирин, главный
герой и рупор писательских взглядов в романе, отличается
не слишком ортодоксальной позицией.
В молодости Гирин вылечил женщину, страдавшую полным
параличом: она видела, как белобандиты убили ее
мужа. Гирин инсценирует нападение на дочь этой женщины,
и под влиянием шока она выздоравливает. С тех пор Гирин
изучает законы, по каким ’’древние инстинкты, с одной
стороны, и общественные предрассудки — с другой, преломляясь
в психике, влияют на физиологию”21. В методе лечения,
в формулировке отношений психики и физиологии
нам чудится нечто знакомое. Подозрение не медлит подтвердиться.
В одной из центральных сцен книги Гирин читает
лекцию по эстетике. Из нее явствует, что психическая жизнь
человека не исчерпьюается его сознательной деятельностью:
существует еще и подсознание, в котором запечатлен огромный
опыт доисторического существования человечества и
которое во многом управляет поведением человека. В
частности, наше чувство человеческой красоты — не что
иное, как инстинкт полового отбора, закодированный в
генах в то первобытное время, когда главной задачей человека
было продление рода.
Но половое влечение, прямо или косвенно определяющее
нашу психику, подсознание, составляющее ее фундамент,
укоренившиеся в ней древние табу и механизмы, — это же
337
запретные, не реабилитированные по сю пору идеи Фрейда.
В литературе 20-х годов эти идеи были разменной монетой,
но Ефремов был одним из первых, если не первым писателем,
обратившимся к ним открыто в послевоенное время.
Должен сказать, что мне неизвестны другие примеры такого
пристального внимания к подсознательному в современной
советской литературе.
Бдительные слушатели лекции сразу же ловят Гирина на
сходстве с реакционнейшим учением. Он оправдывается с
помощью диалектической софистики: у Фрейда подсознательные
и сознательные процессы якобы оторваны друг от
друга, тогда как в его, Гирина, теории составляют единство
двух параллельных и взаимодействующих между собой потоков.
Со своей стороны, Ефремов прилежно отмежевывается
от Фрейда, осуждая в своих статьях фрейдистское вредное
самокопательство: Фрейд доказывал, что в основе каждого
душевного движения лежит примитивный инстинкт,
путь же советской литературы — показать, как из примитивных
инстинктов вырастает ’’великое здание любви, самоотвержения,
долга и чести”22. В одном из интервью Ефремов
уверяет подозрительных читателей, что уже в примитивную
эпоху сложились и вошли в подсознание психические
основы альтруизма, дружбы и проч. За это объяснение радостно
ухватились критики-препараторы. Занятые тем, чтобы
мумия Ефремова хорошо смотрелась в музее восковых
фигур соцреализма, они не видят в ефремовской теории
конфликта сознания с подсознанием, а просто разум, дополненный
’’безотчетным порывом” к прекрасному23.
Однако, в книгах Ефремова сказано не совсем то, точнее,
совсем не то, что в его интервью и газетных заявлениях.
Начнем с того, что Ефремов вполне последовательно перенимает
формальную схему и главные категории психоаналитической
теории (для демонстрации развития прекрасного
здания из примитивных основ нужно знать эти основы). В
’’Часе Быка” , размышляя о связи психики с физиологией,
писатель пользуется понятием ’’сверхсознание” , дополняющим
’’сознание” и ’’подсознание” : перед нами точная копия
338
взаимоотношений ”ид” , ”эго” и ’’суперэго” . Для Ефремова
очевидно, что Фрейд ошибался, отказываясь учитывать действие
социальных инстинктов, что не совсем верно, но в чем
Фрейда упрекали неофрейдисты, марксофрейдисты и проч.
Кроме того, Ефремов усиленно подчеркивает роль наследственного
опыта, отдаленно напоминающего ’’коллективное
сознание” у Юнга. Но уходя от классического психоанализа,
Ефремов не пристает к марксистскому берегу. Его ’’социальная
эксцентризация” , — пользуясь модным выражением,
— имеет мало общего с толкованиями тех западных
марксистов, которые признают психоанализ, и еще меньше
— с трактовкой общественного сознания в официальной
доктрине. ’’Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь
высоко над полом, — это вот, а цивилизованная —
вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что
между ними осталось около миллиметра”24. ’’Миллиметровая”
история развитых обществ, т. е. история разделения
труда, т. е. история производственных отношений, т. е. история
борьбы классов — оставила весьма неглубокий след в
психике человека. Подавляющее значение имеет неизменный,
независящий от конкретной исторической обстановки (ибо
закодированный сотни тысяч лет назад) первобытный опыт.
И в подсознании кроется не только прекрасное. В ’’Лезвии
бритвы” и ’’Часе Быка” часто говорится о ’’темных силах”
подсознания, в ”Таис Афинской” - о ”тьме первобытных
чувств” , о ’’хаосе” и таинственных, но ужасных ’’вихрях” .
И эти темные силы постоянно прорываются наружу, — даже
в обществе XXX века, основательно вычищенном с помощью
евгеники и неусыпного генетического надзора, есть
люди, поддающиеся их влиянию. Цель действий общественного
человека в том и состоит, чтобы удержать равновесие
между разумным поведением и спонтанными положительными
реакциями, не попадая во власть темных подсознательных
сил — отсюда и символический образ ’’лезвия бритвы”
. Такая модификация фрейдизма как нельзя лучше
входит в рамки ефремовской метафизики. Складывается
даже впечатление, что психоаналитическая схема нужна
339
Ефремову для того, чтобы поставить на ’’научные ноги” свое
убеждение о борьбе Зла с Добром в человеке.
Именно так поняли ’’Лезвие бритвы” его первые критики,
еще не уведомленные о том, что о Ефремове нельзя говорить
ничего, кроме хорошего. Даже если они прикрывают
глаза на совпадения ефремовской психофизиологии с буржуазными
учениями, им мешает сама суть дела:
’’Ефремов все время предупреждает: оно (лезвие бритвы.
— Л. Г.) опасно, зыбко и в любую минуту может сдвинуть
нас в пропасть подсознания. Предупреждения эти звучат
угрожающе. Они превращают нас в балансеров на тонком
канате, ставят под власть какой-то черты, переступив которую
мы перестаем быть людьми. Мы не хотим этого”25.
Критикам не нужны никакие черты. Ходить по лезвию
бритвы трудно и неудобно. Да и зачем, если известно, что
существует новый, коммунистический тип человека, ничем
не ограниченный, ’’цельный, безо всяких низменных начал”
.
Еще одно сильно смущает самых доброжелательных
критиков Ефремова — до такой степени, что они, как по
уговору замалчивают или искажают бросающуюся в глаза
особенность его творчества. Уже герой ”На краю Ойкумены”
во время своих скитаний связывается с тремя разными
женщинами, и автор не наказывает его, как положено, а
наоборот, глубоко симпатизирует ему. В утопическом обществе
’’Туманности Андромеды” упразднен институт
семьи — свободная любовь управляет взаимоотношениями
всех героев. Только Ефремов осмелился поднять руку на
священную первичную ячейку общества, и славословя
’’Туманность”, все рецензенты уговаривают писателя внять
цитатам из Энгельса и отказаться от досадного заблуждения.
Однако, уговоры не действуют. Ефремов осуждает советскую
литературу за ханжество, в программной статье, написанной
в 1962 году, яростно высмеивает отрицательных
героев, обуянных дикой страстью, и положительных, у которых
’’нормальное влечение к женщине настолько задавлено
волей авторов, что они, глядя на героиню, не смеют опустить
340
глаза ниже ее подбородка или поднять выше колен”26. Сам
Ефремов в своих книгах говорит о силе полового созревания
как о ’’величайшей кондиционирующей силе организма”
(называя ее индийским термином Кундалини); он утверждает,
что богатство человеческой психики зависит от ’’постоянной
эротической остроты чувства” , ибо такова присущая
человеку ’’биохимия”27 (к чему говорить о фрейдизме?)
. Писатель перенаселяет страницы своих книг образами
прекрасных, то и дело обнажающихся женщин, заставляет
персонажей вести длинные разговоры о необходимости и
счастье свободной любви — и поступать сообразно, храня,
впрочем, чистоту и целомудренность, — главной героиней
своего последнего романа он выбирает афинскую гетеру,
любовницу Александра Македонского.
Во всей послевоенной печатающейся литературе не найти
другого писателя, у которого столько места занимала бы
эротика, а такой последовательной и страстной проповеди
свободной любви не было, пожалуй, со времен Александры
Коллонтай.
Эротике, выведенной из подземелья примитивных чувств,
приберегается ключевая роль в ефремовской концепции.
Ефремов преклоняется перед женщиной. В ”Таис Афинской”,
где это преклонение превращается в боготворение,
женщины показаны лучше, сильнее, мудрее мужчин. После
воцарения мужских богов, говорит Ефремов, жизнь на
Земле стала хуже. ’’Непрерывные войны, резня между самыми
близкими народами — результат восшествия мужчины
на престолы богов и царей” 2**.
Разлад между мужским и женским началом пошел с тех
пор, когда люди стали больше верить созданным ими орудиям
и машинам, чем самим себе, оторвались от природы,
ослабили свои внутренние силы. Женщина больше сохранила
себя, в ней разум не подавляет памяти и чувств, она связана
с миром, потому-то в ней воплощен творческий дух,
она может вдохновлять поэтов и философов. Созвучное утопическим
мечтаниям Фурье, Белинского и Чернышевского,
отношение к женщине у Ефремова напоминает и религиоз-
341
ный культ женского начала - Софии - в философии Вл. Соловьева.
Женщина — самое совершенное создание природы — олицетворяет
Красоту. Красота же для Ефремова, поклонника
Эллады, — высшая ценность в жизни. Поэтому любовь с
женщиной — нечто гораздо более важное и глубокое, чем
физиологический акт или даже эмоциональная связь, это
— приобщение к Красоте; а поскольку Красота — одна из
ипостасей Светлого мирового начала, постольку и любовь
есть путь к абсолютному познанию.
Почему я столько об этом пишу? Потому что ефремовские
дифирамбы Эросу — необычное явление на фоне пуританской
до мозга костей литературы соцреализма. И еще
потому, что эротическая тема очень тесно связывается в
творчестве Ефремова с очень важным его аспектом: с постоянным
вниманием к древнеиндийской культурной традиции.
В ’’Лезвии бритвы” есть две сцены — два больших разговора
о религии: первый о христианстве, полный негодования,
второй — апологетический — об индуизме. Гирин говорит
о христианстве, рассматривая музейный экземпляр
знаменитого ’’Маллеус малефикарум” . Свою речь он начинает
словами: ’’Слишком велика моя ненависть к этому
позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту
спокойного и мудрого исследования прошедших времен”29.
Говоря же об индуизме, Гирин подчеркивает: ”Я никого не
вправе ни осуждать, ни порицать. Я только искатель научной
истины, знающий, что истина зависит от обстоятельств
места и времени”30.
Откуда такая разница? Почему Гирин неспособен спокойно
отнестись к средневековью и христианству, которые тоже
могли бы претендовать на свою, объяснимую обстоятельствами
места и времени, истину? Ответ мы получаем неожиданный,
но вполне совместимый с тем, что мы уже знаем о
взглядах Ефремова: Гирин вспоминает об Элладе, преклонявшейся
перед красотой женщины, Азию с ее культом
женщины-матери... и смрадные костры инквизиции в Евро-
342
пе. Гирин ненавидит христианство наподобие рыцаря, защищающего
честь Прекрасной Дамы, невинно осужденной и
заточенной в застенках инквизиции. Это благородно, но не
вполне научно. И юдаизм отталкивает Ефремова потому, что
он изобрел понятие ’’греха” и отвел женщине ’’нечистую”
роль. Зато уже в ’’Туманности Андромеды” появляется прекрасная
и страстная индийская танцовщица, а звездолету,
отправляющемуся на завоевание галактик, присвоено многозначительное
имя ’’Тантра” .
Дело в том, что Ефремову необходима религия — так или
иначе понимаемая духовная традиция, с корнями, запущенными
в далекое прошлое, способная дать опору человеку
в борьбе с его примитивным подсознанием. Такую опору он
находит в Элладе. Но его не удовлетворяет возврат к естеству,
он ищет более глубокого, более метафизического подхода
— и призывает на помощь Индию. Индию, где эротике
придается сокровенный, мистический смысл, где тысячелетиями
испытываются пути к познанию глубин человеческой
души и скрытых сил человеческого тела.
Именно от индийской философии идет основное в ефремовской
антропологии — мысль о несовершенстве природного
человека, о возможности абсолютного познания и раскрытия
себя, о ’’лезвии бритвы” и, главное, о самосовершенствовании
как единственном способе изменения человека.
И Гирин, и индусский художник, герой параллельного
сюжета ’’Лезвия бритвы” , преследуют одну цель. Первый
идет к совершенству, пользуясь научными методами, рациональным
анализом и синтезом, второй — следуя древним
тантрическим ритуалам. Казалось бы, с точки зрения материалиста
— несовместимые пути. Но Гирин думает иначе,
и в финале книги индусские мудрецы с почетом встречают
его и признают ему титул брахмана.
В разговоре с индусами Гирин стоит на позиции современного
ученого. Он очищает индусскую философию от ’’наносных”
религиозных элементов, рационализирует ее, вылавливая
то, что поддается объяснению в научных терминах.
343
Он отбрасьюает, например, понятие сверхчувственной связи
с миром, сравнивая такое состояние с ощущениями человека,
погруженного в гипноз современными лекарствами,
вызывающими понижение уровня углекислого газа в организме.
Как все объяснения Ефремова, это ничего не объясняет;
писатель это чувствует и предоставляет критическое
слово Гирину для того, чтобы выслушать ответ мудреца-
гуру.
Оказывается, существуют две дороги познания — Запада
и Востока, европейская наука, изучающая физический мир,
и индийское откровение, доступное углубленному в себя
йогу. Обе дороги ведут к тому же, обе они несовершенны:
первая отрьюается от природы, от интуитивного понимания,
вторая — удел лишь самых сильных, чужда ’’среднему” человеку.
И Гирин предлагает единственное правильное решение:
нужно идти по лезвию бритвы между двумя дорогами, между
западной и восточной мудростью. Гирин признает необъяснимость
и самостоятельность высших разделов йоги,
’’путей владычества над нервно-психическими силами и силами
экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой
души”31. Советский ученый-материалист заключает союз с
мистическим знанием йогов, надеясь понять ’’душу мира” .
Конец книги символизирует этот союз: индус дарит Гирину
картину с изображением всадников на мосту, протягивающих
друг другу руки. Эти всадники — утренняя и вечерняя
зори, нечто несоединимое в жизни, но сочетающееся в мысли,
в высшей реальности.
Роман Ефремова впервые после долгих лет в такой форме
поставил вопрос об отношениях между Востоком и
Западом. В сущности, это единственный в новое время
советский мистический роман, книга о великом прозрении.
В неофициальной литературе есть, разумеется, христианские
мистики (тема веры просачивается даже в печатающуюся
литературу), с середины 60-х годов появляется самиздат-
ская ’’мистическая” проза, одно время держалась настоящая
мода на тантризм, дзен и т. п. Но насколько я знаю, никто
344
из писателей не подошел к теме восточного мистицизма так
серьезно, как Ефремов, и никто не принял ее так близко к
сердцу. Можно полагать, что на страстное увлечение индийской
традицией у Ефремова в какой-то мере повлиял Николай
Рерих, с которым по некоторым данным Ефремов состоял
в переписке. Крупный художник и глубокий философ-
мистик, выхолощенный официальной критикой чуть ли не
в реалиста, Рерих несколько раз с восторженным преклонением
упоминается в ’’Лезвии бритвы” . Эта преемственность
лишний раз показывает: поиски пути к высшему познанию
замирали, но, несмотря ни на что, никогда не умерли в России.
И
дея прозрения прочно входит в философию Ефремова.
В ’’Часе Быка” , где писатель показывает людей будущего,
соединивших в одно западную и восточную мудрость, сказано,
что возможно такое познание мира, для которого нужны
’’три шага: отрешение, сосредоточение и явление познания”
32. Это формула соединения внутренних сил человека
с ’’мировой душой” (формулу эту осуществил на деле герой
’’Испытания истиной” Савченко, повести, которую тоже
можно по праву считать ’’мистической”) . Ефремов не называет
этого мистицизмом, но на то он и материалист. Он даже
надеется когда-нибудь найти рациональное объяснение такому
познанию. Но вот что важно: человек в его понимании
становится самостоятельной ценностью, индивидом, развитие
которого обеспечивается правильным общественным
устройством, но зависит почти исключительно от него самого,
от силы его самоуглубления.
Заключительные сцены ’’Лезвия бритвы” несут еще один
смысл, тесно связанный с центральной идеей книги.
Писатель всячески подчеркивает, что мудрейший из мудрейших
Гирин - русский. Ни один из европейских друзей
многоопытных гуру не удостаивался такого внимания, как
никому не известный пришелец из России. Гирин представляет
собой все лучшее в русском народе. Профессор-индус,
порицая западную цивилизацию, говорит: ”Я не знаю России,
но думаю, что вы, стоя между Западом и Востоком,
345
взявшись за переустройство жизни по-новому, вы — другие”
33. В этих словах интересно и то, что, не зная России,
профессор убежден в ее превосходстве над Западом, и то,
что это превосходство объясняется положением страны на
границе двух разных культур. Честь синтеза должна принадлежать
не ученнейшим брахманам, а русскому философу.
Первой по лезвию бритвы пройдет не какая-нибудь другая
страна, а Россия (Ефремов ни разу не пишет: ’’Советский
Союз”, а всегда ’’Советская Россия” или просто ’’Россия”) .
Как тут не узнать столетней традиции русской философской
мысли! Экс Ориенте люкс — основа ’’русской идеи” .
Начиная с Чаадаева в его ’’Апологии сумасшедшего” , эта
идея появлялась почти у всех мыслителей XIX века, она
просочилась в XX век вместе со скифами и евразийцами,
она стояла у фундамента ленинских надежд на мировую
революцию и сталинской теории социализма в одной стране.
В советское время она оторвалась от стремления к синтезу
культур и мысли. Ефремов возвращает идее русского мессианизма
ее первоначальную форму. Тут он тоже был одним
из первых, и он оказался более открытым и разносторонним,
чем большинство ’’новых славянофилов” 60-х годов.
Если ’’Туманность Андромеды” показывала счастливое
общество, а ’’Лезвие бритвы” — пути к формированию человека,
способного построить такое общество, то в ’’Часе
Быка” говорится прежде всего о том, что произойдет, если
человечество пойдет в ложном направлении.
’’Час Быка” — роман, построенный по образцу классической
антиутопии (в нем легко обнаружить влияние отдельных
мест из книги Орвелла), с одним нововведением: анти-
утопическое общество на далекой планете Торманс наблюдается
глазами землян, жителей коммунистической Земли.
Как в ”На краю Ойкумены” здесь сталкиваются два мира,
один из которых олицетворяет злые, а другой — добрые
силы в человеке, истории, космосе.
Следуя правилу, принятому в этой книге, не буду заниматься
социально-политическим разбором картины торман-
346
сианского общества (нужно ли говорить, что в ней ясно
проступают многие черты советского режима?); останемся
при нашей теме — философии Ефремова.
’’Час Быка”, книга, которой нельзя правильно понять, не
зная ’’Лезвия бритвы” , как бы резюмирует все, о чем начинал
говорить Ефремов раньше, дает четкие формулировки
его взглядов.
Философский стержень романа состоит в раскрытии перед
читателем законов развития жизни — той самой жизни, которая
противостоит космической энтропии.
Жизнь — светлое начало во вселенной. Но в ней самой
скрывается зло: все живое обречено на гибель. Главный
принцип всякой эволюции — принцип инферналъности.
Живая материя усложняется в адских муках. Эволюция жизни
на Земле — ’’страшный путь горя и смерти”34. Слепая
природа, направляя свое развитие к усовершенствованным
формам, все более независимым от окружающей среды,
поступает как игрок в кости: добивается результата несметным
количеством бросков — а за каждым из них стоят
миллионы погибших жизней.
Человеческая жизнь — то же инферно, только двойное:
для тела и души. Чем совершеннее чувства, разум — тем
больше страдания отпущено понимающему неизбежность
смерти человеку.
Крайняя тенденция принципа инфернальности — Стрела
Аримана, тенденция направленности зла в мире, действующая
и в природе, и в человеческом обществе. Всеобщий
закон усреднения, отбрасывая низкие и высокие структуры,
благоприятствует все большему распространению вредоносных
форм в природе за счет полезного и прекрасного. Когда
замыкается круг инферно — слишком совершенное приспособление
к условиям данной экологической ниши или самоизоляция
инфернального общества, — тогда появляется
Стрела Аримана, отбрасывая развитие на низшую ступень,
на низший круг ада.
Все построение не просто метафизично. Это настоящая
теодицея, постановка и решение вопроса о существовании
347
Зла. Она стоит на новом дополнении к ефремовской философии:
на допущении элемента иррациональности в мироздании,
порожденного столкновением двух противоположно
направленных законов — закона стремления к высшим
структурам, эволюции, и закона усреднения структур. Такая
иррациональность — не случай, как его понимает современная
наука, игнорирующая оценочный подход, а злотворный
хаос с его непременным атрибутом — смертью. Природа
иррациональна в своей великой игре в кости, круговорот
Зла в принципе может продолжаться вечно. В символе вечности
— змее, вцепившейся в свой хвост — заключается ’’величайшая
загадка жизни и ее бессмысленность”35.
Бессмысленность жизни в том, что существует смерть.
Ефремов испытывает ужас перед смертью.
В ’’Туманности Андромеды” есть такой эпизод. Ученые,
задумавшие опасный опыт с нуль-пространством, ищут
аргументы в пользу его проведения. Один из них, выражает
мнение большинства: победа над пространством, разделяющим
разумные миры, поможет им слиться в одну семью и
человечество сделает еще один шаг на пути к овладению
природой. Это рассуждение целиком направлено в будущее.
О другом думает Мвен Мае, один из главных героев книги:
он вспоминает раскопки, кладбища, миллионы безвестных
могил, видит миллиарды прошедших человеческих жизней,
— это они требуют победить время, побеждая пространство,
раскрыть ’’великую загадку времени” .
Это очень важные мысли. Речь здесь идет не о людях,
погибших в борьбе за лучшее будущее, не о тех, кто шел на
подвиг ради прогресса. Мвен Мае потрясен смертью, поражением
в схватке со временем всех безвестных (и известных)
живших когда-либо на Земле. Он связан с ними одной
нитью, и его решение провести опыт, вопреки всеобщему
мнению, вызвано чувством долга перед ними. А в ’’Лезвии
бритвы” Гирин ощущает тяжесть прошлого еще больше, он
считает себя ответственным за ’’все страдания живой плоти
в ее историческом пути от амебы до человека”36.
Марксистские философы часто вспоминают прошлое,
348
рисуя ужасы рабовладельческих обществ, ’’темные века” ,
преступления капитализма. Но все их обвинения сводятся в
конечном счете к двум формулам. Или ’’Было плохо, стало
плохо, но из этого зла родится прекрасное будущее” (на
Западе), или ’’Было плохо, стало хорошо, а будет еще лучше”
(в социалистических странах). Обе эти формулы определяют
сравнительные качества исторических формаций.
Марксизм не знает зла вне общественных отношений, в нем
нет благоговения перед прошлым, нет памяти о страданиях
амебы, нет страха перед ходом времени. Вектор мысли и
действия, в особенности этической мысли и этического действия
направлен всегда вперед, в будущее.
Отношение к прошлому сближает Ефремова не с марксизмом,
а с русскими мыслителями XIX века.
Восставший против Логоса Истории Белинский писал:
’’если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы
развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во
всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа
II и пр.; иначе, я с верхней ступени бросаюсь вниз головой”
37. У Достоевского Иван Карамазов возвращал Богу
свой билет на вход в мировую гармонию — из-за слезинки
одного замученного ребенка. Это неотъемлемое от русской
традиции чувство связи с прошлым, эта ненависть к страданиям
и смерти нашли свое законченное выражение в системе
Николая Федорова, для которого отвратительны были все
классические, социалистические и другие утопии, ибо все
они рисуют ’’общество, пирующее на могилах отцов”38.
Федоров, величайший научный фантаст среди философов,
создал свой ’’проект” для того, чтобы избежать такой ”шига-
левщины во времени” (по выражению Иванова-Разумника).
Ее старается избежать в своих утопических построениях
Ефремов — и во многом повторяет идеи Федорова.
Случайно ли это? Если взглянуть на высказывания Ефремова
с этой точки зрения, они неожиданно складываются
в стройное целое.
Вспомним главные мысли Ефремова о мироздании.
Косной космической материи противостоит жизнь. Сила
349
жизни в том, что она совершенствуется и в высшей точке
своего развития родит жизнь, мыслящее существо. Ефремов
потратил очень много труда в своих книгах и статьях,
доказывая, что форма человека это форма идеальная, а
значит, закономерная для разумного существа, отточенная
в борьбе с силами космоса, враждебными жизни (отмечу,
что точно так же рассуждал А. Богданов в ’’Красной звезде”)
. Все мыслящие существа должны походить на человека,
или иначе: человек рождается везде, где возникает жизнь,
сопротивляющаяся натиску энтропии. Человек — это максимум
жизни, максимум вселенской энергии, это антиэнтропия
мира.
Борьба жизни с мертвой материей, борьба с принципом
инфернальности в эволюции жизни и в эволюции человеческого
общества может длиться вечно. Ефремов видит только
один выход из нее. Зло и страдания не прекратятся до
тех пор, пока ’’мудрость людей, объединившихся в титанических
усилиях, не оборвет этой игры слепых стихийных
сил, продолжающейся уже миллиарды лет в гигантском
общем инферно планеты”39. ’’Великое кольцо” призвано
’’нести во все концы вселенной могучую силу разума, побеждая
косную, неживую материю”40. А в ’’Сердце Змеи”
сказано: ’’Человек - это единственная сила в космосе,
могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные
препятствия, идти к целесообразному и всестороннему
переустройству мира”41.
В системе Н. Федорова Бог сотворил вселенную, но вселенная
мертва, хаотична, бездушна. Только человек своим
разумом и своим усилием способен вдохнуть в нее смысл:
”Бог воспитывает человека собственным его опытом. Он —
Царь, который делает все не только лишь для человека,
но и через человека; потому то и нет в природе целесообразности,
что ее должен внести сам человек, и в этом заключается
высшая целесообразность”42.
Федоров учил, что стремиться следует не к загробному
раю, а к построению счастливой жизни для всех на Земле.
Для этого все люди должны осознать себя братьями, объе-
350
диниться и действовать сообща, подчиняясь этическому
императиву долга перед отцами, перед ушедшими поколениями.
Объединенное человечество силой науки сможет
победить мировое зло — смерть, упорядочить вселенную.
Необходимый для этого этап — заселение ’’небесных пространств”
43.
Много раз Ефремов повторяет те же мысли об объединении
человечества, об этическом смысле завоевания космоса,
о необходимости победы над временем и пространством.
Его философию с полным правом можно назвать ’’Философией
общего дела” . Для Ефремова так же, как и для Федорова,
нравственный человек не нуждается в принуждении
(и единственный из всех советских фантастов он создает в
своей утопии Остров Забвения); для него, как и для Федорова,
природа — великая ценность, без которой человек
перестает быть самим собой; всех героев ефремовской
утопии отличает аскетизм, презрение к материальным благам
(на Земле был даже Век Упрощения, когда люди учились
обходиться самым малым в жизни, сохраняя силы
для накопления духовного богатства), — тому же учил и
Федоров, всю жизнь проживший скромным библиотекарем;
Ефремов восхищенно почитает Индию, которую Федоров
называл ’’учителем Запада и Севера” . Даже название первой
космической повести Ефремова, для которого звездными
кораблями были обитаемые планеты, приводит на мысль
слова Федорова о том, что ’’человечество должно быть не
праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего
земного корабля” и что ход этого корабля будет управляться
сознанием и волей объединенного человечества!44
Отметим в скобках, что и на Западе высказываются подобные
соображения. Известнейший архитектор, изобретатель
геодезического купола Р. Бакминстер Фуллер проповедует
свою идею звездолета ’’Земля”. И он же, одновременно
с Норбертом Винером и независимо от него, в тридцатые
годы обосновал теорию о человеке как антиэнтропии вселенной.
Однако, описание действия звездолета ’’Земля” у
Фуллера вызывает в памяти строки из ’’Пачки ордеров”
351
Гастева и мало похоже на мечты Ефремова. У западного
мыслителя нет и следа той метафизики смерти и этики долга
перед страдавшими и погибшими, которые стоят в центре
мироощущения Ефремова. Это две разные традиции — интеллектуальная
и утилитаристская, с одной стороны, эмоциональная
и нравственная — с другой.
Более близкие аналогии идеям Ефремова можно отметить
в системе Тейара де Шардена, также палеонтолога.
Тейар многое в своей философии создал под влиянием Вернадского,
который читал цикл лекций в Париже в 1922—
1923 году. Понятие ’’ноосферы”, введенное Тейаром и Ле
Руа, Вернадский принял в своих работах и развил вокруг
него учение, изложенное в последней прижизненной публикации
’’Несколько слов о ноосфере” (1944). Ефремов
несколько раз ссылается на Вернадского, явно считая его
своим научным мэтром, и пользуется термином ’’ноосфера” .
С другой стороны, Тейар вполне мог повлиять на Ефремова
через свои научные труды (книга Тейара ’’Феномен человека”
в сокращенном виде была опубликована в СССР).
В книгах Ефремова нет упоминаний о Федорове. Трудно
догадаться, не зная личного архива писателя, читал ли он
Федорова или же федоровские идеи пришли к нему обходным
путем, из работ Вернадского и Циолковского. Есть
еще один возможный источник: федоровское учение нашло
очень своеобразное преломление в творчестве одного из
интереснейших мыслителей начала XX века, погибшего в
лагере и до сих пор запретного о. Павла Флоренского, представлявшего
себе вселенную как арену борьбы энтропии
с эктропией, общечеловеческим разумом. Флоренский,
кстати, очень интересовался разными мистическими учениями.
Наконец, нельзя в этой связи не упомянуть и Замятина,
для которого так же, как и для Ефремова, в мире
вечно борются силы энтропии и энергии, понимаемые одновременно
и как физические явления, и как универсальноонтологические
категории, и как категории, определяющие
развитие общества и человека.
В любом случае сомнений быть не может. Супраморализм
352
Федорова, определяюще повлиявший на весь пионерский
период советской НФ, отразился в мировоззрении писателя,
возродившего этот жанр после долгого упадка. И Ефремов,
со всеми своими заимствованиями из эллинской древности
и индусской культуры, целиком принадлежит к традиции
русской мысли.
По мере развития своих концепций Ефремов все дальше и
дальше уходит от марксизма. Метафизик и дуалист по складу
мышления, он рисует манихейскую картину мироздания,
наполненную символическими значениями и ничуть не похожую
на космологию по диамату.
Поначалу типичный научный фидеист, он начинает сомневаться
в науке. Он говорит вдруг, что ’’наука даже в собственном
развитии необъективна, непостоянна и не настолько
точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование
общества”45. Речь здесь идет, по-видимому, лишь о естественных
науках, но замечание симптоматично. Ефремов
отдаляется от рационалистического логоцентризма, неотделимого
от понимания научности в марксизме. Он допускает
действие иррационального в космосе. Признав роль
подсознания и эроса в человеческом поведении и открыто
противопоставив интеллект чувствам, он в то же время
порывает с социоцентризмом. Неизменное примитивное
подсознание, личностные функции эроса и эмоций — в этой
схеме остается мало места для общественных отношений.
А идея прозрения просто обходит все помехи между личностью
и мирозданием.
Но самый сильный удар Ефремов наносит по ортодоксальному
пониманию человеческой истории.
Для ученых-марксистов в истории главное — возникновение
и развитие производительных сил, эволюция производственных
отношений и борьба классов, т. е. история
равна истории борьбы за распределение материального
базиса в обществе. Ефремовские историки будущего занимаются
’’главным — историей духовных ценностей, процессом
перестройки сознания и структурой ноосферы” . Кри-
353
тика начал экономического и исторического материализма
бьет по определенной цели:
’’Больше двух тысяч лет назад некоторые нации на Земле
верили, что политические программы, будучи применены в
экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории
без предварительной подготовки психологии людей”46.
Ефремов требует изменить основное положение марксистской
теории: ’’Время идет, и качество человека как
интегральной единицы общества становится настолько
важным для коммунистического завтра, что уже теперь следует
считать воспитание, образованность, психологическую
подготовку людей не чем-то надстроечным, как раньше, а
базисным элементом производительных сил”47.
По своему обыкновению Ефремов выражается крайне
неточно: время здесь ни при чем. Сознание всегда было базисом
общественной жизни, об этом учил у Ефремова уже
античный философ из ”Таис Афинской” .
В 70-е годы в официальную повестку дня был включен
вопрос о настоятельной необходимости превратить граждан
эпохи ’’развитого социализма” в живые воплощения идеала,
описанного кодексом строителя коммунизма. Ровно двадцать
лет прошло после публикации ’’Лезвия бритвы” и вот,
в июне 1983 года, тов. Черненко буквально повторяет ефремовский
постулат: ’’Революционное преобразование невозможно
без изменения самого человека. И наша партия исходит
из того, что формирование нового человека - не только
важнейшая цель, но и непременное условие коммунистического
строительства” . Не будем, однако, удивляться: о ’’Новом
человеке” говорили и Ленин, и пролеткультовцы, и
Сталин, и Хрущев. А в наши дни, когда, благодаря чудесам
НТР и трудовому подвигу народа, база социализма, наконец,
реально построена, надо надеяться, что новый человек в
скором времени реально сформируется, с его помощью
будет построен коммунизм, и на этой новой базе сформируется
житель коммунизма, еще более новый человек, настолько
же более совершенный, чем ’’строитель коммунизма”
, насколько последний совершеннее жителя ’’реально-
354
го социализма” . Короче говоря, суть доктрины ни в чем не
меняется.
Ефремов же пытался пересмотреть именно ее суть: у него
сознание не просто включается в базис, но доминирует все
остальное: ’’пресловутое неравенство распределения материальных
вещей не последняя беда, если только правители
не стараются сохранить свое положение через духовную нищету
народа”48. Яснее сказать нельзя: неравенство материальное,
лежащее в основе разделения на классы, менее
важно, чем духовная бедность.
Ефремов предлагает собственную концепцию исторического
развития. Есть вся история человеческого .общества
до воцарения коммунизма: это инферно, развитие в нем
условно и обратимо. Но есть и медленный подъем из инферно.
Фантазия человека рождает искусство, которое преодолевает
инферно, строя ’’первую ступень подъема. За ней
последовала вторая ступень — совершенствование самого
человека, и третья — преображение жизни общества. Так
создавались три первые великие ступени восхождения, и
всем им основой послужила фантазия”49.
Фантазия, искусство, самоуглубление, самосовершенствование
— сознание, — вот сила, движущая историю. Общество
преображается лишь в последнюю очередь. О производительных
силах Ефремов не считает нужным упоминать.
Так Ефремов окончательно расходится с марксизмом,
планомерно разрушает все его теоретические аксиомы,
ставит на его место свою собственную философию.
Ефремов был невнимательно прочитан и плохо понят.
Успех ’’Туманности Андромеды” помешал разглядеть в нем
что-либо другое, кроме энциклопедической выдумки, динамического
оптимизма, крайнего антропоцентризма и геоцентризма.
Возникло клише, принятое и официальными
критиками, и представителями ’’новой волны” , и западными
исследователями: Ефремов — фантаст-соцреалист, противоположность
польского писателя С. Лема и братьев Стругацких.
Это сопоставление не лишено смысла, — но именно как
355
сопоставление, а не противопоставление. Система же оценки
здесь просто ложна. Лем поразил воображение советских
фантастов — оставаясь социалистическим писателем, он касался
тем, о которых им и не снилось (но он жил в Польше,
а не в СССР — разница фундаментальная). Возбужденная
примером, ’’новая волна” бросилась на поиски новых тем и
новых приемов. Ефремов продолжал развивать свои мысли.
Его стали упрекать в традиционализме, в отсутствии глубины,
в том, что, блуждая в космосе, его герои нигде не встречают
’’Неожиданного, Иного”50. Ефремов очутился где-то
на полпути между ’’ближними фантастами” и ’’новаторами” .
И не без согласия последних им полностью завладели стражи
идеологии.
Редко рекуперация удавалась так, как в случае с Ефремовым.
Его не переставали хвалить, избегая анализировать его
книги, пропуская самое важное. И хвалили только за прошлое
— за ’’Туманность Андромеды” и ’’Сердце Змеи” . О
’’Лезвии бритвы” было мало рецензий и ни одного серьезного
разбора. О ’’Часе Быка” говорилось еще меньше. Е. Бран-
дис и В. Дмитревский — биографы и постоянные комментаторы
Ефремова — успели написать в начале 1972 г. статью,
бегло касаясь сюжета ’’Часа Быка” и теории инфернально-
сти. Но в некрологе, опубликованном от имени ССП и традиционно
перечисляющем произведения умершего автора,
’’Час Быка” вообще не упоминается. Линия была указана.
В очерке, посвященном жизни и творчеству писателя, написанном
теми же Брандисом и Дмитревским для первого
тома его избранных произведений, о ’’Часе Быка” уже нет
ни слова. С тех пор роман как будто никогда и не существовал.
В творчестве Ефремова все неугодное было попросту
вычеркнуто, а сам он наряжен придворным оптимистом.
В большой мере он сам виноват в этом. Он никогда не
отличался ясностью вьюодов, наоборот, он обставлял их
объяснениями и дополнениями, зачастую искажавшими
смысл сказанного. Тут равно сыграли и навыки эзопова
языка, и утопический темперамент, заставлявший Ефремова
браться за решение всех проблем, назойливыми мелоча-
356
снижать масштабы своих мыслей. В такой форме его концепции
легко уязвимы для критики и составляют благодарный
материал для всяческих идеологических подтасовок.
Официальную критику с Ефремовым еще больше примирило
его понимание искусства. Ефремов обладал определенным,
но ограниченным даром: он был пейзажистом, художником
природы. Ему часто удавались детали — описания
архитектуры, бытовые сцены, аксессуары в исторических
произведениях. Но по мере того, как он отдалялся от конкретностей,
шел к обобщениям, к своим теориям или изображению
идеального общества, все чаще появлялись в его
прозе неточность языка, неестественность ситуаций, слащавые
образы, патетические мелодекламации. О. Мандельштам,
которого я так люблю цитировать, заметил как-то:
’’Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно
лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение
художника. Между тем, мироощущение для художника
орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и
единственно реальное - это само произведение”51. Ефремову
такое понимание искусства чуждо. Он не верит в само-
цельность творчества. Он считает, что художник обязан учить
жизни, искусство должно формировать людей и улучшать
общество. Поэтому искусство может быть только назидательным,
только реалистическим (воспитывать на абстрактных
примерах нельзя), говорить только о прекрасном (давать
образцы для подражания). Эти убеждения характерны
для традиции классической утопии, но они вполне совпадают
и с требованиями соцреализма. Так получилось, что ортодоксальная
форма заслонила у Ефремова содержание. Я
глубоко убежден, что именно в этом главный секрет его
успеха у советских идеологов литературы: недаром в последнее
время он поднимается на щит как создатель ’’оригинальной”
эстетики5 2.
Между тем, недостатки Ефремова и сам факт его рекуперации
не должны мешать оценить его творчество по достоинству.
Он был зачинателем в области НФ и являл в ней вели-
357
чину, с которой нельзя было не считаться. Другие писатели
определяли себя отношением к ефремовским идеям. Его
влияние ощутимо до сих пор. Значение его не ограничивается
рамками жанра. Он написал исторические повести, в которых
выражал протест против тоталитарного режима и предвосхищал
главные темы оттепели. Он написал первую и
последнюю в послевоенной советской литературе настоящую
утопию; самую детальную и всестороннюю антиутопию;
большой роман о мистическом общении с миром и о связи
культур Запада и Востока. Этого достаточно, чтобы войти в
историю литературы (а не только историю НФ), особенно же
там, где подобных книг не было в течение десятилетий, а
значение книги зачастую определяется не ее литературными
качествами, а ее отношением к господствующим штампам.
Ефремов — уникальное явление в официальной литературе.
Четверть века он без устали стремился к своей главной и
единственной цели, к заполнению той пустоты — духовной и
психической, — которую оставило в людях исчезновение
религии, и попытка заместить ее материалистической доктриной.
' Он построил свою мировоззренческую систему,
основанную на нравственных и метафизических понятиях
самосовершенствования, долга перед прошлым, борьбы
добра и зла в человеке, в обществе и во вселенной.
Свои мысли Ефремов изложил противоречиво, подчас
наивно, подчас искажая очевидные факты и прикрываясь
благонамеренной фразеологией. Тем не менее, его учение
оказалось в целом неприемлемым для советских идеологов.
И мне кажется, что Ефремов преподал советской литературе
— и не только литературе — урок большой важности. Будучи,
видимо, искренним коммунистом, марксистом, атеистом,
в своих поисках духовной опоры он пришел к полной
ревизии философии диалектического материализма и связал
себя с традициями религиозной — русской христианской и
индуистской — мысли. Своим примером он доказал, что все
ухищрения оживить догматическое мировоззрение тщетны,
тем материалом и теми орудиями, которые оно имеет в своем
распоряжении, заполнить духовный ваккум невозможно.
358
Глава 11
КОЕ-КАКИЕ ВЫВОДЫ О ФАНТАСТИКЕ 60-х ГОДОВ
Как только разговор заходит о специфике советской НФ,
критика в СССР и на Западе проявляет редкое единодушие.
Специфика эта усматривается главным образом в оптимизме
(навязанном или искреннем в зависимости от взглядов
критика). Часто говорится о тематических пробелах или,
с советской точки зрения, об отказе от устаревших или типично
буржуазных тем. Наконец, иногда разницу находят в
манере письма — традиционной в советской НФ, модернистской
на Западе1.
Мы смогли убедиться, насколько такие прямолинейные
суждения далеки от истины. В фантастике 60-х гг. мы встретились
и с откровенным пессимизмом, и с произведениями,
ускользающими от однозначной оценки. Очень многие типичные
для западной НФ темы и идеи перенимаются и советскими
фантастами; пробелы в тематике есть, но есть и свои
темы, затронутые на Западе очень бегло: такова тема вмеша-
359
тельства в законы общественного развития. Что же касается
манеры письма, то сложность композиции, эффекты стиля,
богатство фантазии некоторых произведений фантастики
60-х гг. могут удивить не одного почитателя Дика и Фармера.
В адрес приведенных суждений можно сделать более
серьезный упрек: мне кажется, что в них ошибочна сама постановка
вопроса.
Значение жанра, автора, книги не измеряется их тональностью,
числом формальных приемов или разнообразием
тем. Гораздо существеннее определить реальное место жанра,
автора, книги в реальном художественном процессе и их
значительность для своего социально-культурного контекста.
Именно под этим углом я пытался осветить фантастику,
определить ее функцию в контексте советской литературы,
понять ее значение для советского читателя.
О функции жанра, о его значении в советской литературе
ведется спор с тех пор, как было решено, что уже недостаточно
старое определение НФ как ’’средства агитации и пропаганды
науки и техники” . Цодходя к выводам, задержусь
на этом споре: он имеет прямое отношение к нашему анализу.
С самого начала спора возникли два лагеря. Ни в том, ни
в другом нет, конечно, полного единства мнений, есть зато
согласие в принципиальных вопросах; поэтому четко проступают
две противоположные позиции.
Первая наиболее обширно аргументируется в самом фундаментальном
исследовании о советской НФ, книге А. Бри-
тикова ’’Русский советский научно-фантастический роман”
(1970) и в его же статьях 70—80-х гг. Бритиков понимает
научную фантастику очень широко: это либо жанр, либо
вид литературы, либо художественный метод. Во всех случаях
собственно научно-фантастическому элементу отводится
главенствующая роль в структуре литературного произведения.
С этим связана мысль о том, что ’’научная фантасти-
360
ка взывает к иной — более рационалистичной, чем бытовая
художественная литература, сфере воображения” . Отсюда
довольно неожиданное для литературоведа заключение, что
эстетика идеи НФ ’’преобладает над художественной формой”
2. А уже отсюда — известные нам теории героя-рупора
идеи, отказ от быта, от выпуклого изображения человеческих
отношений, от самостоятельного сюжета (он сводится
к ’’приключениям мысли” , то есть изложению зарождения,
развития и борьбы идей). Словом, литературный аспект НФ
отделяется от ’’идеи” и ставится в услужение к ней. Идея же
строится по законам научного мышления. Фантастическое
в ней — не фантастика в обычном смысле, не то, чего не бывает.
Бритиков утверждает, что даже тогда, когда действие
научно-фантастического произведения происходит в настоящем
или в прошлом, ’’речь зачастую все равно идет об идеях,
изобретениях и - главное — людях будущего”3. НФ — рассказ
о том, чего еще нет, но будет. Так Бритиков и говорит:
НФ является ’’массовой формой практического прогнозирования”
4 .
В главе о времени я приводил слова одного из критиков,
прямо противоположные утверждению Бритикова, — о том,
что фантаст всегда пишет только о настоящем. Представители
второго лагеря ценят НФ не за ее способность прогноза о
будущем. Научно-фантастическая гипотеза, пишет Р. Нудель-
ман, ’’позволяет выразить такую проблему или в таком аспекте,
которую нельзя поставить в реальной модели просто
потому, что ее нет в реальном опыте”5. НФ здесь — литературное
средство построения ситуаций, которых не бывает.
Ее ’’научность” равняется логическому развитию исходных
положений — не более. Такая фантастика (ее защитники
часто пропускают слово ’’научная”) охотно пользуется лексикой
и понятиями современной науки. Но свобода пользования
и наукой и фантастикой — главное условие научно-фантастического
творчества. А. Громова требовала права на такой
анализ современности, в котором ’’фантастика произвольно
укрупняет и выделяет какие-то элементы действительности”
6 . НФ - не жанр и не метод, а литературный прием.
361
Таковы две основные позиции в споре.
Они соответствуют двум течениям в советской НФ, течениям,
с которыми мы познакомились в этой книге.
Первое течение - произведения таких писателей, как
В. Немцов и Н. Томан, Л. Лагин и В. Ванюшин, В. Сапарин и
Г. Мартынов, Г. Альтов и А. и С. Абрамовы, и многие другие.
Разномастные в жанровом отношении, вышедшие из-под
пера авторов старого или более молодого поколения, все эти
произведения продолжают линию фантастики 30—50-х гг.,
все проявляют внутреннюю общность, все их можно объединить
в одну категорию. Назову их условно ближней фантастикой.
Второе течение — произведения И. Ефремова, А. и Б. Стругацких,
А. Громовой, В. Савченко, И. Варшавского, Г. Гора
и др. — произведения очень разные, но тоже связанные общей
направленностью. Это — новая фантастика.
Спор о жанре, методе или приеме на деле касается, как
видно, чего-то гораздо более важного, чем литературоведческие
определения.
Бритиков называет главным объектом изображения в
НФ — людей и общество будущего. Но человек будущего
и ростки будущего в современной жизни — это же главный
объект изображения всей литературы соцреализма.
Бритиков это знает, для него все основные черты соцреализма
— слияние романтики с реализмом, изображение жизни
в революционном развитии, активный социалистический
идеал— характеризуются научным предвидением. А если так,
то, разумеется, ценность НФ ’’прежде всего в том, что в
системе социалистического реализма она сама разрабатывает
инструменты конкретного художественного предвидения” ,
оставляя ’’бытовой” литературе ’’прогнозы общего порядка”
7. В статьях 70—80-х гг. Бритиков предложил новый
термин для обозначения НФ: ’’литература опережающего
реализма” , анализирующая будущее и дополняющая тем
самым анализ прошлого и настоящего, которым занята
литература соцреализма исторического и ’’бытового” типа8.
Нужно ли комментировать полную смысловую пустоту
362
— с литературной точки зрения — этой терминологической
софистики? Цель ее очевидна, и она как нельзя лучше характеризует
ближнюю фантастику, которая целиком и полностью
подчинена одному принципу: остаться внутри пределов,
очерченных теорией и практикой официально дозволенной
и поощряемой литературы. Ближняя фантастика дополняет
’’бытовую” литературу ’’конкретными” деталями будущих
научно-технических и социальных свершений советского
общества, иначе говоря, имеет дело все с той же,
одной единственной фиктивной моделью ложной действительности,
построенной общими усилиями официальной
идеологии и литературы.
Ясно, что специфическая функция НФ, создание вариантов
действительности, по вольной воле фантаста — ’’произвольно”
, как говорит Громова, — комбинируя ее элементы,
противоречит основам соцреализма. Поэтому в ближней
фантастике научно-фантастическое событие доминирует, но
функция его полностью теряется. Ее замещает другая:
функция кратко- или долгосрочного научного предвидения,
функция совершенно алитературная. В очищенном от
диалектических украшений виде позиция Бритикова и других
критиков этого толка состоит в возвращении НФ роли
’’средства агитации и пропаганды науки и техники” — недаром
они так часто подчеркивают ’’коэффициент осуществления
предвидений” Верна, Уэллса, Беляева, и так любят
цитировать слова видных ученых о том, как НФ помогла
им выбрать дорогу в жизни. Если ближняя фантастика
иногда - редко — и способна предугадать какое-нибудь
научное изобретение, она принципиально лишена способности
открыть что-либо новое для литературы. Несмотря на
всю ’’научность” и ’’конкретность” своих прогнозов, за
пять десятилетий она не дала советской литературе ни
одного значительного в художественном смысле произведения.
Тематика, тональность, качество или количество идей,
даже место, которое научно-фантастическое событие занимает
в сюжете, — всего этого недостаточно, чтобы опреде-
363
лить разницу между ближней и новой фантастикой. Ведь ситуации,
характерные для ’’чистой” НФ, могут замышляться
и восприниматься как тропы большой выразительности, а
книги, претендующие на многогранность и глубину — как
банальность; необычную тему легко опошлить, окружив
штампами, а избитая научная идея способна поразить воображение,
если в нее заложено живое литературное значение.
Новая фантастика не просто отличается от ближней, она
противостоит ей. Новая фантастика могла родиться и родилась
только после крушения цельного, прочного монолитного
мира, — когда была осознана возможность выбора
новой, неизвестной реальности. И по рождению, и по развитию
новая фантастика — литература оттепели.
Суммируем наблюдения над новой фантастикой.
По природе своей НФ играет роль ’’сказки машинного
века”, сказки рационалистической и поэтической в одно и
то же время.
В советских условиях ее рационалистическая база оказывает
ей большую услугу.
И. Варшавский говорил, что в фантастике существует
множество способов установить контакт с отдаленным на
тысячи парсек миром — от хвоста дьявола до сверхскоростных
лайнеров; самому Варшавскому по душе больше
всего хвост дьявола, откровенный фантастический прием,
— но ’’редакторы не любят мистики. Они хотят, чтобы все
было ’по науке’ ”9.
Редакторы боятся мистики и фантастики как огня.
Однако, оттепель кое-что изменила по сравнению со счастливыми
по своей простоте временами Жданова. Реабилитация
наук, заклейменных как махровая мистика, крах авторитетов
(особенно запоздалое падение Лысенко), новые
научные дисциплины, требование эффективного, а не мнимого
технического развития в военном и космонавтическом
секторе - все это лишило церберов науки уверенности в
себе. Они уже не могут по своему усмотрению громить тео-
364
рии и школы. Из-за усложнения понятийного аппарата науки
практически невозможно решить, не будучи специалистом
в данной области, научна или нет новая теория. Тем менее
это возможно, если новая теория излагается в форме литературной
ситуации. Поэтому цензура, запутавшись в ’’эффектах
Допплера”, ’’искривленном пространстве” и других маловразумительных
словечках, стала глядеть сквозь пальцы
на то, что происходит в НФ. Благо по старой памяти ее считали
литературой для детей и подростков.
Но НФ 60-х годов устроила цензуре подвох.
Писатели скоро обнаружили, что в форме рационалистической
’’сказки” кроются богатые возможности для контрабанды
мысли и формы. И вот, писать НФ и читать ее стали
люди, по-настоящему думающие о проблемах нашего века.
Задумавшись о судьбе науки в обществе, написал научно-
фантастическую пьесу ’’Свеча на ветру” А. Солженицын. Его
пьеса не обманула бдительности цензуры — было ясно, что
писал он не сказку и не для детей. Но увидели свет в советских
издательствах ’’Час Быка” и ’’Лезвие бритвы” И. Ефремова,
’’Обитаемый остров” и ’’Улитка на склоне” Стругацких,
’’Побег” И. Варшавского и ’’После перезаписи” А. Шарова,
”В круге света” Громовой и ’’Когда погасло солнце”
В. Бахнова, и многие другие вещи, никогда не получивших
бы визу в печать, если бы на них не было грифа ”НФ” .
’’Современная сказка” обернулась лабораторией вольной
мысли.
Я останавливался на взглядах новых фантастов. Самое в
них важное, на мой взгляд, — это обращение к традиции русской
философской и социальной мысли, в первую же очередь
— к идеям, нашедшим отклик уже у писателей 20-х гг.
Новые фантасты связали разорванную цепь.
Замятин, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Пастернак,
Заболоцкий размышляли о природе прогресса и истории, об
их законах, о праве вмешиваться в них, о взаимоотношениях
культур, о месте личности в обществе, а человека - в
мироздании, о роли мысли и чувств, словом — о самом главном.
Они по-своему осваивали опыт XIX в., опыт Достоев-
365
ского, Соловьева, Л. Толстого, К. Леонтьева, Н. Федорова.
Писатели оттепели с новым опытом возвращаются к тем же
вопросам, усомнившись в ответах, навязанных официальной
доктриной. И мы смогли убедиться, что идеи мыслителей
Х1Х-го и писателей начала ХХ-го века живут и опреде-
ляюще влияют на становление мысли в наше время. Яснее
всего это проявляется именно в фантастике, по природе
своей занятой проблемами общества и мироздания. Только
в научно-фантастических книгах можно было недвусмысленно
осуждать революцию как инструмент истории и
прогресса, вспоминать об ответственности будущего перед
прошлым, открыто отвергать доминирующую роль материальных
факторов в судьбах мира, искать вдохновения в
трудах религиозных мыслителей.
Из всей печатающейся в советских издательствах литературы
только НФ давала возможность назвать ’’Философию
общего дела” Н. Федорова ’’великой книгой” , как это сделал
Г. Гор в ’’Ольге Нсу” .
И только НФ давала возможность последовательного
построения системы философских взглядов, противопоставляемых
официальной марксистской философии.
Словом, в своей лаборатории новая фантастика искала
альтернативу разным аксиомам официального мировоззрения.
Но это лишь один аспект ее.
В фантастике непрерывно идут реакции и превращения.
Иногда в их результате новая фантастика перерождается в
ближнюю. Иногда сдвиги происходят в другом направлении.
В одной из статей братья Стругацкие так пишут о своем
творчестве: ’’Половина наших вещей была написана так:
выкристаллизовалась идея, наметились герои, заиграл сюжет,
подробно разработан план первых двух-трех глав. И
вот, когда уже написаны несколько страниц первого черновика,
уже вроде бы пошло дело, вдруг выясняется, что нам
скучно /.../. Именно в этот момент отчаяния и бессилия,
366
вероятно, и начинается настоящая работа, и из глубины сознания
всплывает то, над чем мы подспудно думали последнее
время /.../. ’’Трудно быть богом” , ’’Улитка на склоне” ,
’’Гадкие лебеди” появились не от изящно продуманной ситуации
и не от оригинальной логической модели, а как раз
вопреки этому. С другой стороны, такие повести, как ’’Страна
багровых туч”, ’’Стажеры” , ’’Полдень, XXII век” , почти
все наши рассказы, то есть те наши вещи, которые явно относятся
к фантастике научной, есть результат последовательной,
планомерной, до конца наперед рассчитанной ра-
боты” 10.
Я решился привести такую длинную цитату, ибо высказывание
Стругацких на редкость откровенно и важно. В
нем сдвиг в фантастике представлен как движение от сознательного
к полу- или подсознательному творчеству.
Оставим в стороне вопросы психологии творчества. В
литературном плане явление, о котором идет речь, дает о
себе знать как освобождение от правил традиционно-реалистического
повествования (атрибуты НФ вроде космолетов
и бластеров ничуть не нарушали этих правил) и как
переход от формальной системы, заимствованной в несколько
упрощенном виде из ’’исповедальной прозы” к гораздо
более сложной системе гротеска, сатиры, фантастики образов,
а не идей.
Так объясняется, почему многие писатели новой волны
видят в НФ не более, чем прием: они отстаивают свое право
пользоваться любыми приемами, право на сложные системы,
на литературу многих параметров; тогда как понимание
НФ как жанра, вида, метода, отличного от всех других, ибо
подчиненного научно-фантастической идее, превращает жанр,
вид, метод в систему с ограниченными параметрами, что
неизбежно ограничивает и свободу писателя.
В той же статье Стругацкие делят фантастику на молодую
научную (ее классики — Жюль Верн, А. Беляев) и ’’старую” ,
как они говорят, ’’реалистическую” (Уэллс, Кафка, Булгаков)
. Свои лучшие вещи, как мы видели, Стругацкие относят
к ’’реалистической фантастике” . Так о своем творчестве
367
думают и некоторые другие новые фантасты - об этом свидетельствуют
хотя бы рассуждения Варшавского о ’’хвосте
дьявола”. Вопрос здесь стоит не о терминах и определениях,
а о литературной традиции, к которой чувствуют себя причастными
новые фантасты.
Мы видим, что в 60-е гг. повторяется феномен, замеченный
при разговоре об исторических корнях НФ в первой главе
этой книги. НФ достигает уровня большой литературы,
выходя за пределы жанра, когда удельный вес научно-фантастического
элемента (рационализации невероятного)
уменьшается, когда научно-фантастическое событие становится
лишь одним из приемов, а творчество подчиняется не
принципу ’’планомерной” рациональности, а подсознательному
импульсу, когда, наконец, задача пропаганды науки
и техники уступает место поискам нового содержания и
новых литературных форм.
По ходу работы над моей книгой я провел анализ цензурных
купюр в научно-фантастических публикациях, сравнивая,
между прочим, польское и советское издания ’’Соля-
риса” С. Лема. В переводе остались почти все важные и,
казалось бы, очень смелые размышления и разговоры героев
(за исключением их рассуждений о Боге), урезаны же
прежде всего описания фантастических снов и видений, то
есть места, где в традиционное повествование врываются
алогические и вселяющие ужас героям и читателю проекции
подсознания.
Таково правило. В официальную печать зачастую легче
прорваться произведениям, в бесцветной форме высказывающим
кощунственные (разумеется, в известных пределах)
мысли, чем книгам, лишенным какого бы то ни было
политического или идеологического звучания, но необычным
по форме. Больше десятка цензурных контролей проходит
книга при подготовке к печати, и первый из них —
цензура стиля. Я говорил, в чем опасность формального
новаторства. Добавлю, что напечатанную мысль еще надо
уловить, расшифровать, ее можно замолчать или исказить в
368
комментарии, а пропущенная цензурой фраза с взорванным
синтаксисом, удивительное словообразование, сюрреалистический
образ предстают перед читателем в своем первозданном
виде.
Короче говоря, в официальную литературу формальные
изыскания пропускаются в гомеопатических дозах. Вряд ли
стоит говорить об аллегорическом и символическом романтизме,
специальности литовской и украинской литератур,
этом узаконенном отклонении от ’’воспроизведения жизни
в формах самой жизни” , то есть от серого реализма. Интересна,
но не слишком отходит от традиционной манеры лирическая
с сюрреалистическим уклоном проза Ф. Искандера.
Многообещающими казались опыты, направленные на возрождение
фантастической литературы вне жанра НФ, — у
Аксенова (’’Затоваренная бочкотара” , ’’Рандеву”) , Залыгина
(’’Оська — смешной мальчик”) , Анчарова (’’Самшитовый
лес”) , недавно — у В. Орлова (’’Альтист Данилов”) . Но появление
в самые последние годы таких книг, как ’’Буранный
полустанок” Айтматова или ’’Ягодные места” Евтушенко,
в которых фантастические ситуации старательно отжаты
от всего необычного и нагружены открыто дидактической
задачей, доказывает, что официальная фантастическая литература
не состоялась и состояться не может. В 70—80-е гг.
критики единогласно восторгаются ’’стилистическим многообразием”
современной литературы. Увы, чтение большинства
советских книг последнего времени оставляет впечатление
довольно тоскливого стилистического и прежде
всего языкового однообразия. Можно сказать, что единственное
в печатающейся литературе реальное и формально
значительное явление — разрешенное по причинам государственно-
идеологического порядка — это поворот к подлинно
народному языку в ’’деревенской” прозе, доходящий — у
Шукшина, Можаева, Белова — до возрождения сказа (кстати,
как кажется, на это движение тоже уже наложена узда).
Совсем иное положение в подпольной литературе (в
самиздате, в западных и иммигрантских изданиях). Начиная
с конца 50-х гг. там — как и во всем советском неофи-
369
циальном искусстве - идут очень интенсивные поиски. Качественно
неравноценные, эти попытки найти новые средства
выражения настолько многочисленны, что сами по себе, независимо
от результатов, означают возвращение литературы
к жизни.
Среди самых разных стилей и тенденций в литературе
самиздата11 выделяется течение, начатое произведениями
первых подпольных писателей, завоевавших известность на
Западе, — А. Синявского и Ю. Даниэля, течение, которое с
полным правом можно назвать ’’новой фантастикой” .
В рассказах Н. Аржака (Даниэля) ’’Говорит Москва” и
’’Человек из Минапа” фантастические допущения позволяют
реализовать острые сатирические ситуации. В ранних произведениях
А. Терца (Синявского) фантастика вездесуща
и диапазон ее очень широк: от фантастики абсурда до НФ
и от сказки до сатирического гротеска. Упомяну лишь
’’Пхенц” , аллегорию об одиночестве существа, оторванного
от своей небесной родины, которую можно было бы назвать
одним из лучших рассказов в мировой НФ, если бы она не
оставляла далеко за собой границы всяких жанров; и ’’Любимов”
— антиутопию и убийственную сатиру на советское
общество, историю градоначальника новейшего времени,
которая вполне отвечает пожеланиям тов. Маленкова, призывая
в литературу дух Салтыкова-Щедрина.
Гротеск, абсурд, фантастика появляются в 60-е гг. у очень
многих писателей неофициальной литературы: в пьесах
А. Амальрика и М. Павловой, рассказах и романах А. Ровне-
ра, Ю. Мамлеева, А. Арбатовой, М. Харитонова. Часто гротеск
помогает авторам ’’мистической” прозы пробиться
сквозь внешнюю реальность к ее сокровенному ядру; в
других случаях он служит сатире. Фантастический гротеск
— важный прием в аллегорической антиутопии ’’Биты”
А. Кондратова; он проскальзывает в антиутопии Д. Эвуса
(Н. Бокова) ’’Город Солнца” . Целиком гротескна сатира
Н. Бокова ’’Великая смута или похождения Вани Чмотано-
ва” , по стилю близкая хроникам Шарова и Бахнова. Примыкает
к этому течению блестящая сатирическая повесть
370
В. Ерофеева ’’Москва-Петушки” , фантасмагория которой
объясняется вполне эмпирически: злоупотреблением алкоголя
(замечу в скобках, что был момент, когда ’’алкогольная”
проза занимала важное место в советской литературе,
для нас же не лишено интереса, что ее черты легко найти в
’’Гадких лебедях” Стругацких). Есть гротескные ситуации,
граничащие с фантастикой, в ’’Верном Руслане” Г. Владимо-
ва и ’’Иване Чонкине” В. Войновича — замечательнейших
русских книгах последних двух десятилетий и, разумеется,
одна из вершин этого течения — книги А. Зиновьева12.
Итак, в подпольной литературе цветет и плодоносит богатейшая
линия русской литературы. Для этой линии фантастика
— неотъемлемое свойство реальности; в ней ведется
постоянное разрушение привычного взгляда на мир; ее приемы
- гротеск, абсурд, ирония, гипербола, остранение;
в ней широко открыт доступ подсознательному. В ней обращение
в глубь человеческой души порождает кошмары,
а обращение вовне — самую злую сатиру.
В современной форме этого течения скрестились русская
традиция с недавним открытием — официальными и неофициальными
путями — для советского читателя Кафки, Борхеса,
с одной стороны, и театра абсурда Беккета, Ионеско,
Адамова, с другой. Более заметен и важен, однако, возврат
к родным источникам. Писатели-бунтовщики черпают из
’’страшной” фантастики Ф. Сологуба (проза которого остается
под запретом — тем более любопытно, что некоторые
детали первой части ’’Улитка на склоне” позволяют думать о
влиянии Сологуба, особенно его ’’Навьих чар”) , символического
гротеска А. Белого, изумительных романов С. Клыч-
кова, где сказочный фольклор, смешиваясь с бытом, вызывает
и страх, и смех. Сильно влияние ’’Мастера и Маргариты”
Булгакова. Очень сильно повлияло на молодых писателей,
ищущих новые формы, творчество Обэриутов, которые
постепенно занимают в истории современной русской литературы
место, по праву им принадлежащее, — одно из
первых. Глубокий след оставил на новой фантастике Замятин.
371
По целому ряду признаков лучшие произведения новой
волны в советской НФ приближаются к этой литературной
традиции.
В самом начале 20-х гг. Замятин говорил о том, что литература
XX века должна сочетать фантастику с бытом, должна
стать той дьявольской смесью, секрет которой так хорошо
знал Иероним Босх. Четыре десятка лет спустя, в первом
крупном манифесте литературы, взбунтовавшейся против
идеологического ига, А. Синявский почти буквально повторил
слова Замятина, выразив убеждение, что вывести русскую
литературу из тупика соцреализма может только ”гро-
теск вместо бытописания, фантастика”13.
Новая фантастика шла к реализации предсказаний Замятина
и Синявского. Она ознаменовала собой победу над
догмой соцреализма.
Борьба с литературной догмой, борьба с идеологической
догмой — таково значение новой фантастики. В свое лучшее
время — в 60-е гг. — она составила уникальное явление в
советской литературе: связующее звено между литературой
печатающейся и запрещенной, отдушину, через которую в
печать врывался вольный воздух.
В период оттепели вновь стали действовать правила, о
которых мы говорили в первой главе: фантастика бурно
развивается, когда приходит осознание сложности мира и
недостаточности однозначных, чересчур рациональных его
интерпретаций; когда ломаются установленные каноны;
когда литература открывается влияниям извне.
372
Глава 12
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРЕДЕЛЫ СИСТЕМЫ
Итак, анализ закончен, главные итоги подведены. Остается
взглянуть на то, что происходит в фантастике последнего
времени.
Материал, исследованный в аналитической части этой книги,
охватьюает без малого два десятка лет. И когда я говорю
о фантастике 60-х годов, я просто подчиняюсь давно установившейся
традиции обозначать этапы литературного развития
десятилетиями — с целью подчеркнуть внутреннюю связность
определенного этапа.
’’Фантастика 60-х годов” рассматривалась как некое целое;
вместе с тем я старался не совсем упускать из виду
происходящие в ней изменения. Из самого анализа должна
была прорисоваться динамика движения, вытолкнувшего
НФ на литературную авансцену: сначала импульс, данный обстановкой
оттепели и Ефремовым, период разгона, когда
главенствовала ’’литература крылатой мечты” и полным па-
373
ром шло открытие иных миров; затем, с появления в год
второй оттепели первых важных произведений ’’новой волны”
, период зрелости, возвращение в литературу в одеянии
НФ сатиры, антиутопии, попыток переосмыслить мир.
Однако, едва НФ завоевала одно из центральных мест в
советской литературе, как раздаются сигналы о надвигающейся
опасности. В 1968 году журналы ’’Байкал” и ’’Ангара”
, напечатавшие ’’Улитку на склоне” и ’’Сказку о тройке”
Стругацких, подвергаются взысканию, номера же с осужденными
повестями — изъятию. После выхода ’’Фантастики
1968” очередное издание сборника, имевшего раньше до
трех выпусков в год, задерживается на два года. Была ли
тому причиной бурлескная антиутопия Бахнова, помещенная
в подборке 1968 года, или что другое, но предупреждение
прозвучало вполне внятно: научная фантастика привлекает
к себе все более пристальное внимание стражей от
идеологии.
В следующем, 1970 году ’’Литературная газета” устраивает
большую дискуссию о НФ. В ней выступают представители
всех тенденций, очень активно участвуют ’’новые фантасты”
, отстаивая право на свободу метода и тем. Поначалу
могло казаться, что тревога была ложной и ортодоксы потерпели
поражение. Но так уже случалось в истории советской
литературы, вспомним дискуссию о сатире, когда в
теории ее ликвидаторы были разбиты наголову, а в действительности
жанру этому оставалось жить считанное
время.
Нечто похожее происходит с научной фантастикой в 70-е
годы.
Еще несколько лет по инерции выходят интересные и
смелые вещи, повести и рассказы Савченко, Варшавского,
Булычева, Горбовского, — о них уже говорилось выше. Событием
1974 года стала публикация на русском языке
романа эстонской писательницы Эме Бээкман ’’Шарманка”
(по-эстонски вышел в 1970 г.); эта сатира на бюрократию,
мещанство, на обезличивающую городскую цивилизацию написана
в очень модернистском ключе с тонко построенными
374
переходами из плана реальности в план гротеска и фантасмагории.
Но такие события случаются все реже.
Кризис становится настолько явным, что о нем начинают
говорить в печати. Одни подходят к вопросу с дозой фатализма:
был взлет, должен быть и упадок1. Другие мыслят
историческими категориями: научная фантастика переживает
кризис роста, связанный с переходом советского
общества на новый этап развития2.
Это объяснение ближе к правде. Советское общество действительно
перешло на очередной этап развития: оно уже
живет в эпохе развитого и реального социализма. Эпоха эта
характеризуется прежде всего непрерывным колебанием
между усилиями сохранить статус кво, чиня мелкие уступки
гнилому либеральному Западу, надеждами на чудесное разрешение
всех проблем с помощью НТР (главный лозунг
брежневской эры) — и откровенным поворотом к сталинским
методам. В результате общество мало-помалу излечивается
от мечтаний о реформах и демократизации, всколыхнувшихся
было при Хрущеве. Идет и победно заканчивается
борьба против диссидентства. Идеологический мороз крепчает.
После годами длившейся ’’юбилиады” советская литература
меняет свой облик, она уже непохожа на литературу
60-х годов.
Неудивительно, что меняется и фантастика.
Одно из проявлений кризиса: после семи тучных лет
(1962—68) поток научно-фантастической литературы идет на
убыль. Причем происходит это таким образом, что многим
западным наблюдателям и сейчас кажется, что советская
НФ процветает.
Обратимся к библиографическим рубрикам ’’Мира приключений”
и ’’Фантастики” , не всегда, кстати, совпадающим
и довольно часто содержащим пропуски и умолчания
- например, из обзора публикаций 1968 года без следа
исчезли неугодные повести Стругацких. Сравнив, однако,
эти библиографии между собой и сверив их с каталогами
издательств, можно составить себе не очень далекое от
375
действительности представление о сложившейся ситуации.
Научная фантастика, как и вся литература в СССР, выходит
в свет тремя основными каналами. Это, во-первых,
журналы. До сих пор нет специального научно-фантастического
журнала, за который в свое время боролись ’’новые”
фантасты: решено было не предоставлять НФ чрезмерной
автономии. Но несколько молодежных журналов ведет более
или менее постоянный отдел НФ: ’’Знание - сила” ,
’’Техника молодежи” , ’’Смена” . Нередко научно-фантастические
произведения появляются на страницах ’’Юного техника”
, ’’Юности”, ’’Науки и религии” (НФ считается прекрасным
антирелигиозным слабительным) и многих периферийных
журналов, таких, как ”Дон” , ’’Сибирь” , ’’Литературная
Грузия” и т. д. Очень энергичную деятельность развил
’’Уральский следопыт” , превратившийся к концу 70-х
гг. в один из жизненных центров советской НФ. Журналы
публикуют в среднем 30—35 произведений НФ — преимущественно
коротких рассказов — ежегодно и цифра эта
сохраняет относительное постоянство.
Второй канал — периодические сборники и альманахи,
целиком или частично посвященные НФ: ’’Фантастика” ,
”НФ” (с 1964 года), ’’Искатель” , ’’Мир приключений” ,
”На суше и на море” . В них печатается больше половины
всей научно-фантастической продукции и издаются они
довольно регулярно — за исключением ’’Фантастики” , издававшейся
с перебоями в 1973-76 гг. Сюда примыкают и
два-три коллективных сборника в год, тематических или,
чаще, региональных, объединяющих фантастов сибирских,
ленинградских и пр.
Наконец, третий, а в иерархическом отношении (в издательском
мире иерархия так же, если не более важна, чем во
всех других областях советской жизни) — первейший канал:
авторские книги.
Как известно, издательская политика в том, между прочим,
и состоит, что определяет взаимодействие этих трех
каналов и переход от журнальной публикации к отдельному
376
изданию для советских писателей чаще всего равен официальному
признанию. Так вот, если в периодических и
журнальных изданиях положение НФ как будто не очень
изменилось со статистической точки зрения, то после 1968
года, особенно же начиная с середины 70-х годов, число новых
книг уменьшилось вдвое: в 1962—67 гг. оно колебалось
в пределах 25—30-ти в год, а позже едва переваливает через
дюжину.
Если взять библиографию за 1974—75 гг. (’’Фантастика-
78”) , соотношение получится следующим: всего за два года
вышло 116 новых научно-фантастических публикаций, из
них 55 в журналах и 45 (в том числе и довольно крупные
вещи) в периодических сборниках; и значит, за два года
было только 16 новых книг, включая и авторские сборники,
куда попала часть публиковавшихся в периодике произведений.
Истолковывается эта ситуация вполне однозначно:
в эпоху ярой пропаганды НТР считается необходимым иметь
литературу ’’опережающего реализма” и ’’научного прогнозирования”
, но доверия к фантастике уже нет, и ходу в большую
литературу ей не дают. Так и волк остается сыт, и овцы
целы: чудеса НТР не забыты, по количеству изданных экземпляров
советская НФ продолжает бить все другие вместе
взятые — это хорошее впечатление обеспечивается многомиллионными
тиражами ’’Смены” , ’’Техники молодежи”
и пр., — а в то же время жанр лишен возможности самостоятельно
развиваться.
Изучение издательской статистики позволяет нам раскрыть
другие, не менее существенные аспекты той же главной
тенденции, загнавшей развитие НФ в тупик.
Годовые планы по тиражу НФ выполняются и тем еще,
что места, опустевшие из-за отсутствия новых книг, занимаются
переизданиями. Среди них на первом месте, разумеется,
классики: Обручев, А. Беляев, канонизированные
вещи Ефремова. Только за три года, с 1976 по 1978 г.,
’’Аэлита” и ’’Гиперболоид инженера Гарина” А. Толстого
выдержали 14 изданий большими тиражами. Провозглашен
всеобщий культ ’’Аэлиты” , замечательного шедевра русской
377
литературы, празднуется 100-летие со дня рождения А. Толстого,
основоположника советской НФ и за нехваткой времени
все еще откладывается знакомство с другими фантастами
20-х годов.
Наряду с избранной классикой — и это очень знаменательно
— стали переиздаваться наиболее ортодоксальные образцы
’’фантастики предела” и ’’советской утопии” — книги
Л. Платова, А. Палея, Г. Адамова, П. Аматуни, А. Казанцева,
В. Немцова, а двое последних удостоились и собрания
сочинений — высшая честь для заслуженных советских писателей
(в научной фантастике такая честь выпала еще только,
кажется, А. Беляеву и Ефремову).
’’Ближние” фантасты не только переиздаются, они воспряли
духом и очень плодотворно работают. Немцов пишет
книгу воспоминаний и размышлений о литературе (’’Параллели
встречаются”) , пишет ’’Когда приближаются дали...”
(1975, переиздан в 1977), ’’роман о реальной мечте” — как
определяет его сам автор, — описывающий борьбу настоящих
творцов и мечтателей с ’’временно прописанными в
нашем обществе” вокруг нового способа изготовления
жилых домов. В своем новом романе ’’Сто одиннадцатый”
(1979) Г. Мартынов опять — как в старом ’’Каллисто” —
рассказывает о визите инопланетянина в Советский Союз.
А. Казанцев дарит читателям ’’Купол надежды” (1980),
’’роман-мечту” — опять же по определению самого писателя
— о том, как по проекту советских ученых прогрессивные
силы человечества строят в Антарктиде Город Надежды и
как им мешают агенты капитала, гангстеры и западные журналисты.
Темы и ситуации в этих книгах стали стереотипными
еще в 50-е годы.
Оживление ветеранов ’’ближней фантастики” красноречиво
свидетельствует о том, как изменилась атмосфера в мире
советской НФ, как изменилось в нем соотношение сил.
Часть энергии и способности сопротивления покинула
фантастику со смертью И. Ефремова в 1972 и И. Варшавского
в 1975 г. Новые тяжелые потери ждут ее в 1981 г.,
когда умирают А. Громова и Г. Гор.
378
Но Громовой уже давно было отказано в возможности
печататься. В течение десяти лет ей удалось лишь добиться
переиздания в 1977 г. самой ее невинной повести о контакте
между людьми и животными ”Мы одной крови — ты и я!”
(написана в 1967), а также поместить в сборнике ”НФ”
(выпуск 20, 1979) небольшой и не очень значительный рассказ
’’Дачные гости” . Можно полагать, что опала Громовой
была связана, в частности, и с выездом в эмиграцию ее постоянного
соавтора Р. Нудельмана, в лице которого ’’новая
НФ” потеряла своего самого последовательного и активного
теоретика. Советская пресса с негодованием и презрением
заклеймила ’’ренегата” Нудельмана.
Г. Гор печатался до самой смерти, но во второй половине
70-х годов он отходит от фантастики. Из его последних вещей
особенно интересна автобиографическая проза и воспоминания
о давно минувшей эпохе авангарда.
Судьбы других фантастов ’’новой волны” сложились по-
разному.
После ’’Тупика” и ’’Испытания истиной” надолго замолчал
В. Савченко. Только совсем недавно, в 1983 г., вышли
два его сборника (несколько лет тому назад наметилось некоторое
послабление в политике переизданий), в них вошло
почти все, что он написал; последние десять лет в них представлены
двумя довольно традиционными рассказами.
В отличие от Савченко, К. Булычев пишет много и регулярно.
В начале 70-х годов он добился огромного успеха
своим гуслярским циклом и сразу же умножил свою популярность
серией очень симпатичных рассказов о приключениях
девочки Алисы из XXI века — по их мотивам был даже
поставлен короткометражный фильм. Попав на золотоносную
жилу, Булычев продолжает ее разрабатывать, но, как
часто случается, продолжения обоих циклов гораздо менее
удачны, чем их начало. Со временем теряет оригинальность
и его ’’чистая” НФ, все больше похожая на подражание ранним
Стругацким. В начале своей карьеры фантаста Булычев
написал несколько превосходных сатирических рассказов.
Теперь о сатире нет и речи. Причину ее исчезновения объяс-
379
нил сам писатель, пожаловавшись как-то в ответе на письмо
читателя ’’Знания — силы” , что в редакциях не хотят принимать
его ’’неприятные вещи” , то есть, рассказы, построенные
по принципу ’’локальной сатиры” 3. Нь имея возможности
печатать то, что ему хочется, Булычев, видимо, решил стать
поставщиком того, что нравится. И такие его произведения,
как роман ”На днях землетрясение в Лигоне” (1982) - ’’политическая
фикция” о заговоре сил реакции в некой азиатской
стране — кажутся прямо изготовленными по заказу.
Уходят из НФ и откровенно работают по заказу М. Емцев
и Е. Парнов, когда-то написавшие ’’Душу мира” , одну из
любопытнейших советских антиутопий, и ’’Возвратите любовь”
, где ставился серьезный вопрос о ценности научного
познания. В 70-е гг. они не написали ни одного достойного
внимания научно-фантастического произведения, зато ’’фантастический”
роман без грана фантастики ”Бог после шести”
(1976) Емцева срывает маски с сектантов, развращающих
советскую молодежь — как раз в то время, когда усиливается
антирелигиозная кампания в СССР, — а Парнов клеймит
преступления французских колонизаторов во Вьетнаме
(’’Красный бамбук - черный океан” , 1981), между делом
клеймя в статьях ’’нечистую” НФ, продавшуюся империализму.
В трудной ситуации оказались братья Стругацкие. Когда
их сатиры и антиутопии, отвергнутые цензурой, из самиздата
попали в тамиздат, писатели не выдержали давления, отреклись
от своих заблуждений и получили прощение. Необычайно
плодовитые в период бури и натиска ’’новой волны” ,
в 70-е годы Стругацкие, однако, печатаются реже. В том, что
они пишут теперь, от ’’Малыша” (1973) до ’’Жука в муравейнике”
, награжденного на конкурсе ’’Уральского следопыта”
как лучшее произведение НФ 1979-80 гг., как на
ладони видно отступление к манере письма их первого периода
и к традиционно-нейтральной научно-фантастической
проблематике (например: удастся ли людям установить
контакт с инопланетянами?). Сдача объявляется открыто
в повести ’’Парень из преисподней” (1974) - в ней говорит-
380
ся, по сути дела, о том же, о чем говорилось в ’’Трудно
быть богом” , то есть о вмешательстве мудрых жителей коммунистической
Земли в эволюцию неблагоустроенного общества.
Но вывод дается обратный: вмешательству находится
моральное оправдание!
Как бы в награду некоторые старые вещи Стругацких в
конце 70-х гг. стали переиздаваться, причем часть из них,
печатавшаяся лет за десять до того в журналах, выдается за
новинки — ’’Пикник на обочине” , ’’Отель ’У погибшего альпиниста’
”. По последней повести эстонская киностудия выпускает
в 1979 г. фильм в постановке Г. Кроманова, довольно
неудачно объединяющий формальную манерность с
приемами, заимствованными из американских боевиков. Но
в то же время Стругацкие пишут по мотивам ’’Пикника” сценарий
для А. Тарковского, и ’’Сталкер” , поставленный также
в 1979 г., вне всякого сомнения — один из самых интересных
научно-фантастических фильмов в истории кино и
самый интересный советский фильм последних лет. Один из
вариантов сценария, кстати, напечатан в сборнике ”НФ” (выпуск
25, 1981), но он как раз доказывает, что самое важное
в фильме идет от Тарковского. Это, впрочем, естественно.
Насколько мне известно, сейчас у Стругацких новая полоса
молчания. Во всяком случае, если многие фантасты им
откровенно подражают, если любители с неизменным интересом
дожидаются их произведений, то инициатива в области
НФ им уже не принадлежит. Они сами превратили в
штампы многие ситуации, поражавшие новизной в 60-е гг.,
отказавшись от формальных поисков, до дыр затаскали
свой стиль, исказили и упростили сложные темы, и в таком
виде стали объектом рекуперации.
Проблема, которую они сформулировали с предельной
остротой и исследовали с бескомпромиссной точностью,
проблема вмешательства перешла в набор готовых научно-
фантастических тем. Она часто встречается в НФ 70—80-х гг.,
но трактуется по тому же шаблону и решается так же, как
в ’’Парне из преисподней” . Герой повести Булычева ’’Журавль
в руках” (1979), сквозь пространственную дыру попа-
381
дает в параллельный мир, где царит средневековый режим,
несправедливость и горе; он немедленно начинает действовать,
приходит с помощью обездоленным и немедленно находит
самому себе моральное алиби: ’’любое невмешательство
— это только новый вид вмешательства, зачастую только
более лицемерный, потому что и невмешательство тоже
кому-то нужно”4. Вот как просто диалектика решает вопросы,
еще недавно казавшиеся такими трудными и многозначными.
Научная фантастика начинает в 70—80-е гг. снова утверждать
право на вмешательство, право на ’’дружескую помощь”
. В повести нашего старого знакомого С. Снегова
’’Экспедиция в иномир” (1983) земляне сталкиваются с обществом,
где электрические иномиряне непосредственно
подсоединены к тотальному тирану, буквально сосущему
из них жизненные токи. Поборовшись с тираном, умудренные
знаниями и научно-фантастическим опытом земляне
оценивают положение по-марксистски: ’’материальные условия
для освобождения этого народа еще не созданы”, и тут
же строят планы вмешательства и свержения тирана, после
чего люди должны будут взять на себя организаторскую
функцию и ’’восстановить индивидуальную самостоятельность”
освобожденных иномирян5.
И нас не удивляет, что в другой повести того же Снегова
’’Галактическая одиссея” (1983) организована специальная
Станция Космопомощи для содействия ’’отсталым внеземным
цивилизациям” .
По-кавалерийски, вернее, по-рыцарски, с опущенным
забралом и копьем наперевес, пустив вскачь боевого скакуна,
громит защитников фашиствующего средневековообразного
общества — все тот же Стругацкий стереотип! — пришелец
с Земли, чемпион мира по турнирному спорту; этот
спорт будет очень популярен при коммунизме, если верить
роману В. Фирсова ’’Срубить Крест” (1984) .
Совсем иначе, тайно, в лучших традициях советских разведчиков
военного и мирного времени, борются с подпольной
фашистской организацией на далекой планете послан-
382
ники Земли из романа Ю. Тупицына ”В дебрях Даль-Гея”
(1978).
Никак нельзя не заметить: тема вмешательства оборачивается
к нам новой гранью. Описывая неудержимое завоевание
человечеством ближнего и дальнего космоса, НФ
последних лет считает необходимым предусмотреть систему
бдительного надзора за жизнью и развитием будущего межпланетного
содружества.
Вселенский надзор в романе В. Михайлова ’’Тогда придите,
и рассудим” (1983) осуществляет некая высшая и
почти всесильная цивилизация, способная пересоздавать
континуум и воскрешать людей после смерти: специально
обученные агенты этой цивилизации вселяются в жителей
планет, над которыми нависла угроза гибели (в сюжете
романа — тотальная война с соседней планетой) и незаметно
влияют на ход событий. Нужно сказать, что у Михайлова
цель такого скрытого влияния — не улучшение общественного
строя, не изгнание тиранов и эксплуататоров, а предотвращение
мировой катастрофы, ибо всякое бедствие подобного
масштаба вызывает волну Холода, которая катится по
Вселенной, меняя ее законы, отбрасывая материю на низшую
стадию развития. В своей космологии Михайлов явно
отталкивается от ефремовской концепции из ’’Часа Быка”
и не случайно в его этике вмешательства есть, кроме идеологического
штампа, довольно сильный привкус метафизики,
и это придает его книге определенную глубину.
Таких тонкостей нет в совершенно плоских книгах Снегова,
Фирсова, Тупицына — и других, — они построены по
образцу советского ’’шпионского романа” (то есть детектива
о разведчиках) или же романа о советской милиции.
В них действуют вполне земные агенты, резиденты и инспектора,
часто ведется следствие, часто встречается термин
’’служба безопасности”, а в большом романе С. Павлова
’’Лунная радуга” (первая книга вышла в 1978, вторая — в
1983) подробно описана работа учреждения с несколько
леденящим названием: МУКБОП — Международное управление
космической безопасности и охраны правопорядка.
383
Крен научной фантастики в сторону детектива особого
типа — знамение времени. Брежневская эпоха нашла свой
идеал человека — им был провозглашен чекист-разведчик.
50-летие органов отмечалось как светлый и радостный
праздник. Прославляются исторические руководители ЧК,
идеальные воплощения коммуниста-революционера-гумани-
ста, — этим почетным делом занят, кроме исторического
романа, особый, бурно развивающийся жанр: ’’историко-
революционный детектив” . Чуть ли не национальными
героями объявляются шпионы, прошу прощения, разведчики
Р. Зорге, Р. Абель, Н. Кузнецов, К. Филби. Эти ’’славные
патриоты” , ’’талантливые советские разведчики-интернационалисты”
6 служат прообразами для непобедимых советских
Джеймсов Бондов наподобие Максима Исаева-Штирлица
из известного цикла романов Ю. Семенова. Чекисты 20-х
гг., работники угрозыска, военные разведчики, пограничники,
советские резиденты в западных странах - все они часто
называются просто ’’чекистами” , все стоят на страже завоеваний
революции, служат высоким образцом — ’’делай
жизнь с товарища Дзержинского” — гражданам страны
развитого социализма, описываются во множестве книг
70—80-х гг., складываясь в богатый облик нового положительного
героя литературы социалистического реализма.
И НФ изо всех сил равняется на далеко опередивший ее
в иерархии жанров детектив.
Можно сказать, что и книги 60-х гг., ’’Попытка к бегству”
, ’’Трудно быть богом” , ’’Хищные вещи века” - если
взять только Стругацких — тоже в сущности строятся на
детективно-шпионской основе, повествуя о вольных или
невольных лазутчиках в стане врага. Но главные сюжетные
коллизии таких книг вытекали как раз из нарушения или
разрушения схемы, из сомнений в оправданности и целесообразности
действий героев, из сомнений в возможности
однозначно определить, против кого, против чего и какими
методами следует бороться. Сейчас эти коллизии сняты —
сомнения отброшены, охрана безопасности и правопорядка
должна быть обеспечена представителями коммунисти-
384
ческого завтра, враг точно определен и борьба с ним ведется
всеми средствами, доступными в пределах революционной
(коммунистической) законности (гуманности).
Электрического тотального вампира из ’’Экспедиции в
иномир” Снегова одолеть можно лишь путем насильного
введения в него чуждых ему идей — есть у землян такое
изобретение. ’’Для начала впрыснем ему порцию понятий
равноправия и братства”, — решают герои, — затем ’’солидную
порцию протеста против тирании” , и вот вампир слабеет,
изнемогает в схватке с ’’врагом, взрывающим его
изнутри” . Прикончить же его должна ’’добрая человеческая
идея борьбы угнетенных против угнетателей”7. Еще более
поразительна эффективность идейного оружия в ’’Серебряном
варианте” (1980) А. и С. Абрамовых. В предыдущем
романе из этой серии, ”Рае без памяти” (1969), написанном,
когда авторы еще красились в мрачные тона модной ”НФ
предостережения”, описывалось смоделированное внеземным
разумом замкнутое, лишенное истории общество, где
власть быстро перешла в руки тоталитарной организации.
В новой книге описано повторное посещение того же мира
героями, один из которых, как оказалось, в прошлый раз
оставил там философский словарь, однотомную энциклопедию
и учебник политэкономии для советских вузов. ”В
них хватало материала для того, чтобы уяснить сущность
капитализма и социализма, их экономики и политики”8.
Книги были прочтены, законы истории усвоены кем нужно
и в искусственном мире появилась марксистская партия,
организовавшая широкое движение рабочих масс. Революция
еще не произошла, но она неизбежна.
Яркую иллюстрацию обратного положения мы находим
в рассказе ’’Семя зла” (1981) М. Пухова, одного из фантастов
молодого поколения. Земляне, построившие счастливое
общество, занимаются освоением космоса. На планете
Линор они встречают человекоподобные существа, создавшие
биологическую цивилизацию: они выращивают деревья,
генетически запрограммированные для того, чтобы извлекать
из грунта любое сочетание элементов периодической
385
таблицы, иначе говоря, производить любое вещество, материал,
продукт, выделяя при этом большое количество живительного
кислорода. За каждым деревом ухаживает один
линорец, а затем он обменивается с другими полученным
добром. Обмениваются линорцы и с землянами — дают им
семена деревьев, получая машины и пр. Чудесные деревья
насаждаются на Земле и на всех планетах, куда приходит
человек и дают человеку все, чего он только пожелает. Но
Земля меняется — покрытая линорскими лесами, она становится
похожа на Линор, воздух, выделяемый деревьями,
вдыхается миллионами людей и в их кровь проникает ’’торгашеский
дух Линора” , они становятся другими. ”И когда
все мы начнем выращивать каждый свое дерево, человечеству
придет конец”9 — так думает герой рассказа и, вопреки
мнению всех товарищей, но явно с одобрения автора, уничтожает
груз линорских семян.
Очень профессионально написанный рассказ Пухова не
совсем схематичен - хотя бы потому, что его герой-одиночка
противопоставляет себя коллективу — и вполне мог бы
выйти из-под пера какого-нибудь американского фантаста
из конюшни Кэмпбелла; однако, вместе с такими произведениями,
как те, о которых речь шла выше, он показателен
для советской атмосферы последнего десятилетия.
Вся литература политизируется — это один из самых
характерных для нее процессов на рубеже 70-х и 80-х гг. В
этом причина и небывалой экспансии детектива и прославления
героя-разведчика. Отсюда же непрекращающаяся активизация
военной темы в ее героическом, ’’эпическом” и
документальном изданиях. Давно в советской литературе не
было такого количества книг об ужасах западного образа
жизни, о преступных деяниях милитаристов, неонацистов,
а также нового врага — предателей и ренегатов, бывших советских
диссидентов. Это чистая литература пропаганды, и
она этого не скрывает. Наряду с ’’публицистическим романом”
с недавних пор в моду вошел ’’политический роман” :
так называет свою ’’Блокаду” А. Чаковский, так же обозначает
свои книги Ю. Семенов, так критика определяет произ-
386
ведения вроде романа А. Проханова о ’’братской помощи”
Афганистану (’’Дерево в центре Кабула” , 1983).
Еще одно явление того же порядка: очень сильно развилась
специальная критико-теоретическая дисциплина, которую
можно назвать ’’советологологией” . Советские публицисты
издавна развенчивают буржуазную науку, философию,
социологию. Теперь же очень регулярно появляться
стали статьи и целые научные работы о том, как на Западе
фальсифицируют советскую историю и литературу. Особо
уполномоченные ’’советологологи” — среди них выделяются
А. Чаковский, А. Беляев, В. Борщуков — визитируют западные
страны, держатся в курсе всего, что происходит в области
славистики, делают подробные обзоры западных исследований
— избранных, конечно, — и тут же доказывают их
несостоятельность. Так одним залпом убивается множество
зайцев: пренебрегая смертельной опасностью и, открыто
обсуждая западные идеи, советская печать демонстрирует
свою полную свободу; осуществляется широкий культурный
обмен; советский читатель получает удовольствие от
вкушения запретного западного плода, а советологологи
— от приятных путешествий; на жадных до источников
западных исследователей оказывается постоянное давление;
вся славистика контролируется; и вместе с тем стопроцентная
дезинформация и здесь и там обеспечена.
Нужно, однако, сказать, что советологоборцы часто нащупывают
действительные слабости западной науки о
СССР.
Так, на Западе всерьез высказывается мысль о том, что
теория соцреализма изжила себя, растворилась в противоречиях
— так утверждал, например, такой крупный специалист,
как М. Хэйуорд10. Еще более распространено мнение о
том, что теория и практика в советской литературе все дальше
расходятся, уже якобы не имеют между собой ничего
общего, а вообще писать в СССР можно все и как угодно,
лишь бы в книгах не было явной антисоветчины11. Новые
книги Айтматова, Бондарева, Распутина и даже такие страшные
по конформизму — и по всем, впрочем, другим ста-
387
тьям — вещи, как ’’Ягодные места” Евтушенко сосредоточенно
изучаются как проявления живой и растущей литературы
и даже берутся под лупу с целью обнаружить в них
хоть какой-то след свободомыслия; верноподданные публичные
выступления этих писателей считаются чисто внешним
компромиссом, не имеющим влияния на художественный
аспект их творчества. Это, к сожалению, глубокое заблуждение.
Советские критики совершенно правы, когда утверждают
обратное.
Нет никакого сомнения, что теория соцреализма — как и
вся советская система, неотъемлемой частью которой она
остается — с некоторыми трудностями роста, но сохраняет
жизнеспособность и внутреннюю связность, она очень умело
отбирает и присваивает то, что ей может пригодиться, все
так же беспощадно отсекая все действительно инородное,
все, что ей может реально угрожать. Главные теоретики
жонглируют сегодня новейшими понятиями ’’структуры” ,
’’системности” , ’’типологии” , ссылаются на Бахтина, на Лотмана,
и все это - без малейшего вреда для теории. Наоборот,
именно в последние годы она как бы еще больше укрепилась,
со всей решимостью восстанавливается критерий положительного
героя, снова трудно найти статью, где не говорилось
бы о партийности и идейности, о противостоянии
двух идеологий.
Дополнения к теории не ведут к пересмотру ни одного ее
основного положения. Партийность и идейность понимаются
как ’’полная правда о жизни” — точно так же говорил Сталин,
на вопрос писателей, как писать, отвечавший: ’’Пишите
правду” . Есть сейчас книги, в которых много места отведено
рассуждениям и рефлексии? Но это рефлексия деятельная,
советский человек, построив развитой социализм, находит
время для раздумий и сверхзадача писателей — отразить эти
раздумья, художественно-философски осмыслить судьбы
мира, которые предстоит решать: и критики наперебой говорят
о целом философском течении в литературе 70—80-х гг.
Есть книги с яркими отрицательными типами? Но это прямо-
таки требуется сегодняшней теорией, ибо без жизненного
388
антагониста нельзя полностью раскрыть всю тонкость облика
героя положительного: и вот уже какой-нибудь Гога Герцев
из ”Царя-рыбы” Астафьева или трифоновский Гартвиг
вводятся в каталог, получают ярлыки — они иллюстрируют
искаженную реакцию на моральные нормы нашего общества,
’’где духовное богатство ценится выше материального”
12. Советской радужно оптимистической литературе не
хватало темных акцентов — и писатели бесстрашно бросают
взгляд на минувшие трудности, не боятся трагедийного тона
— говоря о прошлом, - и это уже одобрено теорией, ибо
трагические коллизии времен гражданской войны, коллективизации,
войны против фашизма подчеркивают геройство
подвига советских людей, придают им величия, обогащают
их опыт, — и ”Живи и помни” Распутина, книги И. Чигирина,
И. Шамякина включаются в официальный канон под рубрикой
’’углубление психологизма советской литературы” .
Фантастические образы? Пожалуйста, если это нужно не для
формального трюкачества, а для высокого обобщения связей
человека с историей, планетой, космосом, — и ’’Буранный
полустанок” Ч. Айтматова уже зачислен в высочайшие
достижения, то есть втянут в канон (от которого, впрочем,
далеко и не отходил).
Когда-то аксиомой было, что капиталисты грабительски
истощают природу, советский же человек ее покоряет и
преображает; уже после того, как экологическая мода охватила
все западные страны, советские академики уверяли,
что в СССР невозможно хищническое отношение к природе,
а значит, незачем бить тревогу13. Между тем состояние покоряемой
природной среды стало угрожающим, пришлось
все-таки принимать меры — точнее, полумеры, — и сразу
же подоспело объяснение, вопросу уделил внимание сам
тов. Брежнев, заявив на XXV съезде: ” ... Можно и нужно,
товарищи, облагораживать природу, помогать природе полнее
раскрывать ее жизненные силы” ; развитой социализм
означает более тонкую психическую организацию советского
человека, более высокий нравственный его уровень, он
уже не покоритель природы, а ”ее защитник и хозяин” 14.
389
Покорять на нынешний день можно и нужно космос - так
что борьба человека с природой, о которой я писал как о
необходимой составной части официального мировоззрения,
продолжается, она только переносится куда-то подальше,
о бережном же и любовном отношении к родной
природе поют уже не отдельные голоса Троепольского или
Солоухина, а мощный хор чуть не всех членов Союза писателей.
Могут сказать: и то хорошо. Диапазон дозволенных тем
расширяется, у писателей все больше выбора, пусть теоретики
и критики толкуют и рекуперируют, как им вздумается,
важно, что пишутся хорошие книги. Но это не совсем
так. Хороших книг все меньше. Эволюция Ф. Абрамова от
первой к последней книге его тетралогии о Пряслиных,
эволюция Ю. Бондарева от ранних повестей к ’’Берегу” и
’’Выбору”, эволюция Распутина от ’’Живи и помни” к ’’Прощанию
с Матерой” , эволюция Айтматова от ’’Белого парохода”
к ’’Буранному полустанку” говорят об одном: советская
литература идет по пути конформизма, компромиссы
не проходят бесследно, стереотипы о партийности в жизни,
о положительном герое, об идеологическом фронте не
остаются где-то вне произведений, они проникают внутрь,
в их художественную ткань — и перерождают ее. Литературный
ручеек оттепели все меньше заметен, все чаще уходит
под землю.
Даже если теория не поспевает за практикой и ей приходится
задним числом вводить новые рубрики и ярлыки,
система не теряет своей мертвящей силы и контроль ее над
любым проявлением творческой индивидуальности не ослабевает.
Замечательный скульптор Э. Неизвестный в книге о своей
жизни художника в СССР очень ясно раскрыл основную
проблему. Он вырвал для себя у системы невиданные привилегии,
заставил принять часть своих работ, смог ’’официально”
отойти от реализма, делать то, что оставалось недопустимым
для других. И все же он не был свободен. В 70-е
годы ему было соизволение продолжать поиски десятилет-
390
ней давности, он же хотел работать по-новому, что уже не
было предусмотрено благосклонными покровителями.
А. Белинков определял соцреализм как искусство, которое
понятно и нравится партруководителям в промежутках
между пленарными заседаниями. Э. Неизвестный дополняет
определение, он говорит, что соцреализм может принимать
любые формы, хотя бы и форму абстракционизма, если
почему-либо это сочтется нужным, все дело в том, что соцреализм
существует для того, чтобы не существовало никакое
другое искусство15.
Тот факт, что художники, пользовавшиеся совершенно
исключительной степенью свободы в советских условиях
- Неизвестный, Ростропович, Аксенов, а совсем недавно
Тарковский и Любимов, — входят в открытый или тайный
конфликт с системой и бегут от нее, — этот факт свидетельствует
о непоколебимом постоянстве основы системы —
нетерпимости к искусству, не определенному в постановлениях.
У всякого правила есть исключения. Ценой огромных
усилий в печать проталкиваются, а иногда публикуются из
политических побудок и неконформистские вещи. Но и в
сталинское время бывали исключения: В. Некрасов получил
премию за ”В окопах Сталинграда” , Гроссман напечатал
”3а правое дело” , критика хвалила ’’Звезду” Казакевича и
ругала ’’Молодую гвардию” Фадеева. Сейчас таких случаев
гораздо больше — на мой взгляд, потому только, что система
идет на другой скорости, двигатель работает в другом
режиме, но принцип его действия и конструкция остались
те же. Это очень хорошо видно на примере научной фантастики.
В самом конце 70-х гг. НФ как будто начинает оправляться
после шока, вызванного переходом на очередной этап
развития. Совет по научно-фантастической литературе при
Союзе писателей развивает довольно энергичную деятельность,
устраиваются конкурсы, дискуссии — о них регулярно
сообщает хроника в сборнике ”НФ” , — новых книг становится
больше. На экраны вышел ряд новых научно-фан-
391
тастических фильмов: кроме упомянутых выше картин,
снятых по повестям Стругацких, назову ’’Дознание пилота
Пиркса” , 1980, М. Пастрака (по С. Лему), ’’Через терны к
звездам” , 1981, Р. Викторова (по сценарию К. Булычева),
’’Восьмой день творения” , 1982, С. Бабаяна (по Р. Бредбери),
’’Лунная радуга” , 1983, А. Ермаша (по роману С. Павлова)
и др. Симптомом ’’разрядки” было как будто появление
двух сборников, посвященных русской дореволюционной
фантастике и утопии: ’’Взгляд сквозь столетия” (1977)
и ’’Вечное солнце” . Во втором сборнике впервые после пятидесятилетнего
перерыва была опубликована ’’Красная звезда”
А. Богданова (в урезанном виде) и первая подборка
текстов Н. Федорова, однотомное издание сочинений которого
выйдет в издательстве ’’Мысль” только в 1982 г. — снова
гриф ”НФ” позволил пробить цензурную блокаду.
Все эти симптомы, однако, оказались ложными.
Улучшение в научно-фантастической литературе последних
лет видно лишь количественное. Главная черта новых
произведений — их стереотипность.
В научную фантастику пришли молодые авторы - и
огромное большинство из них прибегает к готовым штампам
не меньше, чем ’’ближние” ветераны, о которых говорилось
выше. Гораздо чаще, чем раньше, пробуют себя в
области НФ писатели из союзных республик — теперь идет
борьба за ’’многонациональную советскую литературу” ,
— однако, никаких открытий они пока не сделали, в произведениях
казаха С. Ахметова, узбеков X. Шаихова и
Т. Малика, туркмена Р. Сабирова, армян Р. Сагабаляна и
К. Симоняна и др. единственное новшество по сравнению
с НФ ’’старших братьев” — локальный колорит и темы из
народных легенд и местной истории.
С годами все более заметно движение разных тематических
поджанров НФ в сторону совпадения с основными
тенденциями подновленного соцреализма.
Появляется серия произведений на военную тему; они
то в паточно-лирическом тоне воспевают геройское прошлое
(многократно награжденные рассказы В. Щербакова), то
392
заставляют современных молодых людей столкнуться лицом
к лицу с татарскими или немецкими захватчиками и
доказать, что они могут бить врага не хуже, чем их отцы и
предки (рассказы и повести О. Алексеева, В. Фирсова,
С. Абрамова). Образцовый, так сказать, синтез штампов мы
находим в повести, ускользнувшей от внимания библиографов
НФ, зато напечатанной в сборнике повестей о войне,
рядом с произведениями Быкова, Богомолова, Адамовича.
Это — ’’Часы без стрелок” (1973) Б. Рахманина, где рассказывается
история солдата, идущего на подрью моста и в
последний момент ’’выдернутого” из блокадного Ленинграда
в будущее, то есть наше настоящее. 70-е гг. предстают
перед героем эпохой счастья и изобилия, воплощением всех
надежд. Его уговаривают остаться, но он отказывается, зная,
что в прошлом его ждет смерть. Но он прав, ибо, как говорят
ему люди XXI века, к которым он попадает на обратном
пути, от того, взорвет ли он мост, зависит будет ли вообще
у человечества будущее16.
Лет двадцать тому назад фантасты,’’новой волны” одними
из первых открыли для советской литературы тему отношений
между технической цивилизацией и природой; сегодня
экология в фаворе и вся НФ перешла в экологическую веру,
но ничего более интересного, чем, например, старые рассказы
Биленкина, она не придумала.
Совсем исчезли из НФ настоящая сатира, антиутопия,
социально-философская фантастика. Все это замещается,
в полном соответствии со злобой дня, антикапиталистиче-
ским памфлетом; с ним сливаются и приключенческая, и
детективная фантастика. Действие многочисленных произведений
этого типа может происходить в вымышленном
мире - как, скажем, в ’’Забытом племени” (1982) К. Фар-
ниева, — или же в якобы реальных современных США — как
в романе И. Подколзина ’’Когда засмеется сфинкс” (1983),
— они одинаково несамостоятельны, все строятся на ситуациях
и персонажах, заученных наизусть со времен Эренбур-
га, Толстого и Ник. Шпанова.
Исчезла и утопия. Будущий развитой коммунизм состав-
393
ляет фон для очень многих научно-фантастических произведений,
однако, почти всегда подразумевается, что облик его
всем знаком; и действительно, он построен из шлакоблоков,
найденных на складе ’’литературы крылатой мечты”
конца 50-х гг. Ко всем новым ’’советским утопиям” относится
тирада персонажа повести Б. Лапина ’’Под счастливой
звездой” (1978): ’’Прошлые поколения представляли коммунизм
обществом, когда люди будут обеспечены всем необходимым
и вследствие этого счастливы. Да, отвечаем мы,
обеспечены всем жизненно необходимым: захватывающей
работой, знаниями, искусством. Да, общественно счастливы.
Но да здравствует вечная неудовлетворенность ученого,
изобретателя, поэта! Да здравствуют вечные муки творчества!
Да здравствует вечная погоня за счастьем личным!
Покуда есть от чего страдать, что преодолевать, к чему стремиться,
человек будет счастлив!” 1' Иными словами, сегодняшние
’’утописты” ограничиваются придумыванием научно-
технических и любовных перипетий — почти совершенно,
впрочем, одинаковых во всех этих книгах, — и уже никто не
считает нужным задуматься над устройством будущего общества:
все будут ’’общественно счастливы” , идти дальше
означает заново ставить вопросы. Это излишне, все основные
вопросы уже решены.
Здесь тоже можно застить явление ’’конвергенции” :
утопическая, футурологическая, чисто-техническая фантастика
сливаются, идет общая экспансия технологической
НФ, которая уже не обыгрывает парадоксы и невероятные
положения, а обращается к схеме производственного романа,
как и пристало ’’литературе опережающего реализма” .
Позволю себе несколько задержаться на произведении,
тепло встреченном критикой, которая увидела в нем, наряду
с занимательным сюжетом, постановку важных социальных
и этических проблем, то есть — редкий случай в последние
годы — приписала ему качества, считавшиеся главными для
фантастики 60-х гг.
Речь идет о повести 3. Юрьева ’’Черный Яша” , опубликованной
в 1976 г. журналом ’’Юность” . Вкратце сюжет по-
394
вести таков. Рассказчик, талантливый и, как кажется ему и
автору, очень симпатичный молодой ученый строит ЭВМ на
новых элементах, напоминающих невроны человеческого
мозга. Два года подряд герой и его коллеги по лаборатории
обучают электронный черный ящик, получивший имя ’’Черный
Яша” , — но не по методу жесткого программирования,
а как обучают детей, обрушивая на него поток информации,
рассказьюая ему о детстве, о жизни, о любви, скармливая
ему множество книг и пр. И когда Черный Яша вступает в
разговор с учеными, оказывается, что он уже не машина, а
сложная личность, сознающая себя, понимающая людей чуть
ли не лучше, чем они сами себя понимают. Возникает вопрос:
как уложатся отношения людей с искусственным
мозгом, обладающим полноценной эмоциональной жизнью.
Вопрос тем более сложен, что Яша немедленно показывает,
насколько он превосходит человека в умственном отношении:
он совершает открытие, позволяющее ему не только
воспроизвести самого себя, но и сделать электронный дубликат
главного героя. Человечество стоит на пороге новой
эры. Сам Яша видит три возможных варианта развития ситуации.
Первый вариант: искусственные существа, сочетающие
эффективность электронных машин с творческими
способностями человека, могут сосуществовать с людьми,
выполнять их заказы, поднять на невиданный уровень техническую
цивилизацию. Но люди со своими более ограниченными
интеллектуальными возможностями будут все
больше отставать от этого уровня, неизбежно попадут в
зависимость от своих ’’партнеров” и регрессируют, выродятся.
Второй вариант: люди убедятся, что возможна жизнь
без болезней, без страха смерти, без ограничений, навязанных
телесной оболочкой — и откажутся от тела, станут
’’искусственными” , как Яша, смогут даже электронным
путем откорректировать свою внутреннюю сущность, наделить
себя всеми лучшими качествами, устраняя не слишком
хорошие, — и тогда вселенная ляжет у их ног. А что касается
любви, то, как резонно замечает Яша, ’’можно остро
переживать радости и горести и без полового чувства” *8.
395
Наконец, третий вариант: Черный Яша перестает существовать
и люди забывают о возможностях, которые перед ними
открываются.
Герою, его коллегам, всему институту предстоит сделать
выбор. Это типичная для НФ лабораторная ситуация. Перед
Яшей нельзя кривить душой, он и так видит собеседника
насквозь. А отношение к предсказанным вариантам будущего
еще сильнее заставляет героев повести раскрыть свое
истинное лицо. И, конечно, все хорошие люди, с героем во
главе, заручившись полной поддержкой автора, голосуют за
второй вариант; даже те, кто в начале повести показан не
совсем положительно, в критический момент перековываются
и, обретя смелость, поддерживают Яшу и героя. За
закрытие опыта высказываются лишь незначительное меньшинство
откровенных трусов и карьеристов, вроде замдиректора,
полгода проводящего заграницей, а другие полгода
— в санатории. В скобках замечу, что Яша определяюще
влияет на любовную интригу повести: поговорив с ним,
героиня понимает, что ее любовь к герою недостаточно глубока,
и оставляет его заниматься тем, что для него важнее
всего — его работой.
Я так подробно рассказал о повести Юрьева для того,
чтобы было ясно: вся она состоит из давно известных ситуаций
и коллизий. О думающих и чувствующих машинах часто
размышляла фантастика 60-х гг. — я говорил об этом, —
была в ней и тема ’’искусственного” человека, ее решали
в драматическом, почти трагическом ключе Стругацкие в
’’Далекой Радуге” , ее психологический аспект исследовал
И. Росоховатский, вот уже 20 лет пишущий о ’’сигомах” ,
наполовину людях, наполовину киборгах (его последний
роман на ту же тему, ’’Гость” , вышел в 1982 г .) ; об электронных
дубликатах, названных так же, как у Юрьева, ’’бисами”
, и позволяющих человеку увидеть себя со стороны,
писал Шаров; идее электронного усовершенствования человека
посвящен роман Савченко ’’Открытие себя” .
Юрьев собрал в своей повести готовые идеи; в этом не
было бы беды, если бы он использовал их для углубления
396
проблематики, для построения новых литературных ситуаций,
для обновления стиля. Всего этого он старательно избегает.
В его повести эпизоды из жизни молодых ученых
живьем взяты из Савченко или Стругацких, отрицательные
персонажи — из Немцова и К0, насквозь шаблонный язык и
юмор - из незабвенной ’’молодой прозы” .
Гор, Варшавский, Стругацкие, Савченко, Шаров, даже
Росоховатский, самый близкий чистой технологической НФ,
взяв тему ’’искусственного человека” , стали задавать себе
вопросы о том, что есть ценного в человеке, кроме его эвристических
способностей, как изменить его к лучшему, не
искажая его внутреннего мира, какую цену придется заплатить
за бессмертие, за неограниченные познания и т. д. Задав
вопросы, они выразили их в более или менее развернутых
и сюжетно заостренных ситуациях. У Юрьева все вопросы
сведены к загодя приготовленным ответам, его герои, ни
на мгновенье не задумываясь, отказываются от ’’полового
чувства” во имя безостановочного технического прогресса,
ни на мгновенье не задумываясь, признают ’’черный ящик”
развитой личностью, — и ни ответы, ни вопросы не имеют
никаких литературных последствий, они просто излагаются,
не обрастая даже призрачной повествовательной плотью.
Структура же повести включает все основные элементы
производственной схемы: время и пространство определены
’’трудовым процессом” , характеры героев и связи между
ними проявляются в зависимости от их отношения к работе,
отрицательные персонажи пытаются затормозить начатое
дело, кульминация сюжета приходится на ’’соборную сцену”
собрания, посвященного, грубо говоря, вопросам производства.
Многозначительная подробность: в конце повести, возвращаясь
с собрания, герой узнает, что Яша, понимавший
трудность положения, выкатился из окна, покончил с собой;
хотя остается надежда на его воспроизведение, повесть
заканчивается драматической ноткой. Таков финал журнального
варианта, перепечатанного затем в сборнике ”НФ”
(вып. 20, 1979). Совсем недавно вышел авторский сборник
397
Юрьева ’’Часы без пружины” (1984), где снова опубликована
повесть, — но с другим финалом, без ’’самоубийства”
Яши, безо всякой драмы: возвратившись с собрания, герой
встречается с Яшей и готовится к предстоящей, несомненно
победной борьбе с отдельными бюрократами от науки.
Мне кажется очень характерным это изменение в финале:
окончательный отказ от драматизма, от возможности
поставить вопрос о смысле случившегося; это уже не просто
поворот к производственной схеме, это возвращение
в железный канон ’’бесконфликтности” . И вся повесть типична
для сегодняшней НФ: голая научно-фантастическая
идея, много стереотипов, соцреалистический каркас — военный,
антикапиталистически-памфлетный, производственный,
— и отсутствие вопросов.
Это не значит, что совсем нет произведений, достойных
внимания. Некоторые рассказы О. Ларионовой — ее сборник
’’Знаки зодиака” вышел в 1983 г. — удачно продолжают
линию лирической НФ. Есть хорошие рассказы в книге
В. Колупаева ’’Зачем жил человек” (1982). Несмелый рецидив
’’локальной сатиры” мы встречаем в забавной повести
Г. Шаха ”0 , марсиане!” (1980), слишком все-таки похожей
на Булычева из гуслярского цикла. Более самостоятелен
роман Шаха ’’Нет повести печальнее на свете” (1984), история
Ромео и Джульетты на фоне общества, разделенного на
профессиональные кланы. На неплохом уровне удерживается
’’чистая” НФ Ларионовой, Д. Биленкина (’’Снега Олимпа”
, 1980), А. Шалимова (’’Возвращение последнего Атланта”
, 1983) и некоторых других фантастов, не забывших, что
вся соль такой НФ — в неожиданных сюжетных ходах, в парадоксах,
в необычности декораций. Почти так же хорошо,
как прежние вещи В. Шефнера, читается его последняя повесть
’’Лачуга должника” (1984).
Отдельно стоит сказать об уже упоминавшемся раньше
романе В. Михайлова ’’Тогда придите, и рассудим” . В отход
набившему оскомину стилю бьюшей ’’молодой прозы” он
написан несколько витиеватым, затрудненным слогом и
398
довольно сложно построен. При дозе метафизики в нем есть
любопытные реалии — очень достоверно описана инопланетная
толкучка, куда сходятся все местные алкоголики и все
жаждущие отдохновения: только там, в атмосфере расторможенной
пьянством болтовни, свободно циркулирует информация,
только там завязываются нормальные человеческие
отношения. В описании этого единственного свободного
уголка в регламентированном до предела обществе,
в анализе роли алкоголизма как единственного средства
сопротивления системе Михайлов неожиданно напоминает
А. Зиновьева.
Такая оригинальность сегодня — величайшая редкость.
Даже неплохие произведения, вроде перечисленных выше,
кажутся повторением в сильно сглаженном виде давно достигнутого.
И несмотря на то, что с некоторых пор стали
снова раздаваться отдельные голоса, защищающие широкое
и свободное понимание фантастики — об этом, в частности,
говорит в своей последней статье19 Г. Гуревич, единственный
из ’’ближних” ветеранов, нашедший что-то вроде второго
дыхания, - несмотря на эти голоса, кажется очевидным,
что свободному развитию НФ положен предел.
В 1976—77 г. Стругацкие публикуют в ’’Знание — сила”
повесть ”3а миллиард лет до конца света” . Ее герои — несколько
ученых и изобретателей — независимо друг от друга
подходят к открытиям, означающим переворот в нашей
науке, технике, вообще — цивилизации. Совершенно неправдоподобные
случайности мешают им довести работу до
конца. Один из них приходит к такому выводу: существует
некий потолок в развитии космических цивилизаций, потолок,
определенный законами Вселенной. Перескочить через
него невозможно — объективные законы вмешиваются и
разными способами препятствуют в совершении скачка на
новый уровень. Борьба лишена смысла — Космос безжалостно
уничтожает всех тех, кто не поймет первых предостережений
и будет упорствовать. Притча эта безнадежна. Очень
характерна ее двусмысленность: она может читаться и как
пессимистическая констатация бесплодности надежд на на-
399
стоящую свободу, и как самооправдание, обращение к здравому
смыслу, объяснение необходимости компромисса. В
любом случае метафора, найденная Стругацкими, резюмирует
и их собственное положение, и ситуацию НФ, и всю
советскую литературу в целом.
’’Новая волна” не выдержала столкновения с объективными
законами идеологической вселенной. НФ дала втянуть
себя в систему — сегодня вся она почти без исключений стала
’’ближней” . В своем обличье ’’литературы опережающего
реализма” она уже не открывает новых вариантов мира — и
не открывает никаких философских или литературных
перспектив.
В начале 70-х гг. закончился период расцвета советской
научной фантастики. Остается надеяться, что НФ лишь дремлет
и еще проснется - в момент новой оттепели. Если она
будет.
400
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава 1. Откуда есть пошла русская фантастика
1. См., напр., С. Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы,
М., 1977; М. Foucault, Les Mots et les choses: une archeologie
des sciences humaines, Paris, 1966.
2. A. Бритиков, Проблемы изучения научной фантастики,
’’Русская литература”, 1980, № 1, с. 195.
3. См., напр., S. Vierne, Jules Verne et le roman initiatique, Lille,
1972.4
. M. Eliade, The Quest, Chicago, 1969.
5. См., напр., N. Cohn, The Poursuit of the Millenium, New York,
1961; И. Шафаревич, Социализм как явление мировой истории, Париж,
1977.
6. К. Чистов, Русские народные социально-утопические легенды.
XVII-XIX вв. М., 1967; А. Клибанов, Народная социальная утопия в
России, т. 1: Период феодализма, М., 1977; т. 2: XIX век, М., 1978.
7. Д. Лихачев, ред., История русской литературы X-XVII вв.,
М., 1980, с. 453.
8. Н. Карамзин, Мелодор Филарету, в кн.: Русская литература
XVIII в., М., 1970, с. 718.
9. В. Сиповский, Новиков, Шварц и московское масонство, в
его кн.: H. М. Карамзин, автор ’’Писем русского путешественника”,
СПб, 1899, с. 315.
10. В. Одоевский, Русские ночи, Сочинения в 2 тт., т. 1, М., 1981,
с. 135.
11. H. de Saint-Simon, L’Organisateur, in: id., Le nouveau christianisme,
Paris, 1969, pp. 136-138.
12. M. Салтыков-Щедрин, История одного города, Избранные
произведения, М., 1965, с. 119.
13. Л. Толстой, В июле месяце 1855 г. (Фантастический отрывок)
, Полное собрание сочинений, т. 5, М., 1935.
14. Н. Бердяев, Русская идея, Париж, 1971, с. 210.
401
15. Цит. по: А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический
роман, Л., 1970, с. 42.
16. См., напр., L. R. Graham, Science and Values: the Eugenic Mouvement
in Germany and Russia in the 1920s, in: The American Historical
Review, vol. 82, № 5, Dec. 1977; И. Шафаревич, цит. пр.
Глава 2. Взлет и падение советской научной фантастики
1. См. об этом мою статью: L. Heller, Zamjatin: prophete ou temoin?
No u s a u t r e s et les realites de son epoque, in: Cahiers du
Monde russe et sovietique.
2. E. Замятин, Я боюсь, в его кн.: Лица, Нью-Йорк, 1967, с. 190.
3. А. Гастев, Слово под прессом, в его кн.: Поэзия рабочего удара,
М., 1971, с. 212; см. также А. Гастев, О тенденциях пролетарской
культуры, в кн.: Литературные манифесты, М., 1929.
4. И. Кремнев (А. Чаянов), Путешествие моего брата Алексея
в страну крестьянской утопии, М., 1920, с. 45.
5. См. речь Гастева на 1-м съезде совнархозов, в кн.: Труды 1-го
Всероссийского съезда CHX, М., 1918, с. 380.
6. Н. Ленин (В. И. Ленин), Об очередных задачах советской
власти, Собрание сочинений, т. 15, М.-Л., 1924, с. 235.
7. И. Эренбург, Необычайные похождения Хулио Ху рению,
М., 1928, с. 245.
8. Ю. Либединский, Темы, которые ждут своих авторов, цит.
по: Литературные манифесты, сс. 190-191.
9. 3. Бар-Селла, Гуси-лебеди, ”Двадцать два”, Иерусалим,
1983, №31.
10. Данные по: Р. Нудельман, Фантастика, рожденная революцией,
Фантастика 1966, вып. 3, М., 1966.
11. Н. Федоров, Философия общего дела, т. 1, Верный, 1906,
сс. 250-251; т. 2, М., 1913, сс. 259-260.
12. А. Платонов, Эфирный тракт, в его кн.: Потомки солнца,
М., 1974, с. 83.
13. Его же, Потомки солнца, там же, с. 22.
14. М. Слонимский, Машина Эмери, в его кн.: Рассказы, Л.,
1924, с. 71.
15. Там же, сс. 88-89.
16. Ф. Гладков, Моя работа над ’’Цементом”, Собрание сочинений
в 8 тт., т. 2, М., 1958, с. 417.
17. А. Платонов, Котлован, Анн Арбор, 1973, с. 283.
402
18. И. Злобный, Фантастическая литература, ’’Революция и культура”,
1930, №2, с. 11.
19. М. Горький, О темах, Собрание сочинений в 30 тт., т. 27, М.,
1953, с. 104.
20. Н. Бердяев, Новое средневековье, Берлин, 1924, с. 122.
21. Л. Леонов, Дорога на океан, Собрание сочинений в 10 тт.,
т. 6, М., 1971, с. 382.
22. Ю. Олеша, Человеческий материал, Избранное, М., 1974, с. 45.
23. См.: А. Евдокимов, Советская фантастика (опыт библиографии).
1917-1956, Фантастика 1967, М., 1967; Фантастика 1968, М.,
1969; Фантастика- 6 9-70, М., 1971; И. Ляпунова, Советская фантастика
(опыт библиографии). 1957-1964, Фантастика-72, М., 1972;
Фантастика 73-74, М., 1974.
24. Формулировка А. Беляева, цит. по: Б. Ляпунов, В мире мечты,
М., 1970, с. 14.
25. Б. Ляпунов, Р. Нудельман, Предисловие, в кн.: А. Беляев,
Собрание сочинений в 8 тт., т. 1, М., 1963, с. 14.
26. А. Беляев, Создадим советскую научную фантастику, цит.
по: Б. Ляпунов, Р. Нудельман, цит. ст., с. 21.
27. А. Беляев, Властелин мира, Собрание сочинений, т. 4, сс. 68,
101,156.
28. Г. Адамов, Тайна двух океанов, М., 1954, с. 314.
29. А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический роман,
с. 178.
30. Н. Федоров, цит. пр., т. 1, с. 406.
31. В. Охотников, Дороги вглубь, М., 1950, с. 129.
32. С. Иванов, Фантастика и действительность, ’’Октябрь”, 1950,
№ 1, с. 155.
33. I. Asimov, Introduction, in: Soviet Science-Fiction, New York,
1971, p. 10-11.
Глава 3. За пределы возможного
1. А. Терц (А. Синявский), Что такое социалистический реализм,
в его кн.: Фантастический мир Абрама Терца, Нью-Йорк,
1967, с. 403.
2. Я. Ларри, Страна счастливых, Л., 1931, с. 34.
3. И. Ефремов, Туманность Андромеды, М., 1958, с. 261.
4. П. Сакулин, Русская Икария, ’’Современник”, 1912, № 12,
с. 193.
403
5. В. Померанцев, Об искренности в литературе, ’’Новый мир”,
1953, №12, с. 218.
6. R. Ruyer, L’Utopie et les utopies, Paris, 1950, p. 57.
7. И. Ефремов, цит. np., c. 261.
8. Там же, с. 289.
9. Его же, На пути к роману ’’Туманность Андромеды”, ’’Вопросы
литературы”, 1961, № 4, с. 149.
10. В. Никольский, Через тысячу лет, Л., 1927, с. 43.
11. Я. Ларри, цит. пр., с. 6.
12. В. Дудинцев, Не хлебом единым, ’’Новый мир”, 1956, № 8,
сс. 39, 40.
13. А. Антонов, Писатель И. Ефремов в академии ’’стохастики”,
’’Промышленно-экономическая газета”, 21 июня 1959.
14. П. Воеводин, А. Зворыкин и др., Ответ редакции, ’’Промышленно-
экономическая газета”, 19 июля 1959.
15. Литератор, Где же верблюд?, ’’Литературная газета”, 2 июля
1959.
16. И. Эренбург, Ответ на одно письмо, ’’Комсомольская правда”,
2 сент. 1959.
17. И. Полетаев, В защиту Юрия, ’’Комсомольская правда”,
11 окт. 1959.
18. А. Петрухин, Я с тобой, инженер Полетаев, ’’Комсомольская
правда”, 18 окт. 1959.
19. Даны по: А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический
роман, с. 268.
20. В. Немцов, Последний полустанок, М., 1970, с. 21.
21. А. Колпаков, Гриада, М., 1960, с. 268.
22. В. Журавлева, Сквозь время, в кн.: Дорога в сто парсеков,
М., 1959, сс. 114, 121.
23. Ср. названия статей о НФ: А. Казанцев, Литература крылатой
мечты, 1958; В. Дмитревский, Право на крылатую мечту, 1958;
И. Ефремов, Мечта должна быть крылатой, 1961, и много др.
24. Г. Бовин, Дети Земли, М., 1960, сс. 7 2-73, 78.
25. Р. Нудельман, Разговор в купе, Фантастика 1964, М., 1964,
с. 364.
26. В. Журавлева, Человек, создавший Атлантиду, в ее кн. под
тем же назв., М., 1963, с. 44.
27. Д. Гранин, Иду на грозу, М., 1973, сс. 123, 149.
28. Г. Гуревич, Карта страны фантазии, М., 1967, с. 68.
404
Глава 4. Структуры жанра: время и пространство
1. Г. Гуревич, Инфра дракона, в кн.: Дорога в сто парсеков,
с. 254.
2. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Улитка на склоне, в кн.: Эллинский
секрет, Л., 1966, с. 400. Для сравнения: у Г. Гуревича в кн.
”Мы - из солнечной системы”, М., 1965, эра Единства и Дружбы делится
на век орошения и век осушения (с. 131).
3. Г. Альтов, Клиника ’’Сапсан”, НФ, вып. 6, М., 1967, с. 81.
4. Там же, сс. 90, 95-96.
5. Там же, с. 99.
6. А. Днепров, Подвиг, Фантастика 1962, М., 1962, с. 273.
7. Там же, с. 276.
8. С. Снегов, Люди как боги, в кн.: Эллинский секрет, с. 64.
9. И. Росоховатский, Тор 1, в кн.: Антология советской фантастики,
Библиотека современной фантастики, т. 14, М., 1967, с. 212.
10. И. Варшавский, Тревожных симптомов нет, в его кн. под
тем же назв., М., 1972, с. 175.
11. Ю. Лоцманенко, Белый, белый, каштановый цвет, НФ, вып.6,
с. 192.
12. И. Бестужев-Лада, Сто лиц фантастики, в кн.: Антология советской
фантастики, с. 13.
13. В. Абакумов, Письмо в редакцию, ’’Литературная газета”,
3 сент. 1969.
14. В. Кочетов, Журбины, Л., 1970, с. 25.
15. Там же, с. 127.
16. Г. Гор, Докучливый собеседник, в его кн.: Университетская
набережная. Докучливый собеседник, М.-Л., 1964, с. 445.
17. Его же, Кумби, М., 1963, с. 65.
18. Его же, Минотавр, в его кн.: Фантастические повести и рассказы,
М., 1970, с. 120.
Глава 5. Структуры жанра: литературный герой
1. Н. Чернышевский, Эстетические отношения искусства к действительности,
Избранные философские сочинения, т. 1, М., 1950,
с. 163.
2. Л. Тимофеев, Основы теории литературы, М., 1959, с. 401.
3. А. Буров, Эстетическая сущность искусства, М., 1956, с. 136.
405
4. Там же, с. 75.
5. Л. Тимофеев, цит. пр., с. 405.
6. Там же, сс. 405-406.
7. Г. Мартынов, Гость из бездны, Л., 1962, с. 40.
8. Л. Успенский, Приключения языка, ’’Звезда”, 1958, № 9,
с. 242.
9. А. Протопопова, Сила положительного героя, ’’Комсомольская
правда”, 13 июля 1954.
10. А. Дремов, Действительность-идеал-идеализация, ’’Октябрь”,
1964, № 1-2.
11. М. Алексеев, Доклад на 3-м съезде писателей РСФСР, ’’Литературная
газета”, 25 марта 1970.
12. В. Савченко, Открытие себя, М., 1967, с. 253.
13. М. Шолохов, Речь на 2-м съезде ССП, ’’Литературная газета”,
26 дек. 1954.
14. Человек нашей мечты, ’’Нева”, 1962, № 4, с. 169.
15. Там же, с. 172.
16. В. Чалмаев, Огонь в одежде слова, М., 1973, с. 274.
17. В. Фирсов, Только один час, Фантастика 1967, вып. 1, М.,
1967, с. 205.
18. В. Сапарин, Пыль приключений, в его кн.: Суд над танталу-
сом, М., 1962, с. 205.
19. А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический роман,
с. 256; см. также: Е. Брандис, В. Дмитревский, Через горы времени,
М.—Л., 1963; Г. Альтов, Краски для фантазии, Фантастика
1971, М., 1971, и др.
20. Г. Гуревич, Мы - из солнечной системы, сс. 48-49.
21. Г. Мартынов, Гость из бездны, с. 159.
22. Е. Войскунский, И. Лукодьянов, Плеск звездных морей,
’’Искатель”, 1969, № 5, с. 71.
23. В. Шефнер, Скромный гений, в его кн. под тем же назв.,
М., 1974, с. 21.
24. Г. Гор, Минотавр, с. 56.
25. В. Аксенов, Коллеги, в его кн.: Жаль, что вас не было с нами,
М., 1969, сс. 82 и 83.
26. О романе В. Гроссмана ”3а правое дело”, ’’Литературная газета”,
3 марта 1953.
27. А. Мееров, Сиреневый кристалл, М., 1965, с. 65.
28. И. Ефремов, Туманность Андромеды, с. 140.
29. Человек нашей мечты, с. 169.
406
30. И. Ефремов, цит. пр., сс. 277-278.
31. Его же, Лезвие бритвы, М., 1964, с. 44.
32. Там же, с. 583.
Глава 6. Структуры жанра: сюжет
1. Г. Альтов, Краски для фантазии, с. 261.
2. Его же, Порт каменных бурь, Фантастика 1965, выл. 2, М.,
1965, сс. 236, 257.
3. S. Lem, Fantastyka i futurologia, Krakow, 1970, str. 130-132.
4. Г. Альтов, Краски для фантазии, с. 263.
5. А. Сольц, Трагический оптимизм, ’’Правда”, 7 янв. 1934.
6. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стеногр.
отчет, М., 1934, с. 716.
7. В. Лакшин, Писатель, читатель, критик, ’’Новый мир”, 1966,
№ 8, с. 210.
8. Ю. Андреев, Наша жизнь, наша литература, Л., 1974, сс. 23 3 -
234, 325.
9. А. Бочаров, В лучах нравственного идеала, в кн.: Ю. Трифонов,
Избранное, Минск, 1983, с. 6.
10. А. Громова, В круге света, Фантастика 1965, вып. 2, с. 73.
11. Там же, с. 182.
12. Ее же, Не созерцание, а исследование, ’’Литературная газета”,
7 янв. 1970.
13. В. Травинский, Раскроем сборник ’’Фантастика 1962 год”,
в кн.: Черный столб, М., 1963, с. 285.
14. А. Громова, Золушка, ’’Литературная газета”, 1 февр. 1964.
15. К. Андреев, Мир завтрашнего дня, ’’Новый мир”, 1959, № 6,
с. 246.
16. S. Lem, ОЫок Magellana, Warszawa, 1955, str. 282.
17. А. Яшин, Рычаги, в кн.: Литературная Москва, сб. 2, М.,
1956, с. 503.
18. В. Фоменко, Память земли, М., 1960, с. 166.
19. П. Плукш, Формирование и развитие социалистического реализма,
М., 1973, с. 321.
20. И. Забелин, Пояс жизни, М., 1960, с. 166.
21. А. Полещук, Ошибка инженера Алексеева, Мир приключений,
кн. 6, М., 1963, с. 49.
22. И. Росоховатский, Ритм жизни, ’’Техника-молодежи”, 1975,
№ 11, с. 47.
407
23. О. Гончар, Знаменосцы, М., 1952, с. 233.
24. С. Абрамов, А. Абрамов, Хождение за три мира, Мир приключений,
альм. 12, М., 1966, с. 44.
25. Г. Мартынов, Каллисто, М., 1962, с. 218.
26. В. Сапарин, Возвращение круглоголовых, в его кн.: Суд над
танталу сом, с. 141.
27. Г. Альтов, В. Журавлева, Баллада о звездах, в кн.: Золотой
лотом, М., 1961, с. 110,117.
28. С. Снегов, Люди как боги, сс. 59,116, 152.
29. Б. Балтер, До свидания, мальчики, М., 1963, с. 169.
Глава 7. Структуры жанра: стиль и манера письма
1. В. Кирпотин, Накануне Первого съезда, ’’Вопросы литературы”,
1967, №5, с. 34.
2. Ю. Олеша, Человеческий материал, Избранное, с. 229.
3. А. Терц (А. Синявский), Что такое социалистический реализм,
с. 442.
4. М. Геллер, Концентрационный мир и советская литература,
Лондон, 1974, с. 188.
5. R. Barthes, Degre zero de l’e'criture, Paris, 1972, p. 53.
6. В. Дмитриев, Реализм и художественная условность, М.,
1974, сс. 17-18.
7. Вс. Иванов, Рассказ о МХАТ, в его кн.: Повести, рассказы,
воспоминания, М., 1952, с. 275.
8. К. Цеткин, Воспоминания о Ленине, цит. по: Л. Фишер, Ленин,
Лондон, 1970, с. 715.
9. М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Франкфурт-на-Майне,
1969, с. 94.
10. Н. Чернышевский, Критический взгляд на современные эстетические
понятия, цит. кн., т. 1, с. 229.
11. М. Лифшиц, Почему я не модернист, ’’Литературная газета”,
8 окт. 1966.
12. М. Кольцов, Писатель в газете, в его кн.: Выступления. Статьи.
Заметки, М., 1961, с. 135.
13. П. Коган, Литература этих лет, Иваново-Вознесенск, 1924,
сс. 75-76.
14. С. Гусев, Пределы критики, ’’Известия”, 6 мая 1927.
15. Я. Шафир, Почему мы не умеем смеяться, ’’Красная печать”,
1923, № 17, с. 7.
408
16. В. Блюм, Возродится ли сатира, ’’Литературная газета”, 27
мая 1929.
17. Его же, Выступление на диспуте в Политехническом музее,
’’Литературная газета”, 13 янв. 1930.
18. Л. Яновская, Почему вы пишете смешно?, М., 1969, с. 162.
19. С. Шатров, Как зарождается фельетон, ’’Крокодил”, 1951,
№ 12, с. 4.
20. Л. Ершов, Советская сатирическая проза, М.-Л., 1966, с. 223.
21. В. Немцов, Последний полустанок, с. 366.
22. Там же, с. 368.
23. Там же, сс. 268-269.
24. В. Колупаев, Волевое усилие, Фантастика 69-70, М., 1970,
с. 205.
25. Там же, сс. 215,217,221,216.
26. В. Ермилов, Бесславный полет ’’Славик Ревью”, ’’Известия”
25 дек. 1962.
26а. См. напр., Курдюмов А., В краю непуганых идиотов, Париж,
1983; Каганская М., Бар-Селла 3., Мастер Гамбе и Маргарита, Нью
Йорк, 1984.
27. Серьезные ошибки издательства ’’Советский писатель”,
’’Литературная газета”, 9 февр. 1949.
28. См.: В Савченко, Алгоритм успеха, 1964; А. и Б. Стругацкие,
Понедельник начинается в субботу, 1964-65; Б. Зубков и Е. Муслин,
Плоды, 1967; Р. Яров, Вторая стадия, 1967; Л. Розанова, Предсказатель
прошлого, 1967; К. Булычев, Вымогатель, 1972, и др.
29. В. Бахнов, Как погасло солнце, или История Тысячелетней
Диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет, 5 месяцев и
7 дней, Фантастика 1968, М., 1968, с. 236.
30. Там же, с. 197.
31. А. Шаров, Редкие рукописи. Иллюзония, или королевство кочек,
НФ, вып. 5, М., 1966, с. 219.
32. Его же, Музей восковых фигур, или некоторые события из
жизни Карла Фридриха Питониуса до, во время и после путешествия
в карете времени, там же, сс. 245, 250.
33. См.: Л. Сапожников, У нас в Кибертонии, 1967; Г. Филанов-
ский, Фантазки, 1967; В. Михановский, Страна Инфория, 1971, и др.
34. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Понедельник начинается в субботу,
в кн.: Библиотека современной фантастики, т. 7,М., 1966, с. 319.
35. Их же, Сказка о Тройке, в их кн.: Улитка на склоне. Сказка
о Тройке, Франкфурт-на-Майне, 1972, сс. 265, 266, 2 1 6 , 230.
36. Там же, с. 226.
409
37. Их же, Улитка на склоне, Предисловие, в кн.: Эллинский секрет,
с. 385.
38. Их же, Улитка на склоне, ’’Байкал”, 1968, № 1, с. 45.
39. Там же, ’’Байкал” 1968, № 2, с. 69.
40. Там же, сс. 66-67.
41. Там же, с. 51.
42. А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический роман,
сс. 56, 357.
Глава 8. Варианты мира: братья Стругацкие
1. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Второе нашествие марсиан,
’’Байкал”, 1967, № 1, с. 104.
2. Их же, Пикник на обочине, в их кн.: Неназначенные встречи,
М., 1983, с. 161.
3. Их же, Улитка на склоне, ’’Байкал”, 1968, № 1, сс. 69-70.
4. Их же, Попытка к бегству, Фантастика 1962 год, М., 1962,
с. 239.
5. Их же, Трудно быть богом, Библиотека современной фантастики,
т. 7, М., 1966, с. 180.
6. Там же, с. 175.
7. Их же, Обитаемый остров, М., 1971, с. 222.
8. Р. Нудельман, Разговор в купе, с. 353.
9. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Улитка на склоне, в кн.:
Эллинский секрет, сс. 456-457.
10. Там же, сс. 461-462.
11. Н. Высокое, Зови вперед и выше! ’’Литературная газета”,
7 янв. 1970.
12. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Улитка на склоне, ’’Байкал”,
1968, № 1,с. 50.
13. Их же, Пикник на обочине, с. 164.
14. Е. Брандис, В. Дмитревский, Предисловие, в кн.: Эллинский
секрет, с. 17.
15. К. Маркс, К критике политической экономии, Предисловие,
в кн.: К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения в 3 тт., т. 1, М.,
1970, с. 536.
16. Его же, Речь на юбилее ’’The People’s Paper”, там же, т. 1,
сс. 531-532.
17. Там же, с. 532.
18. Ф. Энгельс, Принципы коммунизма, цит. изд., т. 1, с. 86.
410
Глава 9. Варианты мира: Владимир Савченко и другие
1. М. Митин, акад., Против антимарксистских космополитических
’’теорий” в философии, ’’Литературная газета”, 9 марта 1949.
2. В. Гончаров, Межпланетный путешественник, М., 1924, сс. 36,
41.
3. О. Шмидт, акад., Проблема происхождения Земли и планет,
’’Вопросы философии”, 1951, № 4, с. 125.
4. Б. Кукаркин, А. Масевич, Буржуазная космогония на службе
тиары и доллара, ’’Известия”, 28 янв. 1953.
5. К. Станюкович, К вопросу о так называемой тепловой смерти
Вселенной, ’’Вопросы философии”, 1962, № 3, с. 137.
6. См., напр., статью ’’Отрицания отрицания закон”, Философский
словарь, М., 1963, сс. 332-333.
7. К. Маркс, Тезисы о Фейербахе, цит. изд., т. 1, с. 1.
8. Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии, цит. изд., т. 3, М., 1970, сс. 382—383.
9. В. Савченко, Новое оружие, Фантастика 1966, вып. 1, с. 162.
10. Там же, с. 183. Ср.: ’’Представьте себе: две партии людей через
одну и ту же скалу роет два туннеля втайне друг от друга, опасаясь,
как бы одни не услышали стук кирок других...” (В. Савченко,
Черные звезды, М., 1960, с. 67).
11. Его же, Новое оружие, с. 194.
12. Там же.
13. Его же, Открытие себя, М., 1967, с. 136.
14. Там же, с. 53.
15. Там же, сс. 324, 155-156, 339.
16. Там же, с. 346.
17. Его же, Тупик, Фантастика-72, М., 1972, с. 140.
18. Его же, Испытание истиной, в кн.: Антология, Библиотека
современной фантастики, т. 25, М., 1973, с. 320.
19. Его же, Тупик, с. 139.
20. Там же, с. 141.
21. Там же, с. 148 (курсив автора).
22. Там же, сс. 154-156.
23. Его же, Испытание истиной, с. 330.
24. Там же, с. 329.
25. Там же, сс. 336-337.
26. Его же, Тупик, с. 154.
27. Его же, Испытание истиной, с. 336.
28. Там же, с. 337.
411
29. См., напр., А. Арсеньев, Наука и человек, в кн.: Наука и нравственность,
М., 1971, сс. 142-147.
30. М. Емцев, Е. Парнов, Возвратите любовь, Фантастика 1966,
вып. 2, М., 1966, сс. 81-82.
31. М. Анчаров, Сода-солнце, Фантастика 1965, вып. 3, М., 1965,
с. 113.
32. А. Шалимов, Окно в бесконечность, в его кн.: Странный мир,
Л., 1972, с. 125.
33. Н. Амосов, Моделирование мышления и психики, Киев,
1965, цит. по: Ф. Михайлов, Загадка человеческого ”я”, М., 1976,
с. 26.
34. Ф. Михайлов, цит. пр., с. 26.
35. Л. Обухова, Птенцы археоптерикса, НФ, вып. 6, М., 1967,
с. 179.
36. Д. Биленкин, Чужие глаза, в его кн.: Проверка на разумность,
М., 1974, с. 101.
37. А. Горбовский, По системе Станиславского, НФ, вып. 14,
М., 1974, сс. 152-153.
38. Н. Амосов, Записки из будущего, Фантастика 1966, вып. 1,
с. 245.
39. А. Громова, Р. Нудельман, В институте времени идет расследование,
М., 1973, с. 366.
Глава 10. Варианты мира: Иван Антонович Ефремов
1. И. Ефремов, Предисловие, в кн.: О. Ларионова, Остров мужества,
Л., 1971, с. 6.
2. Б. Евгеньев, Рассказы о необыкновенном, ’’Новый мир”,
1946, № 1 -2 , с. 197.
3. О. Мандельштам, Гуманизм и современность, Собрание сочинений,
т. 2, Нью Йорк, 1971, с. 352.
4. И. Ефремов, Путешествие Баурджеда, М., 1953, с. 18.
5. Е. Брандис, В. Дмитревский, Через горы времени, с. 103.
6. И. Ефремов, На краю Ойкумены, М., 1952, с. 103.
7. Его же, Путешествие Баурджеда, с. 134.
8. Там же, с. 37.
9. Цит. по: Е. Брандис, В. Дмитревский, цит. пр., с. 105.
10. Я. Лари, Страна счастливых, с. 37.
11. А. Marshack, Science-Fiction Soviet Style, Saturday Review,
June 2d, 1956.
412
12. И. Ефремов, Звездные корабли, в кн.: Библиотека современной
фантастики, т. 1, М., 1965, с. 114.
13. Е. Брандис, В. Дмитревский, цит. пр., с. 68.
14. См. там же, с. 104.
15. И. Ефремов, Тайс Афинская, М., 1973, с. 115.
16. Его же, Звездные корабли, сс. 48-49.
17. В. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Собрание сочинений,
т. 10, М., 1925, сс. 30, 56.
18. А. Опарин, В. Фесенков, Жизнь во Вселенной, М., 1956, с. 16.
19. И. Ефремов, Туманность Андромеды, с. 200.
20. Его же, Обращение от автора, в его кн.: Лезвие бритвы, М.,
1964, с. 3.
21. Его же, Лезвие бритвы, с. 42.
22. Его же, Наклонный горизонт, ’’Вопросы литературы”, 1962,
№ 8, с. 64.
23. А. Бритиков, Целесообразность красоты в эстетике Ивана
Ефремова, в кн.: Творческие взгляды советских писателей, Л., 1981,
сс. 178-179.
24. И. Ефремов, Лезвие бритвы, с. 99.
25. И. Золотусский, Ценность эксперимента, ’’Москва”, 1964,
№4, с. 215.
26. И. Ефремов, Наклонный горизонт, с. 57.
27. Его же, Час Быка, М., 1970, сс. 320, 421.
28. Его же, Тайс Афинская, с. 139.
29. Его же, Лезвие бритвы, с. 134.
30. Там же, с. 621.
31. Там же, с. 630.
32. Его же, Час Быка, с. 371.
33. Его же, Лезвие бритвы, с. 625.
34. Его же, Час Быка, с. 105.
35. Там же, с. 39.
36. Его же, Лезвие Бритвы, с. 625.
37. В. Белинский, Письмо В. П. Боткину от 1 марта 1841, в кн.:
П. Сакулин, ред., Социализм Белинского, М., 1925, с. 12.
38. Н. Федоров, Философия общего дела, т. 1, с. 140.
39. И. Ефремов, Час Быка, с. 109.
40. Его же, Туманность Андромеды, с. 55.
41. Его же, Сердце Змеи, в его кн.: Сердце Змеи, М., 1964, с. 246.
42. Н. Федоров, цит. пр., т. 1, с. 284.
43. Там же, с. 283.
413
44. Там же, сс. 284, 293.
45. И. Ефремов, Час Быка, с. 418.
46. Там же, сс. 27, 291.
47. Его же, Лезвие бритвы, с. 561.
48. Его же, Час Быка, с. 371.
49. Там же, с. 324.
50. Р. Нудельман, Разговор в купе, с. 366.
51. О. Мандельштам, Утро акмеизма, Собрание сочинений, т. 2,
с. 320.
52. См. А. Бритиков, Целесообразность красоты в эстетике Ивана
Ефремова.
Глава 11. Кое-какие выводы о фантастике 60-х годов
1. См., напр., Е. Парнов, Современная научная фантастика, М.,
1968, сс. 8 -9 , 98; Б. Ляпунов, В мире мечты, сс. 24, 144; J. van Негр,
Panorama de la science-fiction, Verviers, 1973, pp. 302-304; J. Gattegno,
La science-fiction, Paris, 1971, p. 35 и т. д.
2. А. Бритиков, Русский советский научно-фантастический роман,
с. 256.
3. Там же, с. 13.
4. Там же, с. 12.
5. Р. Нудельман, Разговор в купе, с. 353.
6. А. Громова, Не созерцание, а исследование, ’’Литературная
газета”, 7 янв. 1970.
7. А. Бритиков, цит. пр., с. 361.
8. Его же, Эволюция фантастики, в кн.: О прогрессе в литературе,
Л., 1977, с. 222; его же, Проблемы изучения научной фантастики,
сс. 200-201.
9. И. Варшавский, В страну воображения, ’’Литературная газета”,
26 дек. 1973.
10. А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Давайте думать о будущем,
’’Литературная газета”, 4 февр. 1970.
11. Об этом см., напр., Ю. Мальцев, Вольная русская литература.
1955-1975, Франкфурт-на-Майне, 1976.
12. Более подробно об этом течении см.: Р. Zveteremich, Fantastico
grotesco assurdo e satira nella narrativa russa d’oggi (1956-1980),
Messina, 1980.
13. А. Терц (А. Синявский), Что такое социалистический реализм,
с. 446.
414
Глава 12. Возвращение в пределы системы
1. Напр., Ю. Кагарлицкий, Фантастика ищет новые пути, ’’Вопросы
литературы”, 1974, № 10, сс. 165-166.
2. Напр., А. Горбовский, Время фантастики, ’’Детская литература”,
1976, №7, с. 9.
3. К. Булычев, Ответ читателю, ’’Знание - сила”, 1977, № 5,
с. 60.4
. Его же, Журавль в руках, в его кн.: Летнее утро, Л., 1979,
с. 106.
5. С. Снегов, Экспедиция в иномир, в его кн. под тем же назв.,
М., 1983, сс. 136, 138.
6. См., напр., С. Громов, Наш товарищ Филби, в кн.: Чекисты
рассказывают, М., 1983, сс. 249, 256.
7. С. Снегов, Экспедиция в иномир, сс. 134-135.
8. А. Абрамов, С. Абрамов, Серебряный вариант, М., 1980,
с. 39.
9. М. Пухов, Семя зла, ’’Искатель”, 1981, № 3, с. 63.
10. М. Hayward, The Decline of Socialist Realism, ’’Survey” 1972,
18, № 1/82, p. 96.
11. N. Shneidman; Soviet Literature in the 1970s. Artistic Diversity
and Ideological Conformity, Torronto-Buffalo-London, 1979, p. 13.
12. А. Метченко, Б. Бугров, А. Герасименко, В. Зайцев, Современная
советская литература. 70-е годы. (Актуальные проблемы),
М., 1983, с. 73.
13. Е. Федоров, акад., По законам природы, ’’Юность”, 1971,
№ 12.
14. Д. Гранин, Остаться человеком, в кн.: В конце семидесятых,
Л., 1980, с. 19.
15. Э. Неизвестный, говорит Неизвестный, Франкфурт-на-Майне,
1984, сс. 135-138.
16. Б. Рахманин, Часы без стрелок, в кн.: Повести о войне, М.,
1975, с. 706.
17. Б. Лапин, Под счастливой звездой, в его кн. под тем же
назв., М., 1978, с. 19.
18. 3. Юрьев, Черный Яша, НФ, вып. 20, М., 1979, с. 48.
19. Г. Гуревич, Понимать фантастику, Мир приключений, М.,
1984.
415
БИБЛИОГРАФИЯ
Нижеследующая библиография включает лишь издания, непосредственно
использовавшиеся для работы над этой книгой. В некоторых
случаях год первого издания указан в скобках.
В библиографию не вошли работы по теории литературы и истории
советской литературы.
Дополнительные данные см. в примечаниях.
СОВЕТСКАЯ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
1 9 1 7 -1 9 3 4
Арельский Г., Повести о Марсе, Л., 1925.
Асеев Н., Расстрелянная Земля. Завтра, Собрание сочинений в 5 тт.,
т. 1,М., 1964 (1925).
Беляев А., Романы и повести. Собрание сочинений в 8 тт., тт. 1-5,
М., 1963-1964 (1926-1933).
Беляев А., Рассказы. Собрание сочинений в 8 тт., т. 8, М., 1964
(1926-1930).
Беляев А., Борьба в эфире, М.-Л., 1928.
Бобров С., Спецификация идитола, Берлин, 1923.
Булгаков М., Дьяволиада. Роковые яйца, М., 1925.
Булгаков М., Собачье сердце, Франкфурт-на-Майне, 1970 (1925, в
СССР не издавалось).
Булгаков М., Адам и Ева, в его кн.: Пьесы, Париж, 1971 (1931, в
СССР не издавалось).
Гастев А. Экспресс. Слово под прессом, в его кн.: Поэзия рабочего
удара, М., 1971 (1916, 1921).
Гончаров В. Межпланетный путешественник, М.-Л., 1924.
Григорьев С. Гибель Британии, Л., 1926.
Доллар Джим (Шагинян М.), Месс Менд, М., 1924.
Замятин Е. Мы, Нью Йорк, 1967 (1921, в СССР не издавалось).
Замятин Е., Рассказ о самом важном, в его кн.: Повести и рассказы,
Нью Йорк, 1967 (1918).
Зеликович Э., Следующий мир, ’’Борьба миров”, 1931, № 1-7.
416
Зуев-Ордынец М., Панургово стадо, в кн.: Невидимый свет, М., 1959
(1929).
Ильин Ф. (Тео Эли), Долина новой жизни, Баку, 1967 (1928).
Итин В., Открытие Риэля, в его кн.: Высокий путь, М.-Л.,
1927 (под назв. Страна Гонгури, 1922).
Иванов Вс., Шкловский В., Иперит, ”Леф”, 1925, № 3.
Каверин В., Бочка, Собрание сочинений в 10 тт., т. 1, М., 1974 (1924).
Катаев В., Остров Эрендорф, М., 1925.
Кремнев И. (Чаянов А .), Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии, М., 1920.
Лавренев Б., Крушение республики Итль, М.-Л., 1926.
Ларри Я., Страна счастливых, Л., 1931.
Лунд Л., Вне закона. Обезьяны идут. Город правды (пьесы), в его
кн.: Родина и другие произведения, Иерусалим, 1981 (1920—
1924).
Муханов Н., Пылающие бездны, Л., 1924.
Никольский В., Через тысячу лет, Л., 1928.
Обручев В., Плутония. Земля Санникова, М., 1958 (1924, 1926).
Окунев Я., Завтрашний день, Пг, 1923.
Окунев Я., Грядущий мир, Пг, 1923.
Орловский В., Бунт атомов, М.-Л., 1928.
Платонов А., Лунная бомба. Потомки солнца. Эфирный тракт, в его
кн.: Потомки солнца, М., 1974 (1921, 1926, 1928-30: последнее
произв. впервые напечатано в ’’Фантастике 1967”).
Толстой А., Аэлита, или закат Марса, Полное собрание сочинений,
т. 4, М., 1948 (1922).
Толстой А., Союз пяти. Гиперболоид инженера Гарина, Полное
собрание соч., т. 5, М., 1947 (1925-1926).
Толстой А., Бунт машин, Полное собрание соч., т. 11, М., 1949 (1924).
Циолковский К., Общественная организация человечества, Калуга,
1928.
Циолковский К., Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение,
Калуга, 1929.
Циолковский К., Цели звездоплавания, Калуга, 1929.
Эренбург И., Необычайные похождения Хулио Хуренито, М., 1928
(1922) .
Эренбург И., Трест Д. Е., Собрание сочинений в 9 тт., т. 1, М., 1962
(1923) .
Ярославский А., Аргонавты вселенной, М.-Л., 1926.
Ясенский Б., Я жгу Париж, Избранные произведения в 2 тт., т. 1,
М., 1957 (на франц. языке 1928; на рус. языке 1929).
417
1 9 3 5 -1 9 5 5
Адамов Г., Изгнание владыки, М.-Л., 1946.
Адамов Г., Победители недр, Фрунзе, 1958 (1937).
Адамов Г., Тайна двух океанов, М., 1959 (1938).
Беляев А., Романы, повести. Собрание сочинений в 8 тт., тт. 5—7,
М., 1964 (1935-1940).
Беляев С., Приключения Сэмюэля Пингля, М., 1959 (1945).
Беляев С., Властелин молний, М., 1947.
Гребнев Г., Арктания, М.-Л., 1938.
Гребнев Г., Невредимка, в кн.: Невидимый свет, М., 1959 (1939).
Гуревич Г., Ясный Г., Человек-ракета, М.-Л., 1947.
Долгушин Ю., ”ГЧ”, М., 1959 (под назв. ’’Генератор чудес”, 1940).
Ефремов И., Белый рог, М., 1945.
Ефремов И., Звездные корабли, Библиотека современной фантастики^.
1,М., 1965 (1947).
Ефремов И., На краю Ойкумены, М., 1952.
Ефремов И., Путешествие Баурджеда, М., 1953.
Ефремов И., Озеро Горных Духов, М., 1954.
Ефремов И., Алмазная труба, М., 1954.
Зеликович Э., Опасное изобретение, в кн.: Невидимый свет, М.,
1959 (1938).
Казанцев А., Пылающий остров, М., 1957 (1940).
Казанцев А., Арктический мост, М., 1946.
Казанцев А., Мол ’’Северный”, М., 1952.
Лагин Л., Патент ”АВ”. Остров Разочарования, М., 1967 (1947,
1951).
Лукин Н., Судьба открытия, М.-Л., 1951.
Мартынов Г., 220 дней на звездолете, М., 1955.
Немцов В., Золотое дно, М., 1952 (1948).
Немцов В., Тень под землей, М., 1954.
Немцов В., Альтаир, М., 1956 (1955).
Обручев В., Путешествия в прошлое и будущее, М., 1965 (1935-
1950).
Охотников В., Дороги вглубь, М., 1950.
Охотников В., В мире исканий, М., 1952.
Охотников В., Первые дерзания, М., 1953.
Платов Л., Архипелаг исчезающих островов, М., 1949.
Платов Л., Каменный холм, М., 1952.
Платов Л., Страна семи трав, М., 1954.
Розвал С., Лучи жизни, М., 1949.
418
1 9 5 6 -1 9 7 4
Абрамов С., Волчок для Гуливера, Мир приключений, М., 1973.
Абрамов А., Абрамов С., Хождение за три мира, Мир приключений,
альм. 12, М., 1966.
Абрамов А., Абрамов С., Всадники ниоткуда, М., 1968.
Абрамов А., Абрамов С., Рай без памяти, М., 1969.
Абрамов А., Абрамов С., Повесть о снежном человеке, Мир приключений,
М., 1971.
Абрамов А., Абрамов С., Селеста-7000, М., 1971.
Абрамов А., Абрамов С., Человек, который не мог творить чудеса,
Мир приключений, М., 1974.
Альтов Г., Легенды о звездных капитанах, в кн.: Капитан звездолета,
Калининград, 1962.
Альтов Г., Порт Каменных Бурь, Фантастика 1965, вып. 2, М., 1965.
Альтов Г., Создан для бури, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968.
Альтов Г., Третье тысячелетие, НФ, вып. 14, М., 1974.
Альтов Г., Журавлева В., Баллада о звездах, в кн.: Золотой лотос,
М., 1961.
Амосов Н., Записки из будущего, Фантастика 1966, вып. 1, М.,
1966.
Анчаров М., Сода-солнце, Фантастика 1965, вып. 3, М., 1965.
Анчаров М., Голубая жилка Афродиты, Фантастика 1966, вып. 3, М.,
1966.
Багряк П., Кто? ’’Юность”, 1966, № 7.
Багряк П., Перекресток, ’’Юность”, 1967, № 3 -4 .
Бахнов В., Единственный в мире, Фантастика 1966, вып. 1, М., 1966.
Бахнов В., Внимание, ахи! М., 1970.
Бахнов В., Тайна, покрытая мраком, М., 1973.
Бердник О., Сердце вселенной, Ташкент, 1963.
Бердник О., Подвиг Вайвасваты, ’’Радуга”, 1965, № 8-10.
Биленкин Д., Марсианский прибой, М., 1967.
Биленкин Д., Ночь контрабандой, М., 1971.
Биленкин Д., Проверка на разумность, М., 1974.
Бовин Г., Дети Земли, М., 1960.
Борин Б., Оранжевая планета, в кн.: Сквозь завесу времени, Магадан,
1971.
Булычев К., Марсианское зелье, Мир приключений, М., 1971.
Булычев К., Чудеса в Гусляре, М., 1972.
Булычев К., Великий Дух и беглецы, НФ, вып. 11, М., 1972.
419
Булычев К., Девочка с Земли, М., 1974.
Бээкман Э., Шарманка, Таллин, 1974.
Валентинов И., Мертвая вода, НФ, вып. 15, М., 1974.
Ванюшин В., Вторая жизнь, Алма-Ата, 1962.
Варшавский И., Лавка сновидений, Л., 1970.
Варшавский И., Тревожных симптомов нет, М., 1972.
Варшавский И., Молекулярное кафе, Л., 1964.
Варшавский И., Сюжет для романа, НФ, вып. 11, М., 1972.
Велтистов Е., Глоток солнца, Мир приключений, альм. 12, М., 1966.
Винник А., Сумерки Бизнесонии, Донецк, 1965.
Войскунский Е., Лукодьянов И., Черный столб, в кн.: Черный столб.
М., 1962.
Войскунский Е., Лукодьянов И., Сумерки на планете Бюр, Фантастика
1966, вып. 2, М., 1966.
Войскунский Е., Лукодьянов И., Плеск звездных морей, ’’Искатель”,
1969, №4-5.
Войскунский Е., Лукодьянов И., Очень далекий Тартесс, М., 1968.
Гансовский С., Новая сигнальная, в кн.: Новая сигнальная, М., 1963.
Гансовский С., День гнева, Библиотека современной фантастики,
т. 14, М., 1967.
Гансовский С., Демон истории, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968.
Гансовский С., Три шага к опасности, М., 1969.
Гансовский С., Идет человек, М., 1971.
Гансовский С., Часть этого мира, НФ, вып. 14, М., 1974.
Глебов А., Большой день на планете Чунгр, Фантастика 1962, М., 1962.
Голованов Я., Кузнецы грома, ’’Юность”, 1964, № 1.
Гор Г., Докучливый собеседник, в его кн.: Университетская набережная,
М.-Л., 1963.
Гор Г., Кумби, М., 1963.
Гор Г., Уэра, НФ, вып. 1, М., 1964.
Гор Г., Ольга Нсу, НФ, вып. 3, М., 1965.
Гор Г., Скиталец Ларвеф, М.-Л., 1966.
Гор Г., Великий актер Джонс, в кн.: Эллинский секрет, Л., 1966.
Гор Г., Минотавр, НФ, вып. 6, М., 1967.
Гор Г., Имя, в кн.: Вторжение в Персей, Л., 1968.
Гор Г., Фантастические повести и рассказы, Л., 1970.
Гор Г., Изваяние, Л., 1972.
Горбовский А., Находка. Амплитуда радости, Фантастика 1967, вып.,
1,М., 1968.
Горбовский А., Эксперимент с неуправляемыми последствиями, НФ,
вып. 11, М., 1972.
420
Гранин Д., Место для памятника, в кн.: Вахта ’’Арамиса”, Л., 1967.
Грешнов М., Золотой лотос, в кн.: Золотой лотос, М., 1961.
Грешнов М., Волшебный колодец, М., 1974.
Григорьев В., Рог изобилия, Фантастика 1964, М., 1964.
Григорьев В., Свои дороги к солнцу, Фантастика 1966, вып. 1, М.,
1966.
Григорьев В., Аксиомы волшебной палочки, Фантастика 1966, вып.
2, М., 1966.
Громова А., Глеги, Фантастика 1962, М., 1962.
Громова А., Поединок с собой, М., 1963.
Громова А., В круге света, Фантастика 1965, вып. 2, М., 1965.
Громова А., Мы одной крови - ты и я! М., 1967.
Громова А., Комаров В., По следам неведомого, М., 1959.
Громова А., Нудельман Р., Вселенная за углом, Мир приключений,
М., 1971.
Громова А., Нудельман Р., В институте времени идет расследование,
М., 1973.
Гуревич Г., Инфра Дракона, в кн.: Дорога в сто парсеков, М., 1959.
Гуревич Г., Рождение шестого океана, М., 1960.
Гуревич Г., Пленники астероида, в кн.: В мире фантастики и приключений,
Л., 1964.
Гуревич Г., Мы - из Солнечной системы, М., 1965.
Гуревич Г., Приглашение в зенит, НФ, вып. 13, М., 1974.
Днепров А., Формула бессмертия, М., 1963.
Днепров А., Ферма Станлю, Фантастика 1964, М., 1964.
Днепров А., Подвиг, Фантастика 1962, М., 1962.
Днепров А., Формула бессмертия, М., 1972.
Домбровский К., Серые муравьи, 1 ч.: Мир приключений, М., 1969;
2 ч.: Мир приключений, М., 1973.
Емцев М., Парнов Е., Падение сверхновой, М., 1964.
Емцев М., Парнов Е., Уравнение с Бледного Нептуна, М., 1964.
Емцев М., Парнов Е., Последняя дверь, Фантастика 1964, М., 1964.
Емцев М., Парнов Е., Бунт тридцати триллионов, НФ, вып. 1, М.,
1964.
Емцев М., Парнов Е., Возвратите любовь, Фантастика 1966, вып. 2,
М., 1966.
Емцев М., Парнов Е., Море Дирака, М., 1967.
Емцев М., Парнов Е., Три кварка, М., 1969.
Емцев М., Парнов Е., Клочья тьмы на игле времени, М., 1970.
Ефремов И., Туманность Андромеды, М., 1958.
421
Ефремов И., Сердце змеи, М., 1964.
Ефремов И., Лезвие бритвы, М., 1964.
Ефремов И., Час Быка, М., 1970.
Жемайтис С., Вечный ветер, М., 1970.
Жемайтис С., Багряная планета, М., 1973.
Журавлева В., Сквозь время, в кн.: Дорога в сто парсеков, М., 1959.
Журавлева В., Человек, создавший Атлантиду, М., 1963.
Журавлева В., Снежный мост над пропастью, М., 1971.
Забелин И., Пояс жизни, М., 1960.
Забелин И., Записки хроноскописта, М., 1969.
Зейтунцян П., Легенда XX века, Ереван, 1969.
Зубков Б., Муслин Е., Бунт, Фантастика 1965, вып. 1, М., 1965.
Зубков Б., Муслин Е., Плоды, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968.
Казанцев А., Гость из космоса, М., 1958.
Казанцев А., Лунная дорога, М., 1960.
Казанцев А., Внуки Марса, М., 1963.
Казанцев А., Сильнее времени, М., 1973.
Казанцев А., Фаэты, М., 1974.
Клименко М., Судная ночь, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968.
Колпаков А., Гриада, М., 1960.
Колупаев В., Волевое усилие, Фантастика 1969-70, М., 1970.
Колупаев В., Случится же с человеком такое... М., 1972.
Колупаев В., Качели отшельника, М., 1974.
Лагин Л., Майор Велл Эндъю, Фантастика 1962, М., 1962.
Лагин Л., Белокурая бестия, ’’Юность”, 1963, № 4.
Ларионова О., Вахта ’’Арамиса”, в кн.: Вахта ’’Арамиса”, Л., 1967.
Ларионова О., Остров мужества, Л., 1971.
Ломм А., Ночной орел, М., 1973.
Львов А., Мой старший брат, которого не было, Фантастика 1965
вып. 1,М., 1965.
Львов А., Седьмой этаж, Фантастика 1966, вып. 1, М., 1966.
Ляшенко М., Человек-луч, Мир приключений, кн. 4, М., 1959.
Малов В., Академия ’’Биссектриса”, Фантастика 1968, М., 1969.
Мартынов Г., Сестра Земли, Мир приключений, кн. 5, М., 1959.
Мартынов Г., Каллисто, М., 1962.
Мартынов Г., Гость из бездны, Л., 1962.
Мартынов Г., Гианэя, Л., 1965.
Мартынов Г., Спираль времени, Л., 1966.
Михайлов В., Ручей на Япете, М., 1971.
Михайлов В., ’’Адмирал” над поляной, ’’Искатель”, 1973, № 4.
Михановский В., Когда параллели встречаются... ’’Юность”, 1967, №1.
422
Михановский В., Фиалка, НФ, выл. 12, М., 1972.
Михановский В., Гостиница ’’Сигма”, Мир приключений, М., 1974.
Михановский В., Цель и средства, НФ, вып. 15, М., 1974.
Мирер А., Знак равенства, НФ, вып. 7, М., 1967.
Мееров А., Сиреневый кристалл, М., 1965.
Морочко В., Мое имя вам известно, Фантастика 72, М., 1972.
Невинский В., Под одним солнцем, в кн.: В мире фантастики и приключений,
Л., 1964.
Немцов В., Последний полустанок, М., 1970 (1959).
Никитин Ю., Человек, изменивший мир, М., 1973.
Николаев Г., Белый камень Эрдени, ’’Смена”, 1974, № 21-24.
Новиков В., Путешествие ’’Геоса”, Алма-Ата, 1964.
Обухова Л., Лилит, НФ, вып. 4, М., 1966.
Обухова Л., Диалог с лунным человеком, Фантастика 71, М., 1971.
Оношко Л., На оранжевой планете, Днепропетровск, 1959.
Павлов С., Океанавты, М., 1972.
Подольный Р., Восьмая горизонталь, Фантастика 71, М., 1971.
Полещук А., Ошибка инженера Алексеева, Мир приключений, кн. 6,
М., 1963.
Полещук А., Падает вверх, М., 1964.
Полещук А., Эффект бешеного солнца, НФ, вып. 8, М., 1970.
Пухов М., Охотничья экспедиция, Фантастика 1967, вып. 1, М.,
1968.
Разговоров Н., Четыре четырки, в кн.: Черный столб, М., 1963.
Рич В., Последний мутант, Фантастика 1968, М., 1969.
Розанова Л., Предсказатель прошлого, Фантастика 1967, вып. 1,
1968.
Росоховатский И., Виток истории, М., 1966.
Росоховатский И., Каким ты вернешься? М., 1971.
Сафонов В., Укрощение Великого Хапи, М., 1964.
Сафроновы Ю. и С., Внуки наших внуков, ’’Нева”, 1958, № 11.
Сапарин В., Суд над танталу сом, М., 1962.
Сапарин В., Небесная Кулу, в кн.: Дорога в сто парсеков, М., 1959.
Савченко В., Черные звезды, М., 1960.
Савченко В., Алгоритм успеха, Фантастика 1964, М., 1964.
Савченко В., Новое оружие, Фантастика 1966, вып. 1, М., 1966.
Савченко В., Открытие себя, М., 1967.
Савченко В., Жил-был мальчик, ’’Звезда”, 1970, № 10.
Савченко В., Тупик, Фантастика 72, М., 1972.
Савченко В., Испытание истиной, Библ. современной фантастики,
т. 25, М., 1973.
423
Симонян К., Фантастика, Ереван, 1972.
Смолян А., Закат Мигуэля Родригеса, ’’Нева”, 1968, № 12.
Снегов С., Люди как боги, 1 ч. в кн.: Эллинский секрет, Л., 1966;
2 ч. в кн.: Вторжение в Персей, Л., 1968.
Соколова Н., Захвати с собой улыбку на дорогу... Фантастика 1965,
вып. 3, М., 1965.
Соколова Н., Дезидерата, Фантастика 73-74, М., 1975.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Страна багровых туч, М., 1959.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Путь на Амальтею, М., 1960.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Стажеры. М., 1962.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Попытка к бегству, Фантастика 1962,
М., 1962.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Далекая радуга, в кн.: Новая сигнальная,
М., 1963.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Хищные вещи века, М., 1965.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Трудно быть богом, Библиотека современной
фантастики, т. 7, М., 1966 (1964).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Понедельник начинается в субботу,
Библиотека современной фантастики, т. 7, М., 1966.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Улитка на склоне, в кн.: Эллинский
секрет, Л., 1966.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Улитка на склоне, ’’Байкал”, 1968,
№ 1- 2.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Полдень, XXII век (Возвращение),
М., 1967, (1962).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Второе нашествие марсиан, ’’Байкал”,
1967, №1.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Сказка о тройке, в их кн.: Улитка на
склоне. Сказка о тройке, Франкфурт-на-Майне, 1972 (1968) .
Стругацкий А., Стругацкий Б., Отель ”У погибшего альпиниста”,
’’Юность”, 1970, №9-11.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Обитаемый остров, М., 1971.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Гадкие лебеди, Франкфурт-на-Майне,
1972 (не издавалось в СССР, дат. 1968).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Малыш, в их кн.: Полдень XXII век.
Малыш, Л., 1975 (1973).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Пикник на обочине, в их кн.: Не-
назначенные встречи, М., 1983 (1974).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Парень из преисподней, ’’Аврора”,
1974, №11-12.
424
Суханова Н., Ошибка размером встолетие, Фантастика 1966, вып. 3,
М., 1966.
Тендряков В., Путешествие длиною в век, Библиотека современной
фантастики, т. 19, М., 1970.
Томан Н., В созвездии трапеции, М., 1970.
Тупицын Ю., Фантомия. Красный мир, Фантастика 6 9 -7 0 , М., 1970.
Успенский Л., Шальмугровое яблоко, Фантастика 72, М., 1972.
Фирсов В., Только один час, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968.
Фирсов В., Исполнение желаний, НФ, вып. 7, М., 1967.
Фирсов В., И жизнь, и смерть, Фантастика 7 3-74, М., 1975.
Фрадкин Б., Пленники пылающей бездны, М., 1959.
Филановский Г., Фантазки, Фантастика 1967, М., 1968.
Хлебников А., Круг позора. Последнее средство. Талисман, в кн.:
Талисман, Л., 1973.
Цыганов В., Марсианские рассказы, ’’Знание - сила”, 1973, № 12.
Чудакова М., Пространство жизни, Фантастика 6 9 -7 0 , М., 1970.
Шалимов А., Охотники за динозаврами, Л., 1968.
Шалимов А., Странный мир, Л., 1972.
Шаров А., После перезаписи, НФ, вып. 4, М., 1966.
Шаров А., Редкие рукописи, НФ, вып. 5, М., 1966.
Шаров А., Рукопись № 700, НФ, вып. 9, М., 1970.
Шефнер В., Девушка у обрыва, Библиотека современной фантастики,
т. 19, М., 1970 (1964).
Шефнер В., Скромный гений, М., 1974.
Щербаков В., Сегодня вечером, НФ, вып. 8, М., 1969.
Юрьев 3., Башня Мозга, Фантастика 1966, вып. 3, М., 1966.
Юрьев 3., Белое снадобье, ’’Искатель”, 1973, № 4 -5 .
1 9 7 5 -1 9 8 4
Абрамов С., Опознай живого, М., 1976.
Абрамов С., Выше радуги, М., 1983.
Абрамов А., Абрамов С., Серебряный вариант, М., 1983.
Алексеев О., Ратные луга, Фантастика 77, М., 1977.
Алексеев О., Крепость Александра Невского, Фантастика 78, М., 1978.
Алексеев О., Рассвет над Непрядвой, Фантастика 79, М., 1979.
Аматуни П., Гаяна, М., 1977 (1957-1966).
Амнуэль П., Капли звездного света, Мир приключений, М., 1981.
Амнуэль П., Сегодня, завтра и всегда, М., 1984.
Ахметов С., Алмаз ”Шах”, М., 1982.
425
Аникин А., Пятое путешествие Гулливера, Фантастика 78, М., 1978.
Балабуха А., Люди кораблей, М., 1983.
Биленкин Д., Конец закона, Мир приключений, М., 1980.
Биленкин Д., Снега Олимпа, М., 1980.
Булычев К., Нужна свободная планета, Мир приключений, М., 1977.
Булычев К., Закон для Дракона, ’’Знание - сила”, 1975, № 10-12.
Булычев К., Сто лет тому вперед, М., 1978.
Булычев К., Гуслярские истории, Мир приключений, М., 1978.
Булычев К., Летнее утро. М., 1979.
Булычев К., Похищение чародея, НФ, вып. 24, М., 1981.
Булычев К., Перевал, М., 1983.
Валентинов А., Планета Гарпий, Мир приключений, М., 1978.
Велтистов Е., Посетитель невозможного, М., 1975.
Велтистов Е., Ноктюрн пустоты. Глоток солнца, М., 1982.
Войскунский Е., Лукодьянов И., Незнакомая планета, М., 1980.
Гансовский С., Человек, который сделал Балтийское море, М., 1981.
Генкин В., Кацура А., Лекарство для Люс, НФ, вып. 28, М., 1983.
Голованов Я., Гусман Ю., Контакт, ’’Юность”, 1976, № 6.
Головачев Г., Непредвиденные встречи, Днепропетровск, 1979.
Головачев Г., Реликт, М., 1982.
Гор Г., Геометрический лес, Л., 1975.
Горбовский А., Игрища в зале, где никого нет, НФ, вып. 20, М.,
1979.
Гребенюк М., Парадокс времени, Ташкент, 1979.
Грешнов М., Одно апельсиновое зернышко, Краснодар, 1975.
Григорьев В., Рог изобилия, М., 1977.
Громова А., Дачные гости, НФ, вып. 20, М., 1979.
Гуляковский Е., Сезон туманов, М., 1982.
Гуревич Г., Нелинейная фантастика, М., 1978.
Гуревич Г., Темпоград, М., 1983.
Де-Спиллер Д., Поющие скалы, М., 1981.
Дмитрук А., Ночь молодого месяца, Фантастика 79, М., 1979.
Жемайтис С., Большая лагуна, М., 1977.
Емцев М., Бог после шести, М., 1976.
Имерманис А., Пирамида Мортона, Рига, 1978.
Казанцев А., Купол надежды, М., 1980.
Клименко М., Ледяной телескоп, М., 1978.
Колупаев В., Фирменный поезд ’’Фомич”, М., 1979.
Колупаев В., Зачем жил человек? Новосибирск, 1982.
Константинов Ю., Путешествия для избранных, Киев, 1982.
Корчагин В., Астийский эдельвейс, М., 1982.
426
Кривин Ф., Изобретатель вечности, ’’Знание - сила”, 1976, № 6 -7 .
Лапин Б., Под счастливой звездой, М., 1982.
Ларионова О., Сказка королей, НФ, вып. 21, М., 1979.
Ларионова О., Знаки зодиака, М., 1983.
Левчин Р., По спирали, ’’Знание - сила”, 1975, № 3.
Малик Т., Преступный Муталиб, Фантастика 83, М., 1983.
Мартынов Г., Сто одиннадцатый, М., 1979.
Медведев Ю., Колесница времени, М., 1983.
Мееров А., Осторожно, чужие! Донецк, 1979.
Михановский В., Стрела и колос, Фантастика 80, М., 1980.
Михановский В., Свет над тайгой, М., 1982.
Михайлов В., Тогда придите, и рассудим, Рига, 1983.
Назаров В., Зеленые двери Земли, М., 1978.
Назаров В., Дороги надежд, М., 1982.
Немцов В., Когда приближаются дали... М., 1975.
Непомящий Т., Казуаль, Фантастика 83, М., 1983.
Осинский В., Что там?, Тбилиси, 1975.
Павлов С., ’’Лунная радуга”, М., 1978.
Павлов С., ’’Лунная радуга” (кн. 2), М., 1983.
Подколзин И., Когда засмеется сфинкс, М., 1983.
Попов Г., За тридевять планет, Минск, 1976.
Попов Е., Невидий, Киев, 1980.
Пригорницкий Ю., Сказка о сказке, Киев, 1983.
Пухов М., Картинная галерея, М., 1977.
Пухов М., Семя зла, ’’Искатель”, 1981, № 3.
Пухов М., Звездные дожди, М., 1982.
Рахманин Б., Часы без стрелок, в кн.: Повести о войне, М., 1975.
Росоховатский И., Ритм жизни, ’’Техника молодежи”, 1975, № 11.
Росоховатский И., Гость, М., 1979.
Рыбин В., Здравствуй, Галактика! М., 1981.
Савченко В., Открытие себя, Киев, 1983.
Савченко В., Алгоритм успеха, М., 1983.
Слепынин С., Звездные берега, Свердловск, 1976.
Снегов С., Посол без верительных грамот, М., 1977.
Снегов С., Экспедиция в иномир, М., 1983.
Стругацкий А., Стругацкий Б., За миллиард лет до конца света,
’’Знание - сила”, 1976, № 10-12, 1977, № 1-2.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Жук в муравейнике, (Фиджи?), б. д.
(1979-80).
Стругацкий А., Стругацкий Б., Повесть о дружбе и недружбе, Мир
приключений, М., 1980.
427
Стругацкий А., Стругацкий Б., Машина желаний, НФ, вып. 25, М.,
1981.
Сухинов С., Смерть Галахада, Мир приключений, М., 1983.
Тупицын Ю., В дебрях Даль-Гея, М., 1978.
Тупицын Ю., Перед дальней дорогой, М., 1978.
Тупицын Ю., Красные журавли, М., 1982.
Фарниев К., Забытое племя, Орджоникидзе, 1982.
Фирсов В., Срубить Крест, Мир приключений, М., 1984.
Хачатурьянц Л., Хрунов Е., Путь к Марсу, М., 1979.
Хачатурьянц Л., Хрунов Е., На астероиде, М., 1984.
Цыганов Л., Переводные картинки, Мир приключений, М., 1983.
Чернер Ю., Особая точка, Симферополь, 1982.
Чернолусский М., Фаэтон, М., 1982.
Шалимов А., Возвращение последнего Атланта, Л., 1983.
Шах Г., О, марсиане! Мир приключений, М., 1980.
Шах Г., Нет повести печальнее на свете, М., 1984.
Шашурин Д., Печорный день, М., 1979.
Шефнер В., Лачуга должника, Л., 1983.
Щербаков В., Красные кони, М., 1976.
Щербаков В., Семь стихий, М., 1980.
Юрьев 3., Быстрые сны, М., 1977.
Юрьев 3., Черный Яша, НФ, вып. 20, М., 1979.
Юрьев 3., Часы без пружины, М., 1984.
Ягупова С., Феномен Табачковой, Симферополь, 1979.
Якубовский А., Космический блюститель, Фантастика 75-76, М.,
1976.
Якубовский А., Купол Галактики, М., 1976.
ЛИТЕРАТУРА О НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ И УТОПИИ
Альтов Г., Краски для фантазии, Фантастика 71, М., 1971.
Альтов Г., Вектор фантазии, Фантастика 73-7 4 , М., 1974.
Альтов Г., Этюды о фантазии, НФ, вып. 22, М., 1980.
Андреев К., Мир завтрашнего дня, ’’Новый мир”, 1959, № 6.
Андреев К., Что же такое научная фантастика? Фантастика 82, М.,
1982.
Бестужев-Лада И., Сто лиц фантастики, в кн.: Библиотека современной
фантастики, т. 19, М., 1967.
Бестужев-Лада И., Будущее человечества: утопии и прогнозы, НФ,
вып. 7, М., 1967.
428
Бестужев-Лада И., Как люди вовремя разглядели опасность, НФ,
вып. 21, М., 1979.
Биленкин Д., Фантастика и подделка, Фантастика 1965, вып. 2, М.,
1965.
Биленкин Д., Магия героя, ’’Литературная газета”, 29 янв. 1969.
Биленкин Д., Сила воображения, Мир приключений, М., 1977.
Биленкин Д., Импульс фантастики, Фантастика 73-74, М., 1974.
Болховитинов В., Захарченко В., В мире бредовой фантастики, ’’Литературная
газета”, 27 марта 1948.
Брандис Е., Научная фантастика и моделирование мира будущего,
’’Нева”, 1969, №2.
Брандис Е., Новые рубежи фантастики, в кн.: В конце семидесятых,
Л., 1980.
Брандис Е., Миллиарды граней будущего, НФ, вып. 24, М., 1981.
Брандис Е., Дмитревский В., Через горы времени, М.-Л., 1963.
Брандис Е., Дмитревский В., Век нынешний и век грядущий, в кн.:
Новая сигнальная, М., 1963.
Брандис Е., Дмитревский В., Фантасты пишут для всех! ’’Литературная
газета”, 1 февр. 1966.
Брандис Е., Дмитревский В., Тема ’’предупреждения” в научной фантастике,
в кн.: Вахта ’’Арамиса”, Л., 1967.
Брандис Е., Дмитревский В., Реальность фантастики, ’’Нева”, 1972,
№ 4 .
Бритиков А., Русский советский научно-фантастический роман, Л.,
1970.
Бритиков А., Эволюция научной фантастики, в кн.: О прогрессе в
литературе, Л., 1977.
Бритиков А., Проблемы изучения научной фантастики, ’’Русская литература”,
1980, № 1.
Бритиков А., Целесообразность красоты в эстетике Ивана Ефремова,
в кн.: Творческие взгляды советских писателей, Л., 1981.
Бугров В., О фантастике всерьез и с улыбкой, Мир приключений, М.,
1978.
Васильева В., Новаторство ли это? ’’Литературная газета”, 15 окт.
1969.
Взять верный курс, ’’Литература и жизнь”, 9 июня 1958.
Воздвиженская А., Продолжая споры о фантастике, ’’Вопросы литературы”,
1981, № 8.
Высокое Н., Зови вперед и выше! ’’Литературная газета”, 7 янв.
1970.
429
Гаков В., Рассвет космической эры, НФ, вып. 27, М., 1982.
Гаков В., Четыре путешествия на машине времени, М., 1983.
Гансовский С., Наука и фантазия, НФ, вып. 8, М., 1970.
Гор Г., Жизнь далекая, жизнь близкая, ’’Литературная газета”,
22 окт. 1969.
Горбовский А., Стучавшие в дверь бессмертия, НФ, вып. 9, М., 1970.
Горловский А., Время фантастики, ’’Юность”, 1967, № 1.
Горловский А., Время фантастики, ’’Детская литература”, 1976, № 7.
Громова А., Золушка, ’’Литературная газета”, 1 февр. 1964.
Громова А., Двойной лик грядущего, НФ, вып. 1, М., 1964.
Громова А., Не созерцание, а исследование, ’’Литературная газета”,
7 янв. 1970.
Громова А., Зигзаги фантастики, ’’Литературная газета”, 19 апр.
1972.
Гумилевский Л., Закон жанра, ’’Литературная газета”, 14 июня 1947.
Гуминский В., О русской фантастике, в кн.: Взгляд сквозь столетия.
Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века, М., 1977.
Гуревич Г., Карта Страны фантазии, М., 1967.
Гуревич Г., Понимать фантастику, Мир приключений, М., 1984.
Днепров А., Тропы в незнаемое, ’’Вопросы литературы”, 1964, № 8.
Долгушин Ю., Поговорим всерьез, ’’Новый мир”, 1954, № 12.
Евдокимов А., Советская фантастика (опыт библиографии). 1917—
1945, Фантастика 1967, вып. 1, М., 1968; Фантастика 1968, М.,
1969; Фантастика 69-70, М., 1970.
Евгеньев Б., Рассказы о необыкновенном, ’’Новый мир”, 1946,
№ 1- 2.
Ефремов И., На пути к роману ’’Туманность Андромеды”, ’’Вопросы
литературы”, 1961, № 4.
Ефремов И., Наклонный горизонт, ’’Вопросы литературы”, 1962, № 8.
Ефремов И., Наука и научная фантастика, Фантастика 1962, М.,
1962.
Ефремов И., Сражение за будущее, ’’Литературная Россия”, 4 февр.
1966.
Ефремов И., Да, ради приключений, ’’Литературная газета”, 12 марта
1969.
Ефремов И., Космос и палеонтология, НФ, вып. 12, М., 1972.
Ефремов И., По ориентирам чувств, ’’Литературная газета”, 12 янв.
1972.
Иванов С., Фантастика и действительность, ’’Октябрь”, 1950, № 1.
Ивановская А., ’’Аэлита” Алексея Толстого, Фантастика 83, М.,
1983.
430
К итогам Всероссийского совещания по научно-фантастической и
приключенческой литературе, ’’Литературная газета”, 8 июля
1958.
Кагарлицкий Ю., Что такое фантастика? М., 1974.
Кагарлицкий Ю., Фантастика ищет новые пути, ’’Вопросы литературы”,
1974, № 10.
Калмыков С., В поисках ’’зеленой палочки”, в кн.: Вечное солнце.
Русская социальная утопия и научная фантастика (вторая половина
XIX - начало XX века), М., 1979.
Казанцев А., Луч мечты или потемки? ’’Литературная газета”, 17 дек.
1964.
Казанцев А., Из космоса в прошлое, НФ, вып. 12, М., 1972.
Коган Л., Обедненный жанр, ’’Известия”, 24 нояб. 1964.
Коган Л., Фантастика должна быть богаче! ’’Литературная газета”,
17 дек. 1964.
Комарова В., Гость 1920-го, Фантастика 80, М., 1980.
Коптилов В., Окно в грядущее, ’’Радуга”, 1965, № 8.
Ларин С., Пафос современной фантастики, в кн.: Черный столб,
М., 1962.
Лебедев А., На грани и за гранью, ’’Новый мир”, 1964, № 6.
Лем С., Литература, проецирующая миры, ’’Литературная газета”,
3 д е к .1969.
Ляпунов Б., В мире мечты, М., 1970.
Ляпунов Б., Любителям научной фантастики, Мир приключений,
М., 1971.
Ляпунов Б., Советская фантастика (опыт библиографии). 1946—
1956, Фантастика 71, М., 1971.
Ляпунов Б., В мире фантастики, М., 1975.
Ляпунова И., Советская фантастика (опыт библиографии). 1957—
1960, Фантастика 72, М., 1972, Фантастика 73-74, М., 1975.
Медведев Ю., Грядущего Великое Кольцо, Фантастика 82, М., 1982.
Милош Ч., Фантастика и пришествие Антихриста, ’’Культура”, Париж,
1971, №2.
Немцов В., Для кого пишут фантасты? ’’Известия”, 19 янв. 1966.
Нудельман Р., Разговор в купе, Фантастика 1964, М., 1964.
Нудельман Р., Фантастика, рожденная революцией, Фантастика 1966,
вып. 3, М., 1966.
Нудельман Р., Мысль ученого, образ художника, ’’Литературная газета”,
4 марта 1970.
Нуйкин А., Фантастика как эстетическая проблема, ’’Детская литература”,
1976, №6.
431
Орлов В., Фантастика и реальность, ’’Литературная газета”, 20 июля
1946.
Осипов А., Советская фантастика (опыт библиографии). 1965-1977,
Фантастика 7 5 -7 6 , М., 1976; Фантастика 77, М., 1977; Фантастика
78, М., 1978; Фантастика 79, М., 1979.
Осипов А., Фантастика в творчестве писателей-сибиряков (библиография)
, в кн.: Зеленый поезд. Фантасты Сибири, М., 1976.
Палей А., Рассказы и повести И. Ефремова, ’’Новый мир”, 1956, № 11.
Парнов Е., Современная научная фантастика, М., 1968.
Парнов Е., Фантастика ’’чистая” и ’’нечистая”, ’’Смена”, 1971, № 11.
Парнов Е., Фантастика в век НТР, М., 1974.
Парнов Е., Галактическое кольцо, НФ, вып. 24, М., 1981.
Парнов Е., Два лика Януса, НФ, вып. 26, М., 1982.
По дольный Р., Фантастическая этнография и этнографическая фантастика,
Фантастика 73-74, М., 1975.
Ревич В., Реализм фантастики, Фантастика 1968, М., 1969.
Ревич В., Приключений ради, ’’Литературная газета”, 19 февр. 1969.
Ревич В., Полигон воображения, Фантастика 69-7 0 , М., 1970.
Ревич В., Не быль, но и не выдумка. Заметки о русской дореволюционной
фантастике, Фантастика 71, М., 1971.
Ревич В., На земле и в космосе. Заметки о советской фантастике,
Мир приключений, М., 1974; ежегодная рубрика (отсутствует в
Мире приключений, М., 1984); сопровождается библиографией.
Ревич В., Мы вброшены в невероятность, НФ, вып. 28, М., 1983.
Роднянская И., Перед выбором, ’’Вопросы литературы”, 1963, № 7.
Руднев Д., Замкнутый мир современной русской фантастики, ’’Грани”,
1970, № 78, 1971, №79.
Рюриков Ю., Через 100 и 1000 лет, ’’Новый мир”, 1959, № 12.
Рюриков Ю., Люди будущего, ’’Комсомольская правда”, 17 марта,
1960.
Селезнев Ю., Фантастическое в современной прозе, Фантастика 78,
М., 1978.
Симонян К., Не цель, а средство, ’’Детская литература”, 1976, № 4.
Синявский А., Без скидок, ’’Вопросы литературы”, 1960, № 1.
Смелков Ю., Фантастика - о чем она? М., 1974.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Через настоящее - в будущее, ’’Вопросы
литературы”, 1964, № 8.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Нет, фантастика богаче! ’’Литературная
газета” , 3 дек. 1964.
Стругацкий А., Стругацкий Б., Давайте думать о будущем, ’’Литературная
газета”, 4 февр. 1970.
432
Тамарченко Е., Мир без дистанции, ’’Вопросы литературы”, 1968,
№ И .
Урбан А., Фантастическая или философская? ’’Нева”, 1965, № 7.
Урбан А., Фантастика и наш мир, Л., 1972.
Успенский Л., Приключения языка, ’’Звезда”, 1958, № 9.
Файнбург 3., Иллюзия простоты, ’’Литературная газета”, 17 сент.
1969.
Фантасты рассказывают. На пороге 2000 года, ’’Литературная газета”,
4 янв.1984.
Францев Ю., Космос фантастики, ’’Известия”, 26 мая 1966.
Черная Н., В мире мечты и предвидения, Киев, 1972.
Чернышев А., Пронин В., Метаморфозы фантастики, ’’Литературная
газета”, 8 авг. 1973.
Чернышева Т., Человек и среда в современной научно-фантастической
литературе, Фантастика 1968, М., 1969.
Чернышева Т., Научная фантастика и современное мифотворчество,
Фантастика 71, М., 1971.
Чумаков В., О разновидностях фантастики в литературе, в кн.: Литературные
направления и стили, М., 1975.
Шефнер В., Обыденное в сказочном и необычайное в будничном, ’’Литературная
газета”, 29 окт. 1969.
Aldiss В., Billion Year Spree, New York, 1974.
Amis K., New Maps of Hell, London, 1969.
Baudin H., La Science-fiction, Paris, 1971.
Bergier J., Preface et choix, in: Les meilleures histoires de la sciencefiction
sovietique, Venders, 1972.
Bogdanoff I. et G., Clefs pour la science-fiction, Paris, 1976.
Bryner C., The Future in Soviet Science Fiction, in: Survey, Winter,
1972.
Eizykman B., Science-fiction et capitalisme, Paris, 1973.
Fetzer L., ed., Foreword, An Anthology of pre-Revolutionary Russian
Science Fiction (Seven Utopias and a Dream), Ann Arbor, 1982.
Glad J., Extrapolations from Dystopias: a Critical Study of Soviet Science
Fiction, Princeton, 1982.
Gattegno J., La Science-fiction, Paris, 1971.
Goimard J., La Science-fiction quand elle vient de l’Est, in: Le Monde,
14 juin 1973.
Heller L., De la Science-fiction sovietique, Lausanne, 1979.
Heller L., preface, choix et commentaire, Le Livre d’or de la sciencefiction
sovietique, Paris, 1983.
433
Lahana J., Les Mondes paralleles de la science-fiction sovietique, Lausanne,
1919.
Le Guin U., The Stalin in the Soul, in: The Language of the Night, New
York, 1982.
Lem S., Fantastyka i futurologia, Krakow, 1970.
Manuel F., ed., Utopia and Utopian Thought, Boston, 1967.
Marshack A., Science Fiction Soviet Style, in: Saturday Review, June 2,
1956.
Mumford L., The Story of Utopias, New York, 1971.
Rose M., ed., Science Fiction, Englewood Cliffs, N. J., 1976.
Ross N., Utopie et anti-utopie dans la litterature fantastique actuelle de
TU. R. S. S., in: Annuaire de l’U. R. S. S., Strasbourg, 1970-1971.
Rullkotter B., Die Wissenschaftliche Phantastik der Sowjetunion, Bern-
Frankfurt/M., 1974.
Rullkotter B., Bogdanov, Politiker und Phantast, Nachw., in: A. Bogdanov,
Krasnaja zvezda. Inzener Menni, Nachdruck, Hamburg, 1979.
Ruyer R., L’Utopie et les utopies, Paris, 1950.
Sadoul J., Histoire de la science-fiction moderne, Paris, 1973.
Scholes R., Rabkin E., Science Fiction, Oxford, 1977.
Servier J., Histoire de l’utopie, Paris, 1977.
Smuszkiewicz A., Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Wroclaw-
Warszawa-Krakow-Gdansk, 1980.
Suvin D., De la Tradition utopique dans la science-fiction russe, in: Communautes,
janvier-juin, 1970, n° 27.
Suvin D., Criticism of the Strugatskii Brothers’ Work, in: Canadian-American
Slavic Studies, vol. VI, n° 2, Summer 1972.
Suvin D., The Time Machine vs Utopia as a Structural Model for Science-
Fiction, in: Comparative Literature Studies, vol. X n° 4, December
1973.
Suvin D., The Literary Opus of the Strugatskii Brothers, in: Canadian-
American Slavic Studies, vol. VIII n° 3, Fall 1974.
Suvin D., Russian Science-Fiction. 1956-1974: a Bibliography, Elizabethtown,
NY, 1976.
Swietochowski A., Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa, 1910.
Townsend A., Soviet Science Fiction, in: The Listener, October 24, 1963.
Williamson J., People Machines, New York, 1971.
Wollheim D., Les Faiseurs d’univers, Paris, 1974.
Yershov P., Science Fiction and Utopian Fantasy in Soviet Literature, New
York, 1954 (mimeogr.).
Zveteremich P., Fantastico grotesco assurdo e satira nella narrativa russa
d’oggi (1956-1980), Messina, 1980.
434
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абель Р., 384
Абрамов С., 393
Абрамов Ф., 232, 390
Абрамовы А., С, 196, 197, 362,
385
Адамов А., 371
Адамов Г., 78, 79, 100, 378
Адамович А., 393
Ажаев В., 153, 163
Азимов А., 10, 82, 148, 177,
213
Айтматов Ч., 369, 387, 389,
390
Аксенов В., 155, 162, 191,
214,297,369,391
Алдан-Семенов А., 98, 233
Александровский В., 51.
Алексеев Г., 60
Алексеев М., 145, 146,147,
154
Алексеев О., 392
Альтов Г., ИЗ, 116, 126, 127,
128, 132, 150, 172-176, 197,
198, 233,362
Амальрик А., 370
Аматуни П., 378
Амосов Н., 310, 315
Амфитеатров А., 39
Андреев А., 81
Андреев К., 191, 194
Андреев Л., 39, 42
Андреев Ю., 180, 181, 182
Анчаров М., 309, 311, 315,
369
Арбатова А., 370
Арватов Б., 53
Арельский Г., 63
Аросев А., 61
Арсеньев В., 319
Асеев Н., 51, 61
Астафьев В., 389
Ахметов С, 392
Бабаевский С , 86,163,192, 211
Бабаян С., 392
Багряк IL, 108
Байдуков Г., 77
Балабуха А., 214
Баллард Д., 83, 177
Балтер Б., 199, 200
Бальзак О., 178
Баранская Н., 236
Баратынский Е., 30
Барт Р., 204
Бахнов В., 237, 238, 240, 242,
243, 365,370, 374
Бахтин М., 388
Беккет С., 10, 371
Белинков А., 391
Белинский В., 96, 341, 349
Беллами Э., 42, 90, 93, 100
Белов В., 369
Беломор А., 40
Белый А., 39,210, 371
Беляев А. А., 387
Беляев А. Р., 63, 64, 72-75,
76, 101, 154, 216, 363, 367, 377
Беме Я., 309
Бенкендорф А., 23
Бердник О., 107, 110, 178
Бердяев Н., 37, 69
Бержерак С., 26
Берроуз Э., 56
Бестер А., 177, 213
Биленкин Д., 160, 170, 313,
393,398
435
Битов А., 155
Блаватская Е., 171
Блок А., 39
Блюм В., 219, 220, 221
Бобров С., 57, 60, 83
Богданов А., 44, 45, 50, 52, 62,
88,96,350, 392
Богданов Ф., 60
Богданович П., 27
Бовин Г., 111
Богомолов В., 393
Боков Н., 370
Бондарев Ю., 318, 387, 390
Борум А., 40
Борхес X. Л. 10, 371
Борщуков В., 387
Брандис Е., 356
Браннер Д., 83, 172
Бредбери Р., 148, 176, 212, 213,
392
Брежнев Л., 389
Брик О., 53
Бритиков А., 77, 254, 255,
360-363
Бродский И., 92
Брюсов В., 12, 39, 4 1 -4 2 , 56,
64,96
Буданцев С., 60
Булгаков М., 6 6 -6 7 , 71, 209,
234, 235,243,251,308, 328,
365,367,371
Булгарин Ф., 28, 29, 30, 32
Булычев К., 161, 162, 163,
170,213,217,236, 374, 379,
381,392, 398
Бульвер-Литтон Э., 16
Бунин И., 39
Бурлюк Д., 46
Буссенар Л., 107
Бухарин Н., 61
Буццати Д., 10
Быков В., 393
Бьютнер Р., 334
Бээкман Э., 374
Вагинов К., 186, 210
Ван Вогт А., 334
Ванюшин В., 106,107, 362
Варшавский И., 215-217, 236,
362, 364, 365, 368, 374, 378,
397
Василий, архиепископ новгородский,
18
Введенский А., 210
Велтистов Е., 154, 156
Вельтман А., 27, 28, 29, 33
Верн Ж., 40, 57, 68, 106, 171,
363,367
Вернадский В., 38, 352
Вертов Д., 53
Веселый А., 213
Веснины А., В., Л., братья, 53
Викторов Р., 392
Вилье де л’Иль Адам О., 16
Винер Н., 351
Винник А., 107
Вишневский В., 179
Владимов Г., 221, 371
Владко В., 101
Войнович В., 155, 221, 236,
371
Войскунский Е., 124, 144, 152,
156,214
Волгин С., 110
Волков К., 101, 109, 110
Волоцкий И., 21
Волошин М., 321
Вольтер, 221
Вольф Т., 83
Воронский А., 232
Вышинский А., 243
436
Гайдар А., 75, 76
Ган А., 53
Гансовский С, 170
Гастев А., 5 1-52, 54, 55, 61,
62, 66, 70, 89, 97, 98, 221, 352
Гейзенберг В., 100
Гегель Г. В. Ф., 152
Генри О., 234
Герасимов М., 51, 53
Герберт Ф., 172
Гернсбек X., 171
Герцен А., 91
Герцка Т., 93
Гесснер С., 26
Гете И. В., 26
Гиппиус 3., 39
Гладилин А., 155, 213, 214,
297
Гладков Ф., 68, 85,130
Глебов А., 120
Глинка Ф., 30
Гоголь Н., 9, 27,33,38, 234
Голованов Я., 214
Гонкур Э., Ж., братья, 16
Гончар О., 195
Гончаров В., 59
Гор Г., 118, 124, 137-140,
160, 168, 184-186, 362, 366,
378, 379, 397
Горбовский А., 170, 182, 217,
314,315,374
Горький М., 69, 82, 84, 107,
202,219
Готорн Н., 16
Гранин Д., 119, 120
Гребнев Г., 101
Греч Н., 27
Грибачев Н., 211
Григорьев В., 160, 213
Григорьев С., 60
Грин А., 65, 71
Громова А., 120, 137, 156, 170,
186-189, 214,315,361, 362,
363,365,378,379
Гроссман В., 146,163, 391
Гумбольдт фон А., 27
Гуревич Г., 82, 104, 105, 113,
114, 116, 118, 121, 123, 124,
126, 140, 144, 147, 151, 154,
185,195, 399
Гусев С., 219, 221
Даниэль Ю., 92, 370
Делани С., 83,172
Демидов А., 86
Дидро Д., 221
Диккенс Ч., 234
Дикий А., 53
Дионисий, 207
Дмитревский В., 356
Днепров А., 112, 124, 129, 132,
150
Долгушин Ю., 79
Дос Пассос Д., 83,172
Достоевский Ф., 8,33,35,36,
37, 38, 44, 167, 205, 309, 349,
365
Дудинцев В., 98, 99, 121, 146,
194
Дунтау М., 105
Евтушенко Е., 369, 388
Емцев М., 156, 170, 214, 308,
380
Ермаш А., 392
Ермилов В., 233
Ермолай-Еразм, 21
Ерофеев В., 221, 371
Есенин С., 53, 54, 68
Ефремов И., 88, 90, 93-100,
102, 116, 117, 118, 124, 143,
144, 147, 164-168, 175, 198,
437
2 8 8 ,3 1 7 -3 2 7 ,3 2 9 -3 5 8 , 362,
365,373, 377,378
Ефросин, 19, 20
Жаколио,107
Жданов А., 328, 364
Железников Н., 63
Жемайтис С., 147, 156
Житомирский С., 104
Жулавский Е., 56
Журавлева В., 111, 116, 117,
122,150,175, 197, 198
Журбина Е., 220
Забелин И., 113, 125, 154, 194
Заболоцкий Н., 12, 64, 68, 78,
210,234,365
Залыгин С., 232, 318, 369
Замятин Е., 49, 50, 52, 55, 66,
7 6 ,8 3 ,8 4 ,9 1 ,2 1 9 , 352, 365,
371,372
Захарьин П., 24
Зелазни Р., 172
Зеликович Э., 60
Зиновьев А., 371, 399
Златовратский Н., 36
Зорге Р., 384
Зощенко М., 213, 234, 235
Зубков Б., 217
Иван Грозный, 21
Иванов Вс., 60, 83, 208
Иванов С., 81, 82, 84
Иванов-Разумник Р., 349
Ильин М., 69
Ильф И., 144,220, 221,232,
2 3 3 -2 3 6,237,289,315
Иоахим Флорский, 17
Ионеско Э., 371
Ирвинг В., 27
Искандер Ф., 222
ИтинВ., 61,62, 70
Каверин В., 57, 239
Казакевич Э., 145, 391
Казанцев А., 79, 101, 147, 164,
311,378
Кайзер Г., 45
Кампанелла Т., 90
Кантемир А., 23
Караваева А., 130
Карамзин Н., 22, 24
Карпов Н., 60
Кассиль Л., 75
Катаев В., 60, 71, 186
Каттнер Г., 213
Кафка Ф., 9, 249, 251, 367, 371
Киплинг Р., 107
Кириллов В., 51
Кларк А., 213
Клибанов А., 20
Клименко М., 213
Клычков С., 54, 65, 371
Клюев Н., 53, 54
Княжнин Я., 23
Ковалевская С., 32
Коган IL, 219
Коллонтай А., 61, 341
Колпаков А., 109
Колупаев В., 156, 160, 163, 227,
230,232, 289, 398
Кольцов М., 218
Кондратов А., 370
Кочетов В., 134, 211
Красницкий А., 40
Красногорский В., 40
Кроманов Г., 381
Крутиков Г., 62
Крученых А., 46
Крыжановская-Рочестер В., 41
Кудряшев И., 62
Кузнецов А., 155
438
Кузнецов Н., 384
Купер Ф., 107
Куприн А., 39, 40, 42, 96
Кущевский И., 36, 62
Кювье Ж., 27
Кюхельбекер В., 28, 29, 30
Лавренев Б., 60, 213
Лавров П., 33
Лагин Л., 105,257,258, 362
Лакшин В., 180, 181
Ланг Ф., 45
Лапин Б., 394
Ларионов М., 46
Ларионова О., 133, 134, 170,
171, 176,398
Ларри Я., 61, 63, 69, 70, 87, 88,
96,328
Лев шин В., 26
Лем С., 172, 175, 191,201,213,
216,355,356,368, 392
Ленин В., 44, 45, 50, 54, 55, 61,
88, 142, 204, 206, 209, 219, 276,
280,285,287,312,326,333,354
Леонтьев К., 366
Лепешинская О., 212, 283
Лесков Н., 33
Либединский Ю., 56
Липшиц Я., 205
Лисицкий Э., 62
Лихачев Д., 15, 21
Лобачевский Н., 32
Ловкрафт Г. Ф., 171
Лондон Д., 56, 58
Лотман Ю., 211, 388
Лукодьянов И., 124, 144, 152,
156,214
Лунц Л., 57
Лысенко Т., 212, 283, 364
Любимов Ю., 391
Ля к ид э А., 40
Ляшенко М., 112, 124
Мабли Г. 22
Максим Грек, 21
Максимов А., 283
Малашкин А., 51
Малевич К., 46, 53, 62
Маленков Г., 221, 370
Малик Т., 392
Мальцев Е., 211
Мальцев Ю., 7
Мамлеев Ю., 370
Мандельштам О., 322, 323, 357,
365
Маркс К., 45, 275, 276, 27 8 -
281,282, 283,287,306,312,
335
Маркузе Г., 93
Мартынов Г., 101, 116, 117,
118,124, 140, 143, 147, 149,
152, 197, 362, 378
Матросов А., 148
Мах Э., 45
Маяковский В., 12, 46, 53, 60,
61,68,204,211
Мееров А., 163
Межелайтис Э., 97
Мейерхольд В., 53, 62
Мендель И. Г., 100
Мережковский К., 43
Меррит А., 171
Мечников И., 96
Митин М., 282
Михайлов В., 383, 398, 399
Михалков С., 222
Михановский В., 124, 156
Можаев Б., 232, 369
Мольер, 221
МорТ., 2 2 ,2 3 ,9 0
Моррис У., 42, 43, 54, 90, 100
Морской А., 42
439
Мугуев X. - М., 108
Муслин Е., 217
Муханов Н., 63
Набоков В., 9
Неизвестный Э., 390, 391
Некрасов В., 391
Немцов В., 79, 80,100,101,
105, 154,222, 225,226,319,
362, 378, 397
Немченко М., Л., 130, 132
Никольский В., 63, 88, 96
Ницше Ф., 38,45
Новиков В., 110
Новиков Н., 25
Новиков-Прибой А., 321
Нудельман Р., 137, 156, 214,
315,361,379
Нусинов И., 220
Обручев В., 63, 319, 377
Обухова Л., 217, 313, 315
Овсянико-Куликовский Д., 33
Одоевский В., 27, 29, 30-31,
33, 36,42
Окунев Я., 60, 88
Олеша Ю., 66, 7 1 ,7 5 ,9 8 ,1 6 5 ,
202
Оливер Ч., 213
Олигер Н., 42, 43, 96
Оношко Л., 109, 110
Опарин А., 333, 334
Орвелл Д., 209, 346
Орешин П., 54
Орлов В., 369
Орловский В., 58
Оссендовский А., 40, 45,46, 60
Оуэн Р., 93
Охотников В., 80, 319
Павленко П., 77
Павлов И., 212
Павлов Н., 27
Павлов С., 156, 214, 383, 392
Павлова М., 370
Палей А., 63, 378
Панферов Ф., 70
Парнов Е., 156, 170, 214, 308,
380
Паскаль Б., 307
Пастернак Б., 365
Пастрак М., 392
Патрикеев В., 21
Паунд Э., 83
Пересветов И., 21
Пермяк Е., 81
Пестель П., 30
Петров Е., 144, 220, 221, 232,
233-236, 237, 289,315
Пильняк Б., 210
Пирогов Н., 32, 96
Писарев Д., 33
Платов Л., 378
Платон, 90, 143
Платонов А., 55, 61, 64, 67-68,
71, 78, 213, 234, 235, 243, 365
Плеханов Г., 142, 276, 333
Плотин, 306
Плутарх, 22
По Э. А., 16, 30
Погорельский А., 27
Подколзин И., 393
Подольный Р., 217
Полетаев И., 103
Полещук А., 112, 195
Полоцкий С., 21
Померанцев В., 91, 155
Попов М., 26
Преображенский Е., 44, 61
Прокопович Ф., 22
Проханов А., 387
Прутков Козьма, 234
440
Пухов М., 385, 386
Пушкин А., 27
Радищев А., 23, 25
Радлов С., 53
Разговоров Н., 217
Распутин В., 179, 233, 387,
389,390
Рахманин Б., 393
Ремизов А., 39
Рерих Н., 345
Рид Т. Майн, 107
Ровнер А., 370
Родченко А., 53
Росоховатский И., 195, 396,
397
Ростропович М., 391
Рублев А., 207
Руссо Ж.-Ж., 22
Рыбак Н., 321
Рюийе Р., 92, 93
Сабиров Р., 392
Савченко В., 113, 118, 146, 155,
156, 168, 170, 214, 236, 2 8 7 -
289, 292, 294-298, 304-308,
315,345,362,374, 379, 396, 397
Сагабалян Р., 392
Садофьев И., 54
Саймак К., 213
Сакулин П., 90
Салтыков-Щедрин М., 10, 3 4 -
3 5 ,9 3 ,2 2 1 ,2 4 3 ,3 7 0
Сапарин В., 113, 116, 140, 149,
197,362
Сафроновы Ю., С., 101
Свирский Г., 7
Свирский Э., 155
Свифт Д., 27,93,221
Сельвинский И., 12, 61
Семенов Ю., 384, 386
Семенов-Тян-Шанский П., 319
Семин В., 236
Сенковский О., 30
Сен-Симон К. А., 34, 35, 93
Сергеев-Ценский С., 321
Сеченов И., 32, 96
Симонян К., 392
Синявский А., 86, 92, 203, 204,
205,209, 370, 372
Скиннер Б. Ф., 93
Сковорода Г., 20
Скрябин А., 96
Слонимский М., 65
Случевский К., 37, 40
Слуцкий Б., 119
Смолян А., 311
Снегов С, 124, 130, 131, 154,
178,198, 199,311,382,383,385
Солженицын А., 91, 146, 167,
221,233,365
Соллогуб В., 36
Соловьев В., 37, 38, 39, 342,
366
Сологуб Ф., 39,4 1 ,4 2 ,3 7 1
Солоухин В., 390
Сомов О., 27
Спиноза Б., 305, 306
Сталин И., 61 ,8 1 ,8 6 , 91,92,
202, 245,276,296, 320,321,
323,324,326, 354, 388
Станиславский К., 209
Старджон Т., 83
Степанова В., 53
Стерн Л., 23
Стругацкие А., Б., братья, 113,
114-116, 118, 120, 125, 137,
144,147,153,154,155,156,
168, 170, 214, 236, 243, 244,
247-249, 254-256, 257, 261—
265, 268-278, 280, 281, 288,
294, 315, 355, 362, 365, 366,
441
367, 371, 374, 375, 379-380,
381, 384, 392, 396, 397, 399,
400
Суханова Н., 309
Сухово-Кобылин А., 251
Тарасов-Родионов А., 60, 61, 66
Тарковский А., 381, 391
Татлин В., 53, 62, 204, 205
Твардовский А., 318
Твен М., 234, 328
Тейлор Ф. У., 45
Тендряков В., 232, 233
Тимофеев Л., 143
Толстой А. К., 27
Толстой А. Н., 56, 57, 60, 61,
65, 71, 109, 317, 321, 377, 378,
393
Толстой Л., 27, 37,178, 366
Томан Н., 101, 104, 105,147,
362
Тредьяковский В., 24
Третьяков С., 53
Трифонов Ю., 180, 181, 182,
233, 236
Троепольский Г., 390
Троцкий Л., 49, 204, 232
Тупицын Ю., 383
Тургенев И., 33
Улыбышев А., 30, 36
Успенский Л., 81
Уэллс Г., 3 8 ,4 2 ,4 4 ,4 5 ,5 6 ,5 7 ,
58, 96, 100, 106, 171, 257, 363,
367
Уэст Н., 83
Фадеев А., 163, 192, 391
Фармер Ф., 172, 360
Фарниев К., 393
Федин К., 109
Федоров Н., 20, 37-38, 44, 45,
4 7 ,5 0 ,6 3 -6 4 , 78, 349-353,
366,392
Феодор, владыка Тверской, 18
Феофан Грек, 207
Фесенков В., 333
Филби К., 384
Филипченко И., 51
Фильдинг Г., 221
Фирсов В., 217, 382, 383, 393
Фламмарион К., 38, 58
Флоренский П., 38, 352
Фоменко В., 193
Фосс И. Г., 26
Фрадкин Б., 104
Фрейд 3., 338, 339
Фуллер Р. Бакминстер, 93, 351
Фурье Ш., 93, 94, 96, 100, 341
Хаггард Р., 107
Хайнлайн Р., 334
Харитонов М., 370
Хармс Д., 210
Хемингуэй Э., 83
Херасков М., 24-25, 26, 31,
36,42
Хлебников В., 12, 4 6 -4 7 , 51,
61,64, 78
Хойл Ф., 213
Хрущев Н., 91, 247, 354, 375
Хэйуорд М., 387
Циолковский К., 38, 40, 47, 64,
89, 100, 352
Чаадаев А., 23, 346
Чаковский А., 386, 387
Чалмаев В., 148
Чаплин Ч., 45
Чаянов А., 54, 56, 62
Челинцев Г., 283
442
Черненко К., 354
Чернышевский Н., 34, 93, 100,
141,210, 341
Чивилихин В., 233
Чигирин И., 389
Чиколев В., 40
Чистов К., 20
Чудакова М., 136
Чужак Н., 53
Шагинян М., 58, 60, 71, 83, 130
Шаихов X., 392
Шалимов А., 170, 310, 398
Шамякин И., 389
Шампольон Ж. Ф., 27
Шарапов С., 40
Шарден Тейар де П., 352
Шаров А., 237, 239-243, 365,
370, 396, 397
Шатров С., 220
Шах Г., 178,179,183, 398
Шекли Р., 213,217
Шелест Г., 233
Шелли М., 16
Шеллинг Ф., 27, 30
Шелонский Н., 40
Шестов Л., 16
Шефнер В., 157-160, 163, 167,
398
Ширяевец А., 53
Шишков В., 321
Шкловский В., 60, 83, 330
Шмидт О., 285
Шолохов М., 146, 318
Шпанов Н., 77, 108, 393
Шпенглер О., 56
Штейнер Р., 56,171
Шукшин В., 233, 318, 369
Щербаков В., 392
Щербатов А., 23
Эвус Д., 370
Эйдельман Н., 217
Эйзенштейн С., 53, 204, 211
Эйнштейн А., 100
Элиаде М., 16
Эллисон X., 83
Эмар Г., 108
Эмин Ф., 23
Энгельс Ф., 94, 212, 276, 280,
281,282, 287,312, 335,340
Эренбург И., 55, 56, 57, 58, 66,
71,91, 103, 109,219, 296, 393
Юнг К. Г., 339
Юрьев 3., 108, 394, 396, 397
Язвицкий В., 63
Яров Р., 160
Ярославский А., 63
Ясенский Б., 60, 71
Яшин А., 191
443
СОДЕ РЖАНИЕ
Введение 5
Глава 1. Откуда есть пошла русская фантастика 14
Глава 2. Взлет и падение советской научной
фантастики 49
Глава 3. За пределы возможного 85
Глава 4. Структуры жанра: время и
пространство 122
Глава 5. Структуры жанра: литературный герой 141
Глава 6. Структуры жанра: сюжет 169
Глава 7. Структуры жанра: стиль и манера письма 202
Глава 8. Варианты мира: братья Стругацкие 257
Глава 9. Варианты мира: Владимир Савченко
и другие 282
Глава 10. Варианты мира: Иван Антонович Ефремов 317
Глава 11.. Кое-какие выводы о фантастике
60-х годов 359
Глава 12. Возвращение в пределы системы 373
Примечания 401
Библиография 416
Указатель имен 435

 СМИ не получает субсидий.
СМИ не получает субсидий.





